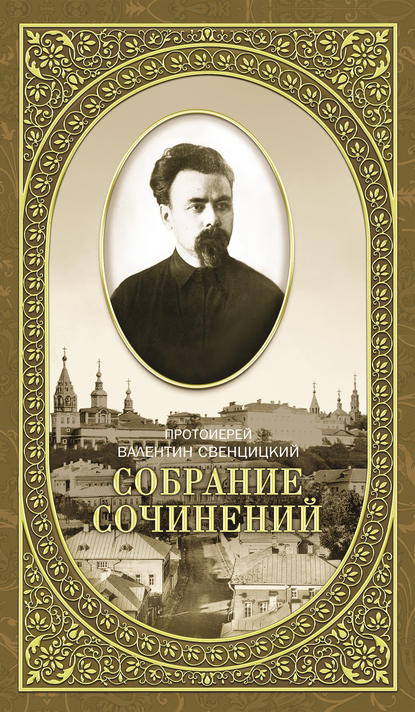По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 2. Письма ко всем. Обращения к народу 1905-1908
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Приступая к изданию «Дневника», мы твёрдо решили всеми силами бороться против той и другой лжи. Повторяем, это очень смело, это нахально – учить всю нашу литературу, как нужно писать. Пусть так. Обличая во лжи, мы не смущаемся быть даже нахальными. Мы хотим, чтобы наш дневник был плоть от плоти нашей и кость от костей наших. Чтобы мы по чистой совести могли сказать: когда мы садимся писать, пред нами стоят не «читатели», а живые люди, и этим живым людям мы хотим открыть нашу живую душу. Если что покажется здесь неуместным, или «нахальным», или «не по праву» – не беда. Какое нужно, в самом деле, право сказать истерзанному человеку: посмотри, мы истерзаны тем же? Пусть нас ругают критики и заслуженные литераторы (если удостоят, конечно), нам это не важно. Нам важно, чтобы нас поняли те, кому мы пишем, – нам важно, чтобы нас поняли «взыскующие Града».
Но кто же они такие?
* * *
Их много, очень много, гораздо больше, чем принято думать.
«Своего града не имам – нового взыскуем», – так говорил гонимый раскол, по тёмным лесам, взлелеяв свою грёзу о святом граде.
Та же тоска по святом граде лежит в основе всех общественных и идейных брожений русской интеллигенции
. Своего града нет. Он должен быть. Без него жить нельзя. И ищут его до кровавого пота, до отчаяния, до бунта, до исступлённого отрицания всякого Бога, всякого града.
Или в упрямой злобе ложатся на знойный песок. «Нашёл! Он должен быть тут. Он не может не быть!» А сам видит – ясно, что видит, нельзя не видеть – пустая, жалкая, ненужная песчаная отмель. Но попробуй сказать. С каким страстным убеждением, со слезами, задыхаясь, он скажет вам: «Доказано, наука доказала, святой град тут, в этом именно самом месте». Убить готов, коли не поддакнуть. Потому и готов убить, что знает, на чём стоит, знает, что песок голый, лучше вас знает и взыскует, взыскует в самой этой упрямой, слепой, как крот, вере своей. Нужна особая минута, какая, может быть, случается с человеком раз-два в жизни, чтобы с глазу на глаз, уставший, притихший, как больной ребёнок, он вдруг открыл вам свою исстрадавшуюся душу. Вы не смотрите, что в голосе его столько убеждений, таким острым огнём горят глаза, – чем больше силы в слове, тем ярче жажда грядущего града. Я теперь никогда не верю, что люди искренно песок принимают за святой град
, – это от нетерпения, от ревности, что найти его не удаётся.
Это «теперь» началось для меня с тех пор, как однажды пришёл ко мне N
.
Я почти не был знаком с ним. Встречались всего несколько раз. Но он был очень популярный, видный деятель, и я хорошо знал его по рассказам. Это была гордость усевшихся на песке. На него всегда ссылались, как на неопровержимое доказательство, что и песок может быть святым градом: «Вся суть в точке зрения».
Пришёл он в необычное время, почти ночью. Не раздеваясь вошёл в комнату, сел на первый попавшийся стул и не глядя на меня резко сказал:
– Можно на десять минут?
– Конечно, пожалуйста…
– Не притворяйтесь, – неожиданно крикнул он, вскакивая со стула, и, сдержавшись, быстро заходил по комнате.
Помню, странное чувство тогда охватило меня. Оно всегда бывает, когда свершается что-нибудь большое. Точно ты знаешь наперёд, что всё это обязательно так будет
, и покорно отдаёшься факту, не удивляешься, а ждёшь и предчувствуешь.
– Вы нашли? – грубо засмеялся он, останавливаясь против меня: – Вы иезуит, лжец – слышите!.. не смейте мне возражать… вы смерти боитесь. Нелепый обман, больше ничего… Бессмертие… воскресение, – лицемерное ханжество или тупоумие – выбирайте любое…
Он говорил бессвязно, не давая мне сказать слова.
– Я вам не верю, слышите: не верю ни одному вашему слову… Вы ловкий мошенник, надувающий всех… Христос, Воскресение, Церковь… Да знаете ли вы, знаете ли вы, что я плюю на вашего Христа, плюю и ногой растираю… Не морщитесь, это тоже притворство. И вам всё равно, всё равно… вы не верите…
Зачем, отвечайте мне: зачем вы, подлые изуверы, до двадцатого века донесли ваше гнусное нелепое враньё, сумасшедший бред о каком-то полубоге? Отвечайте мне: ел он? пил он? все функции совершал?
Полубог, а?.. Зачем вы мучаете людей вашим изуверством… Признайтесь мне одному с глазу на глаз… Послушайте…
Он наклонился ко мне:
– …Признайтесь… я никогда никому не скажу, клянусь вам… Скажите, что вы… ну, что вы для своего спасения… для самовнушения… одним словом… что вы Христа не признаёте, в бессмертие не верите, что вам так же страшно жить, как и всем, что вы ничего, ничего не знаете… Мой визит нелеп… Скажите это – я уйду и ни слова никогда никому…
И сразу меняя тон, не дожидаясь моего ответа (я знал, что он и не нужен ему), тихо, так что я, скорей, почувствовал, чем расслышал, сказал:
– Верите… знаю… так это я.
Вот я посижу, – с расстановкой продолжал он, – расскажу вам всё и уйду, забудьте этот нелепый вечер. Я сам не знаю, зачем к вам пришёл. Так… Всё «так» на этом свете. И больше ничего.
Мне нужно сказать вам… зачем? Чорт его знает зачем. Я ни во что не верю: в Бога не верю, в жизнь не верю, в смерть не верю, в бессмертие не верю и даже… в революцию не верю. Вы удивляетесь? Вы слышали меня на митингах? Это от отчаяния. Да, да, от злобы, что поверить не могу, так нате же, мол, вам: верю, буду верить – хочу верить и буду. Плачу, пулю готов в лоб пустить, а кричу, как фанатик… Сегодня со мной что-то делается. Вас вспомнил. Думаю: пойду скажу, что, мол, лгу я… Вы, ради Бога, молчите. Так нужно. Пришёл, выложил нутро и домой за дело… Вы нашли – ну и поздравляю вас. Прощайте. Всё это очень глупо, конечно.
Он встал и не прощаясь пошёл из комнаты. Из прихожей он крикнул мне:
– А ведь я вам новый козырь дал? Рады, поди…
Он был прав. Он действительно дал новый козырь. Кто говорит – единичным примером ничего нельзя доказывать, но мы не для доказательства и привели этот факт. Важно иногда уловить одну черту, чтобы сразу открылась вся подлинная действительность. В этом одном человеке, как в фокусе, отразилась вся психология нашего революционного движения. В нём всё то же искание неведомого, святого града
, мечтой о котором жил и раскол. Фанатизм этого движения, беспримерная сила самопожертвования, доходящая до жажды мученичества, истерическая, упрямая вера – это от нетерпения, от ревности, от мучительной, неутолимой жажды святого града. Пусть люди умирают, томятся в тюрьмах, бросают всё своё личное благополучие словесно из-за «демократической республики», для нас ясно, что за этими словами стоит жгучая грёза о всеобщем счастье, о какой-то высшей правде, которая всех примирит и искупит всю пролитую кровь. Брошюры, митинги, речи, отрицания всех сортов и видов, дерзкая бравада, всё, мол, найдено, всё доказано, узкая, досадно-пошлая, показная партийность – это одно. Это жертва какому-то бездушному, безличному богу Молоху, и тут же самая суть души, о чём постыдятся иной раз даже себе признаться, мятежное, неутолённое, мучительное искание святого града, скрытого за дремучим лесом
.
А сколько жгучей тоски об этом святом граде вложено в любви русской женщины. С восторгом и надеждой прислушивается она к первым, непонятным звукам зовущего куда-то голоса. Доверчиво, с трепетной, святой радостью, она вступает в свой град. И ей начинает казаться, что открывается новый, святой великий мир. Чем ближе кажется счастье, тем мучительней, до нетерпимой тоски, разгорается жажда скорей вместить его в свою душу. Но кто виною, что почти каждая из них своё сердце, свой град святой принимая за того, кого любит, находит вместо него циничную грязь, грубую, физическую необходимость, пустоту пошлой повседневности и, в лучшем случае, сладкий мираж, который улетает безвозвратно и неизбежно. Любовь русской женщины всегда в самой сущности своей оскорблённая любовь. Не потому ли любовь её так бесконечно близка к страданию?
Отравилась никому неизвестная, никому ненужная девушка, всеми брошенная, всеми презираемая… Может быть, и об этом говорить неприлично, как неприлично расплакаться на балу? Пусть так. Те, у кого такая же святая, такая же несчастная душа, как у неё, поймут.
Она спустилась до самого дна грязи, упрямо-сосредоточенно ища и в разврате неведомого Бога. Это юродство. Это абсурд, понятный лишь нам, русским. Проститутка, пьяная, униженная, хуже всякой собаки, она испытующе, со скорбным недоумением, всматривалась в глаза приходивших к ней мужчин. Отдавая тело своё на позор, душу свою на распятие, она, ценой нечеловеческих мук, хотела купить себе веру в Бога и жизнь… Она ждала. Она искала в вине, в грязи, в унижении своём святого, незримого града.
И он почудился ей. Почудился ей в любви. Она готова была вложить в своё чувство всю надежду свою, всю нестерпимую боль, всю неизведанную радость. Быть с ним, служить ему, душу свою отдать за него, выстрадать ему его счастье – это был первый, неясный гул, донёсшийся до неё из таинственного, так мучительно желанного града… Она погибла, потому что он не понял. И на душе его навсегда осталась ссадина её тоски.
В последний вечер она пришла, как всегда, поговорить.
– Послушайте, – сказала она, – ну, а если я не могу жизнь переменить, тогда что? Знаю, что в грехе вся, чувствую позор свой, а исправиться не могу. Что ж, жить всё-таки? Грешить, но жить?
– Я не верю в такой случай, – ответил он, – кто действительно сознает грех, тот сможет зажить по-новому
.
– Ну, а если?
– Послушайте, это нелепый пример. Поймите вы, почувствовать грех может только тот, кто почувствует любовь к людям. Всякий стыд, всякое раскаяние в основе своей носит любовь. В любви же бесконечный источник сил. Человеку дана свободная возможность в одну тысячную долю секунды из разбойника стать святым. Нужно учиться любить
.
– Это вы мне говорите, учиться любить? Мне? Я-то люблю, – странно засмеявшись, сказала она, – а вот меня-то…
– Разве…
– Не любит, – крикнула она, – когда шла сюда, думала, может быть…
Она ушла не договорив, а через два дня в газетной хронике стояло: «В N-ском переулке отравилась карболкой Н. В. М.».
Святой град не открылся ей при жизни. Да будет воля Твоя.
Но кто же они такие?
* * *
Их много, очень много, гораздо больше, чем принято думать.
«Своего града не имам – нового взыскуем», – так говорил гонимый раскол, по тёмным лесам, взлелеяв свою грёзу о святом граде.
Та же тоска по святом граде лежит в основе всех общественных и идейных брожений русской интеллигенции
. Своего града нет. Он должен быть. Без него жить нельзя. И ищут его до кровавого пота, до отчаяния, до бунта, до исступлённого отрицания всякого Бога, всякого града.
Или в упрямой злобе ложатся на знойный песок. «Нашёл! Он должен быть тут. Он не может не быть!» А сам видит – ясно, что видит, нельзя не видеть – пустая, жалкая, ненужная песчаная отмель. Но попробуй сказать. С каким страстным убеждением, со слезами, задыхаясь, он скажет вам: «Доказано, наука доказала, святой град тут, в этом именно самом месте». Убить готов, коли не поддакнуть. Потому и готов убить, что знает, на чём стоит, знает, что песок голый, лучше вас знает и взыскует, взыскует в самой этой упрямой, слепой, как крот, вере своей. Нужна особая минута, какая, может быть, случается с человеком раз-два в жизни, чтобы с глазу на глаз, уставший, притихший, как больной ребёнок, он вдруг открыл вам свою исстрадавшуюся душу. Вы не смотрите, что в голосе его столько убеждений, таким острым огнём горят глаза, – чем больше силы в слове, тем ярче жажда грядущего града. Я теперь никогда не верю, что люди искренно песок принимают за святой град
, – это от нетерпения, от ревности, что найти его не удаётся.
Это «теперь» началось для меня с тех пор, как однажды пришёл ко мне N
.
Я почти не был знаком с ним. Встречались всего несколько раз. Но он был очень популярный, видный деятель, и я хорошо знал его по рассказам. Это была гордость усевшихся на песке. На него всегда ссылались, как на неопровержимое доказательство, что и песок может быть святым градом: «Вся суть в точке зрения».
Пришёл он в необычное время, почти ночью. Не раздеваясь вошёл в комнату, сел на первый попавшийся стул и не глядя на меня резко сказал:
– Можно на десять минут?
– Конечно, пожалуйста…
– Не притворяйтесь, – неожиданно крикнул он, вскакивая со стула, и, сдержавшись, быстро заходил по комнате.
Помню, странное чувство тогда охватило меня. Оно всегда бывает, когда свершается что-нибудь большое. Точно ты знаешь наперёд, что всё это обязательно так будет
, и покорно отдаёшься факту, не удивляешься, а ждёшь и предчувствуешь.
– Вы нашли? – грубо засмеялся он, останавливаясь против меня: – Вы иезуит, лжец – слышите!.. не смейте мне возражать… вы смерти боитесь. Нелепый обман, больше ничего… Бессмертие… воскресение, – лицемерное ханжество или тупоумие – выбирайте любое…
Он говорил бессвязно, не давая мне сказать слова.
– Я вам не верю, слышите: не верю ни одному вашему слову… Вы ловкий мошенник, надувающий всех… Христос, Воскресение, Церковь… Да знаете ли вы, знаете ли вы, что я плюю на вашего Христа, плюю и ногой растираю… Не морщитесь, это тоже притворство. И вам всё равно, всё равно… вы не верите…
Зачем, отвечайте мне: зачем вы, подлые изуверы, до двадцатого века донесли ваше гнусное нелепое враньё, сумасшедший бред о каком-то полубоге? Отвечайте мне: ел он? пил он? все функции совершал?
Полубог, а?.. Зачем вы мучаете людей вашим изуверством… Признайтесь мне одному с глазу на глаз… Послушайте…
Он наклонился ко мне:
– …Признайтесь… я никогда никому не скажу, клянусь вам… Скажите, что вы… ну, что вы для своего спасения… для самовнушения… одним словом… что вы Христа не признаёте, в бессмертие не верите, что вам так же страшно жить, как и всем, что вы ничего, ничего не знаете… Мой визит нелеп… Скажите это – я уйду и ни слова никогда никому…
И сразу меняя тон, не дожидаясь моего ответа (я знал, что он и не нужен ему), тихо, так что я, скорей, почувствовал, чем расслышал, сказал:
– Верите… знаю… так это я.
Вот я посижу, – с расстановкой продолжал он, – расскажу вам всё и уйду, забудьте этот нелепый вечер. Я сам не знаю, зачем к вам пришёл. Так… Всё «так» на этом свете. И больше ничего.
Мне нужно сказать вам… зачем? Чорт его знает зачем. Я ни во что не верю: в Бога не верю, в жизнь не верю, в смерть не верю, в бессмертие не верю и даже… в революцию не верю. Вы удивляетесь? Вы слышали меня на митингах? Это от отчаяния. Да, да, от злобы, что поверить не могу, так нате же, мол, вам: верю, буду верить – хочу верить и буду. Плачу, пулю готов в лоб пустить, а кричу, как фанатик… Сегодня со мной что-то делается. Вас вспомнил. Думаю: пойду скажу, что, мол, лгу я… Вы, ради Бога, молчите. Так нужно. Пришёл, выложил нутро и домой за дело… Вы нашли – ну и поздравляю вас. Прощайте. Всё это очень глупо, конечно.
Он встал и не прощаясь пошёл из комнаты. Из прихожей он крикнул мне:
– А ведь я вам новый козырь дал? Рады, поди…
Он был прав. Он действительно дал новый козырь. Кто говорит – единичным примером ничего нельзя доказывать, но мы не для доказательства и привели этот факт. Важно иногда уловить одну черту, чтобы сразу открылась вся подлинная действительность. В этом одном человеке, как в фокусе, отразилась вся психология нашего революционного движения. В нём всё то же искание неведомого, святого града
, мечтой о котором жил и раскол. Фанатизм этого движения, беспримерная сила самопожертвования, доходящая до жажды мученичества, истерическая, упрямая вера – это от нетерпения, от ревности, от мучительной, неутолимой жажды святого града. Пусть люди умирают, томятся в тюрьмах, бросают всё своё личное благополучие словесно из-за «демократической республики», для нас ясно, что за этими словами стоит жгучая грёза о всеобщем счастье, о какой-то высшей правде, которая всех примирит и искупит всю пролитую кровь. Брошюры, митинги, речи, отрицания всех сортов и видов, дерзкая бравада, всё, мол, найдено, всё доказано, узкая, досадно-пошлая, показная партийность – это одно. Это жертва какому-то бездушному, безличному богу Молоху, и тут же самая суть души, о чём постыдятся иной раз даже себе признаться, мятежное, неутолённое, мучительное искание святого града, скрытого за дремучим лесом
.
А сколько жгучей тоски об этом святом граде вложено в любви русской женщины. С восторгом и надеждой прислушивается она к первым, непонятным звукам зовущего куда-то голоса. Доверчиво, с трепетной, святой радостью, она вступает в свой град. И ей начинает казаться, что открывается новый, святой великий мир. Чем ближе кажется счастье, тем мучительней, до нетерпимой тоски, разгорается жажда скорей вместить его в свою душу. Но кто виною, что почти каждая из них своё сердце, свой град святой принимая за того, кого любит, находит вместо него циничную грязь, грубую, физическую необходимость, пустоту пошлой повседневности и, в лучшем случае, сладкий мираж, который улетает безвозвратно и неизбежно. Любовь русской женщины всегда в самой сущности своей оскорблённая любовь. Не потому ли любовь её так бесконечно близка к страданию?
Отравилась никому неизвестная, никому ненужная девушка, всеми брошенная, всеми презираемая… Может быть, и об этом говорить неприлично, как неприлично расплакаться на балу? Пусть так. Те, у кого такая же святая, такая же несчастная душа, как у неё, поймут.
Она спустилась до самого дна грязи, упрямо-сосредоточенно ища и в разврате неведомого Бога. Это юродство. Это абсурд, понятный лишь нам, русским. Проститутка, пьяная, униженная, хуже всякой собаки, она испытующе, со скорбным недоумением, всматривалась в глаза приходивших к ней мужчин. Отдавая тело своё на позор, душу свою на распятие, она, ценой нечеловеческих мук, хотела купить себе веру в Бога и жизнь… Она ждала. Она искала в вине, в грязи, в унижении своём святого, незримого града.
И он почудился ей. Почудился ей в любви. Она готова была вложить в своё чувство всю надежду свою, всю нестерпимую боль, всю неизведанную радость. Быть с ним, служить ему, душу свою отдать за него, выстрадать ему его счастье – это был первый, неясный гул, донёсшийся до неё из таинственного, так мучительно желанного града… Она погибла, потому что он не понял. И на душе его навсегда осталась ссадина её тоски.
В последний вечер она пришла, как всегда, поговорить.
– Послушайте, – сказала она, – ну, а если я не могу жизнь переменить, тогда что? Знаю, что в грехе вся, чувствую позор свой, а исправиться не могу. Что ж, жить всё-таки? Грешить, но жить?
– Я не верю в такой случай, – ответил он, – кто действительно сознает грех, тот сможет зажить по-новому
.
– Ну, а если?
– Послушайте, это нелепый пример. Поймите вы, почувствовать грех может только тот, кто почувствует любовь к людям. Всякий стыд, всякое раскаяние в основе своей носит любовь. В любви же бесконечный источник сил. Человеку дана свободная возможность в одну тысячную долю секунды из разбойника стать святым. Нужно учиться любить
.
– Это вы мне говорите, учиться любить? Мне? Я-то люблю, – странно засмеявшись, сказала она, – а вот меня-то…
– Разве…
– Не любит, – крикнула она, – когда шла сюда, думала, может быть…
Она ушла не договорив, а через два дня в газетной хронике стояло: «В N-ском переулке отравилась карболкой Н. В. М.».
Святой град не открылся ей при жизни. Да будет воля Твоя.