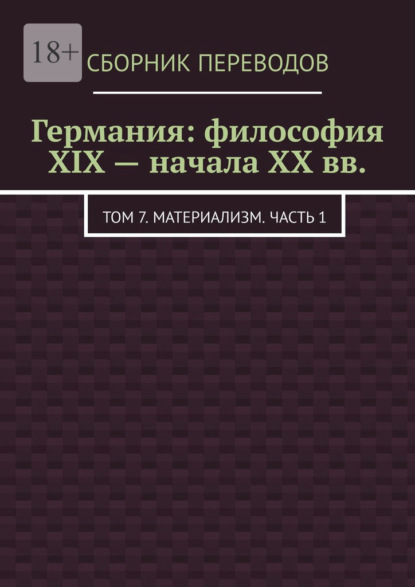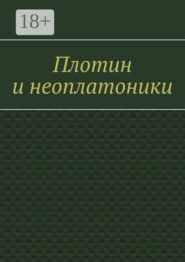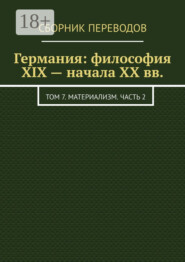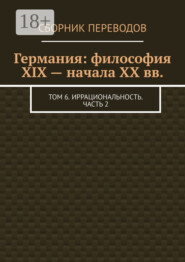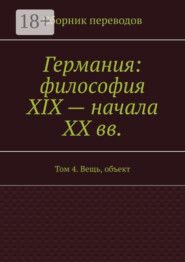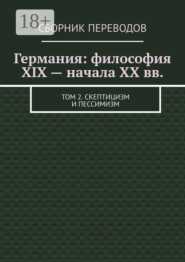По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 7. Материализм. Часть 1
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 7. Материализм. Часть 1
Валерий Алексеевич Антонов
«На протяжении всех времен люди пытались представить то, что является лишь логическим средством для понимания вещей, как самую глубокую реальность вещей» (Герман Шварц). В этом контексте материализм предстает не как простое утверждение о сущности бытия, но как философское искушение, возбуждающее умы и чувства.
Германия: философия XIX – начала XX вв.
Том 7. Материализм. Часть 1
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-7897-8 (т. 1)
ISBN 978-5-0064-7896-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Эдуард фон Гартман (1869 – 1902)
О диалектическом методе
Предисловие к первому изданию
Спустя более века после смерти Гегеля, вдали от споров философских школ и никогда не вступая в личный контакт с преподавателями философии, я решаюсь взять на себя задачу, которая, по моему мнению, еще не исчерпана, – подвергнуть диалектический метод тщательному исследованию. Много хорошего и правильного уже было сказано критиками о деталях гегелевской философии, и особенно о логике – мне остается только напомнить о главе о диалектическом методе в «Логических исследованиях» Тренделенбурга, об очерке Вайсе в «Zeitschrift» Й. Х. Фихте (1842), vol. 2, до разрозненных замечаний в «Философии познания» Кирхмана, – но если бы Вайс был прав, и единственным достижением Гегеля было бы изобретение истинного метода, то все нападки на гегелевскую философию и логику были бы потеряны для критики диалектического метода; ведь может оказаться, что этот инструмент до сих пор ждет художника, который правильно им воспользуется. Но если вычесть из всего сказанного о диалектике эти косвенные нападки на нее, верные лишь при определенных условиях, и рассмотреть диалектический метод в том виде, в каком он есть и может предложить сам по себе, помимо того, что получилось в результате его применения Гегелем, то существующая критика сократится до весьма незначительной меры. Даже если я охотно признаю, что основное, что должно быть сказано о предмете, уже высказано, мне кажется, с одной стороны, что оно не было обосновано с той подробностью и акцентом, на которые способен предмет, и, с другой стороны, я считаю целесообразным сделать главный акцент на пунктах, которые до сих пор либо рассматривались как второстепенные, либо полностью игнорировались. Наконец, однако, я считаю, что среди правильных возражений были и такие, которые не усиливают, а ослабляют силу атаки, что может быть вызвано отчасти непониманием, например, своеобразного положения критики по отношению к диалектическому методу, о чем будет сказано ниже. Этих замечаний, кажется, достаточно, чтобы охарактеризовать и оправдать мое начинание.
Исследованию диалектики Гегеля предшествует краткий очерк того, что диалектика иначе означает в истории философии, в качестве своего рода исторического введения, главным образом для того, чтобы было ясно, в каких чертах метод Гегеля присваивает существующие идеи, а в каких является его собственным произведением. Эта первая часть должна быть пригодна для того, чтобы свести к исторически обоснованной мере утверждение Гегеля, что в своем методе он лишь придал строго научную форму и совершенство тому, к чему более или менее сознательно стремилось большинство великих философов. —
Насколько обоснование системы Гегеля соответствует или не соответствует его методу, я оставляю на усмотрение читателя, но замечу, что я отвожу основным результатам гегелевской философии (помимо их извлечения) необходимое место в развитии философии. Тому, кому результаты настоящей работы могут показаться самонадеянными, я напомню, что для героев науки не существует иного почтения, чем изучение их продуктов более тщательно, чем продуктов кого-либо другого.
Предисловие ко второму изданию
Предыдущее предложение: «Что я признаю необходимое место в развитии философии для основных результатов гегелевской философии (помимо их извлечения)» не было воспринято всерьез гегельянцами, которые читали первое издание этой работы с неудовольствием или раздражением. То, что философия Гегеля уже должна была быть философией бессознательного, которую мне нужно было только возвести в ранг сознательной («Философия бессознательного», 3-е издание, 1873, стр. 23), считалось дурной шуткой. Мои эпистемологические и натурфилософские труды до 1877 года, казалось, только еще сильнее подчеркивали расхождение моей точки зрения и моего образа мыслей с гегелевскими. Только в «Этике», «Философии религии» и «Эстетике» стало ясно, насколько я был близок к Гегелю в философии разума, и только моя «Теория категорий» показала, что я должен был переосмыслить метафизику Гегеля лишь в той мере, в какой этого требовало дополнение его одностороннего принципа его необходимым антитезисом (см. предисловие, стр. X – XIII). Еще в 1870 году в «Philosophische Monatshefte», т. V, вып. 5, я пытался объяснить, как я понимаю «необходимую реорганизацию гегелевской философии, исходя из ее основного принципа» (перепечатано в «Gesammelte Studien und Aufs?tzen», с. 604 – 635). Затем в своей «Немецкой эстетике после Канта» я попытался связно изложить его учение об идеях в разделе о Гегеле (стр. 107 – 129), а в эссе «Mein Verh?ltnis zu Hegel» (Philosophische Monatshefte, vol. XXIV, issues 5 – 6, перепечатано в «Kritische Wanderungen durch die Philosophie der Gegenwart», стр. 43 – 75) я еще раз суммировал связь и различия между моей системой и системой Гегеля. Из всех этих публикаций, а также из подробного изложения Гегеля во второй части моей «Истории метафизики», с. 207 – 256, должно стать ясно, что предложение в предисловии к первому изданию имело вполне серьезный смысл. Только потому, что я осознавал, сколь многим обязан Гегелю, я так остро ощутил необходимость обсуждения его ошибочного метода, что сразу после завершения «Философии бессознательного» весной 1867 года приступил к написанию этой работы, еще до того, как предпринял какие-либо шаги к публикации первой.
Лишь немногие читатели осознают эту связь. Противники и презиратели Гегеля качали головами по поводу того, что я напрасно потратил столько усилий на критику гегелевского метода; последователи Гегеля, однако, чувствовали себя уязвленными и отвергнутыми. Некоторые из них были убеждены, что форма и содержание гегелевской системы неразделимы, что они стоят и падают вместе и что диалектический метод составляет непоколебимый фундамент гегелевского здания, более того, единственный стабильный и вечно действующий его аспект. Другие же, привыкшие к ослаблению гегелевской диалектики до аристотелевской, не желали слышать резкой критики, которая, как им казалось, нарушала их благоговение перед мастером, выявляя и подчеркивая ошибки и слабости, которые давно уже не принимались во внимание.
В течение своей жизни я убедился, что те читатели, которые прошли через гегелевскую школу, как правило, понимали мою философию гораздо лучше и легче, чем другие, и что время отдалилось от моих начинаний в той же степени, в какой уменьшилось число ученых-гегельянцев. Если сейчас есть различные признаки того, что приближается время лучшего понимания и более беспристрастной оценки Гегеля не только у нас, но и в Англии и Голландии, то я могу только приветствовать это как шаг к лучшему пониманию и более беспристрастной оценке моей собственной философии. Однако мне кажется тем более необходимым, чтобы различие между сохраняемым содержанием и совершенно ошибочным методом гегелевской философии, которое я так резко подчеркивал вначале, было теперь тщательно рассмотрено, и пусть новое издание будет этому способствовать. Ведь восстановление гегельянства по содержанию и форме неизбежно рано или поздно постигнет та же участь, что и саму гегелевскую философию в свое время, а именно: ценное содержание также будет дискредитировано ошибочной формой.
Метод всей спекулятивной эпохи от Канта до Гегеля – схоластический и романтический, ибо он исходит из веры в возможность априорного изложения интеллектуальных функций, постижения метафизического Я или сущности феноменального мира интеллектуальным восприятием, а также генетического построения или, по крайней мере, реконструкции содержания абсолютной мысли посредством сознательной спекулятивной мысли. В этом смысле Шеллинг, Гегель и Шопенгауэр – три последних великих романтика в философии. Шеллинг сделал интеллектуальный взгляд основой своего философствования, Шопенгауэр применил его к воле и тому, что он называл идеей, а Гегель привнес эту романтическую основу в схоластико-систематическую методологию. Новые гегельянцы, оставшиеся и сегодня, а также молодое поколение, подошедшее к Гегелю, лучше, чем гегельянцы 60-летней давности, поймут, что я не мог не вести неустанную борьбу с ошибочным гегелевским методом именно потому, что осознавал его, чтить трезвость индуктивного мышления в метафизике перед лицом всего спекулятивного романтизма и в то же время, наперекор презирающему метафизику zeitgeist’у, желать обновить очищенное содержание гегелевской философии и сохранить его как приостановленный момент.
Рецензии, которые получило первое издание этой книги, не побудили меня вносить какие-либо изменения в этот текст, но более близкое знакомство с историей философии со временем побудило меня вставить дополнения в различных местах. Я ответил на рецензию Мишле в «Philosophische Monatshefte», т. I, №6 (сентябрь 1868), стр. 502 – 505, на возражения Фолькельта в «Erl?uterungen zur Metaphysik des Unbewu?ten mit besonderer Ber?cksichtigung auf den Panlogismus», 1874, стр. 8 – 22 (второе издание под названием «NeuKantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelianismus», 1877, стр. 261 – 273).
Недавно Болланд из Лейдена, оказавший выдающиеся услуги новому изданию сочинений Гегеля и старых работ гегельянцев, напал на мою критику диалектики противоречия. В той мере, в какой он заимствует свое оружие из старого арсенала диалектики (путаница и подмена различий, контраст и противоречие, единство и тождество), оно уже было рассмотрено в этой работе. Новым в его работе является только argumentum ad hominem [полемика по отношению к личности оппонента – wp], что я лично не имею права бороться с тождеством противоречия у Гегеля именно потому, что я сам был бы вынужден признать его в основах своей системы. Теперь я признаю единство (не тождество!) противоположных сущностей (логического и алогического по существу), а также то, что их операции, сами по себе не противоречивые, представляют себя внутри одной из них (логической) как противоречивые, и что поэтому противоречие, характеризуемое как противоречие с логической точки зрения, может быть вместе и затем представлено как то, что вместе. Но различия между мной и Гегелем заключаются в следующем.
У Гегеля обе противоречивые противоположности должны лежать внутри логического, у меня же только одна из них может лежать внутри логического, а другая должна лежать вне его. У Гегеля они должны быть тождественны, поскольку противоречат друг другу; у меня они должны оставаться вечно нетождественными, хотя и едины по существу. Для Гегеля оппозиция и ее противоречие в мировом процессе – это нечто, созданное логическим, которое человеческий разум воспроизводит в своем процессе мышления конгениально a priori из самого себя; для меня оппозиция в мировом процессе – это нечто, существующее вопреки логическому, металогический факт, и человеческий разум, не способный его понять, а тем более воссоздать, должен склониться перед апостериорным опытом этого сосуществования противоположностей, который он осуждает как неразумный. У Гегеля диалектический разум человека показывает мировому процессу его ход и провозглашает его противоречивость вершиной разумности; в моем случае антидиалектический разум в человеке осуждает антилогический основной характер мирового процесса как то, чему не суждено быть, в убеждении, что этим осуждением он одновременно исполняет истину абсолютного разума. У Гегеля разум аплодирует самосозданным противоречиям, радуется их максимально возможному росту, который преодолевается только для того, чтобы привести к еще более жестким противоречиям и еще более острым противоречиям, и видит подлинно рациональный смысл и цель мирового процесса в этой бесконечной диалектической игре преодоления и утверждения противоречия; для меня же противоречивая основа мирового процесса есть единственный, совершенно неразумный и очень печальный факт, и разумный смысл всего мирового процесса состоит только в исправлении и отмене этого неразумного факта мировой инициативы, и не, например, шаг за шагом через все новые и новые диалектические преодоления противоречий, которые в конце концов не являются противоречиями, а одним махом превращая антилогическое, противоречащее разуму, в алогическое, уже не противоречащее ему, actus в potency.
Я всегда утверждал, что действительность логических принципов (закон противоречия и т. д.) простирается лишь до власти и господства логического, т. е. до логического определения того, что и как происходит; отсюда следует, что, если существует металогическая область, логические принципы не должны иметь в ней и в ее отношениях к логическому никакой действительности и могли бы иметь в ней такую действительность только по случайности. Я выступаю против диалектики Гегеля, потому что она отменяет действительность логических принципов в области логического и только объявляет эту отмену истинной разумностью. С другой стороны, я признаю металогическую область, в которой противоречивые вещи могут быть вместе и должны быть признаны нами как вместе, но я отрицаю, что эта область все еще логична и что наш разум способен рационально мыслить вместе то, что он должен признать вместе по эмпирическим причинам. Диалектика в гегелевском смысле может означать только постепенное выдвижение и консервативное упразднение антилогического самим логическим, но не признание какого-либо антилогического, не выдвинутого логическим, и не его аннигилирующее (неконсервативное) упразднение абсолютным актом (не актом человеческой мысли).
Болланд упускает из виду все эти различия, когда считает, что может намекнуть, будто я сознательно двигаюсь в формах гегелевской диалектики и против своей воли признаю их основания.
Гегель – реалист в средневековом смысле, то есть он считает понятия реальностью, предшествующей вещам, и полагает, что в вечном процессе диалектики самые абстрактные понятия порождают свои противоположности и объединяются с ними, образуя все более конкретные. Он не различает понятия сознательного, человеческого, дискурсивного мышления и категориальные функции бессознательного, абсолютного, интуитивного мышления и не признает, что первые возникают только через абстракцию и анализ, а вторые удалены как от непосредственного восприятия сознанием, так и от дискурсивной, диалектической реконструкции сознательным мышлением. Он не признает, что ошибка в сознательном мышлении возникает только благодаря неадекватному опыту, благодаря поспешным, неполным, неточным и в этом отношении нелогичным операциям мышления, и вместо этого предается ошибке, как будто мышление само по себе может порождать противоречия в силу своей логической природы, и даже преувеличивает эту ошибку, как будто она должна порождать такие противоречия. Затем он переносит это ошибочное предположение назад, от сознательного, человеческого, дискурсивного мышления к бессознательному, абсолютному, интуитивному мышлению, разницу между которыми он никогда не прояснял для себя, так же как он никогда не прояснял невозможность дискурсивно воспроизвести способ работы первого с помощью сознания и реконструировать его результаты непосредственно a priori. Только таким образом он приходит к мнению, что логичность состоит в том, что он ставит и объединяет противоречия, к которым человек никогда не смог бы прийти без этой комбинации ложных предпосылок и ложных переносов. И только потому, что он ошибочно приписывает разуму, сначала человеческому, а затем абсолютному, способность порождать противоречивые, то есть нелогичные вещи изнутри себя, он, с одной стороны, ищет противоречия везде, где их нет, а с другой – не признает необходимости предположить независимый нелогичный принцип наряду с логическим для противоречий, реально существующих в основаниях мира. Таким образом, он должен был также не признать, что логическое не может развертываться из себя и в себе, а только в нелогическом, но что оно не сначала диалектически вырабатывает себя через процесс от самого абстрактного к самому конкретному в этом абсолютном противоречии, а сразу конкретизируется [срастается – wp] и актуализируется в конкретной мировой идее. Ошибка Гегеля заключается не в том, что он не видит мир полностью лишенным противоречий, а в том, что он утверждает противоречия там, где их нет, а именно внутри логического и логически определенной мировой идеи, и не видит их там, где они существуют, а именно в нелогическом как таковом, в мировой воле, и в металогических отношениях между нелогическим и логическим.
В данной работе речь идет не об этих последних метафизических проблемах, которые для Гегеля еще не существовали, а лишь о доказательстве того, что противоречия, которые Гегель искал в логическом, вообще не существуют, что диалектика не может порождать противоречия и что она столь же мало может логически связать противоречия, возникающие из ошибки, и тем самым установить высшее понятие.
A. Диалектика до Гегеля
1 Доплатоническая философия
Аристотель называет Зенона изобретателем диалектики. Если Парменид выводил свои утверждения о сущем непосредственно из его понятия, то Зенон использовал косвенную процедуру, демонстрируя, что человек запутывается в противоречиях через обычные противоположные допущения. Это именно то, что сегодня математики называют косвенным доказательством. Разумеется, он не гнушается использовать софистические средства для этой положительной цели, поэтому Платон говорит о нем, что он умел заставить одну и ту же вещь казаться слушателям похожей и непохожей, одной и многими, покоящейся и движущейся. (Но в любом случае эти софистические уловки оставались для него лишь средством косвенного, т. е. опровергающего противоположное, обоснования своего основного позитивного метафизического взгляда на единство и неизменность бытия.
Если Зенон положил начало субъективной диалектике, то Гераклит положил начало диалектике объективной. Если элеаты считают субстанцию главным, а изменение внешности – внешностью, то Гераклит считает процесс главным, а субстанцию – второстепенной вещью; он предпочел бы объявить ее внешностью, если бы только мог. Таким образом, оба взгляда дополняют друг друга; взгляд Гераклита даже выше, поскольку он рассматривает то, что элеаты игнорируют как случайный внешний вид, как необходимый процесс. Поэтому он выделяет самую изменчивую из чувственных субстанций, огонь или тепло, в качестве первосущества или основной субстанции. Отдельные вещи, однако, не являются, как это принято считать, чем-то постоянным, раз и навсегда законченным, но чем-то постоянно становящимся и уходящим, они постоянно создаются заново в общем потоке возникновения действующими силами, они являются пересечениями противоположных направлений действия, неустойчивым состоянием равновесия, которое меняется в любой момент. Каждое изменение – это переход одного состояния в противоположное; поскольку все постоянно находится в этом изменении, все в каждый момент находится в точке перехода между двумя противоположными состояниями. Если допустить, что слово «противоположный», употребляемое в общем смысле, уже говорит здесь слишком много и должно быть заменено на «другой» или «иной», то до этого момента все в порядке. Даже с этим можно согласиться, когда он выражает свой принцип метафорически: «Раздор, или разделение, – отец, царь и владыка всего сущего, но то, что разделено, возвращается к гармонии». С другой стороны, мы должны согласиться с критикой Аристотеля, что Гераклит нарушил закон противоречия, когда утверждал, что все всегда имеет в себе противоположности, что все есть и не есть одновременно, и что ни о какой вещи нельзя сказать ничего, чья противоположность не была бы одновременно истинной для нее. Всеобщая текучесть всех вещей, с которой Гераклит был изолирован только у греков, в буддизме развита в сложнейшую систему.
Буддизм – это не просто субъективный идеализм или абсолютный идеализм, это абсолютный иллюзионизм, т. е. он утверждает, что истинного бытия вообще не существует, а все видимое бытие – это бессущностная видимость, т. е. чистая иллюзия. Поскольку видимость как видимость нельзя отрицать, эта система предполагает, что небытие может принимать видимость бытия, и задача состоит в том, чтобы освободиться от этой видимости. Эта метафизика теперь определяет логику. Кёппен говорит («Религия Будды», т. 1, с. 598):
«Классическая, совершенная форма буддийского суждения, как она действительно имеет место на Юге, так и на Севере, фактически такова: сначала утверждать, затем отрицать, наконец, отменить утверждение и отрицание, или, скорее, обобщить и сохранить это двойное противоречие в одном, то есть сказать об одном и том же предмете: 1. что он есть, 2. что он не есть, и 3. что он ни есть, ни не есть; например: мир ограничен; мир не ограничен; мир ни ограничен, ни не ограничен. Не так, как если бы третья пропозиция выходила за пределы первых двух и положительный результат или вообще результат в развитии мысли должен был быть получен через противоположности, таким образом, чтобы каждая категория, в манере Гегеля, переходила к более высокому развитию через свое внутреннее противоречие, и таким образом диалектическая цепь проходила бы через всю систему, от низшего понятия к высшему, от первого камня до вершины. Буддизм далек от такого начала: его отрицание отрицания призвано не только утверждать, но и констатировать, что отрицательное суждение столь же пусто, как и положительное, и что все предикаты, все определения в конечном счете ничего не значат».
Но такой выход нового принципа за свои законные пределы вряд ли может быть поставлен в вину его изобретателю в то время, когда философия еще только зарождалась и не было речи о фиксированных логических принципах. Однако, с другой стороны, эксцессы этого раннего рождения, которые отрицались всеми преемниками, вероятно, не подходят для того, чтобы служить опорой для продуктов нашего века, которые претендуют на высочайшую интеллектуальную зрелость.
Из этих истоков развилась диалектика или эристика софистов, которые, будучи скептиками в этом вопросе, потеряли всякий позитивный интерес к поиску истины, а вместо этого обладают лишь субъективным тщеславием, высшей целью которого является введение своих оппонентов в противоречия и ad absurdum с помощью формального мышления и ораторского искусства, какие бы утверждения они ни выдвигали. Для них не имеет значения, хороши или плохи их доводы, развитие событий и выводы, лишь бы они достигли вопиющего успеха. Смелость, скорость, лингвистические двусмысленности и перевирание слов – вот их основные средства, а также ставший впоследствии столь важным трюк с расширением понятий или суждений за пределы тех отношений, в рамках которых только они имеют смысл или обоснованность.
Сократ согласен с софистическим скептицизмом в той мере, в какой он отрицает и разрушает то, что до сих пор считалось знанием и познанием, но не в той мере, в какой он отрицает стремление к позитивному знанию и его возможность. Поэтому его знание изначально является знанием о том, что он ничего не знает, tabula rasa, жаждущей реализации. Потребность в познании в связи с собственным незнанием, естественно, побуждает его поинтересоваться, можно ли найти знание у кого-то другого, толкает его к диалогическому методу, в котором его роль – задавать вопросы, но в котором надежда научиться чему-то у собеседников также тает через диалектический анализ их идей. В этом заключается знаменитая ирония Сократа. Однако в то же время он развивает в собеседнике положительные результаты, которых еще не было в другом: противоречия, обнаруженные в обычных идеях, требуют их исправления (обычно путем квалификации), так что при тщательном продолжении этой индуктивной процедуры и умелом использовании отрицательных примеров из общих идей возникают исправленные и очищенные понятия. Аристотель справедливо приписывает Сократу высшую заслугу такой концептуализации, которая является индуктивным процессом, поскольку восходит от частного к общему. Принцип, которым руководствовался Сократ в этом стремлении, заключался в том, что истина может заключаться только в концептуальном знании. Соответственно, дошедшие до нас аргументы Сократа также состоят из выводов, сделанных на основе умозрительной концепции в применении к конкретному случаю.
2. Платон
Платон разделяет принципы Сократа о том, что только понятийное знание может дать истину и что от обыденных представлений нефилософского сознания, преодолевая их диалектически, указывая на содержащиеся в них противоречия, необходимо восходить к истинным и наиболее общим понятиям, которые теперь не содержат противоречий. Однако, помимо более совершенного осуществления этого требования, он идет дальше своего предшественника в том, что объявляет эту индуктивную процедуру лишь первой, подготовительной половиной всей науки и возлагает вторую, теперь уже фактически систематическую ее часть на дедуктивный спуск из полученных таким образом принципов. Оба требования он объединяет в отрывке Republica VI. 511 B:
«Научись теперь познавать другую часть мышления, к которой разум сам прикасается посредством способности диалектики, устанавливая предпосылки не как принципы, но фактически только как предпосылки, как бы подступы и начала, чтобы через них дойти до беспредпосылочного, до принципа всего, и, прикоснувшись к этому, снова постигая то, что охватывается этим, таким образом спуститься до последнего, не прибегая ни к чему разумному, но так, чтобы исходить исключительно от понятий через понятия к понятиям».
Единственное, что здесь может быть неясным, – это что значит устанавливать предпосылки. Его «Парменид», страница 136, наставляет нас на этот счет:
«Кроме того, ты должен поступать и так, чтобы не только исследовать нечто как предположенное, что вытекает из предположения, но и предположить то же самое как не являющееся, если ты хочешь больше практиковаться. Например, если Многое есть, что тогда должно быть результатом для самого Многого в себе и по отношению к Многому, то вы должны таким же образом исследовать, и когда Многое не есть и что тогда должно быть результатом для Единого, а также для Многого, каждого в себе и по отношению друг к другу. Одним словом, что бы вы ни взяли за основу как бытие и небытие или что бы вы ни предположили, вы должны посмотреть, что получится в каждом случае для самого закона и для каждой другой отдельной вещи, которую вы хотите вывести, а также для всего остального в целом».
Этот отрывок и примеры из всех строго научных диалогов Платона ясно показывают, что он понимает под гипотезой или предпосылками, через которые человек поднимается к понятиям, которые следует рассматривать как наиболее общие, то есть как принципы. Далее, эта индукция или эпатаж осуществляется Платоном так же, как и Сократом, только более умело и сознательно, начиная с того, что как можно более знакомо и привычно, делая продвижение как можно более ясным и понятным на примерах и диалектически демонстрируя противоречия неточного или неверного характера общих понятий, принятых за предпосылки, так же как и диалектической демонстрацией противоречий, возникающих в их следствиях, показывается направление, в котором они должны быть изменены, чтобы они представляли истинную сущность вещей и содержали все характеристики, которыми они отличаются от других. В более систематическом варианте, чем предлагает сам Платон, полученные таким образом исправленные понятия превращаются в новые предпосылки и через сочетание с другими понятиями, полученными в параллельных исследованиях, и через дальнейшее развитие следствий во всех направлениях снова исправляются и обобщаются, пока не приходят к самому общему, принципу всего, единственной идее, которая охватывает все низшие идеи или понятия и из которой теперь все должно быть выведено в обратном порядке.
«Особенность последней процедуры, по Платону, заключается в разделении (diairesis, temnein kat’arthra). Как понятие выражает то общее, что есть у большинства вещей, так, наоборот, деление выражает те различия, по которым род различается на свои виды. Задача, таким образом, в целом такова: концептуально измерить всю область, заключенную в роде, путем полного и методичного перечисления видов и подвидов, ознакомиться со всеми разветвлениями понятий вплоть до того места, где заканчивается деление понятия и начинается неопределенная множественность видов. С помощью этой процедуры выясняется, являются ли понятия *идентичными или различными, в каком отношении они подпадают под одно и то же высшее понятие или нет, в какой степени они, следовательно, связаны или противоположны, совместимы или несовместимы; одним словом, устанавливается их взаимная связь и на основе этого знания осуществляется методичный спуск от самого общего к самому частному и к пределам понятийного мира». (Целлер, Философия греков, 2-е издание, т. II, с. 395 – 397)
Таким образом, диалектическое нисхождение Платона от принципа есть не что иное, как обратный шаг по ступеням абстракции, проделанным вверх в эпистемологическом возникновении понятий.
Против правильности процедуры возражений нет, но мы сталкиваемся со следующей альтернативой: либо процедура формирования понятий была полной и осознавала свою завершенность, и тогда нисходящая процедура излишня, поскольку все моменты, затронутые в ней, уже решены в восхождении; либо нисходящая процедура действительно предлагает нечто новое и беспрецедентное, и тогда восходящая процедура была неполной и принципы не были достаточно установлены и закреплены, чтобы сделать необходимым предоставление правильных и полных результатов в нисходящей. Но поскольку мы должны установить принцип как можно надежнее, нам также придется настаивать на полноте метода восхождения и, таким образом, объявить метод нисхождения излишним. Для нас важно следующее:
«Истинный диалектик тот, кто умеет распознать единое понятие, проходящее через множество и отдельное, и так же, наоборот, методично провести единое понятие по всей лестнице его подтипов до отдельного, а следовательно, установить взаимное отношение понятий друг к другу и возможность или невозможность их соединения». Ср. Phaedrus, 265, 261 E, 273 D, 277B, Sophistes 253 (Zeller, ibid. стр.390). Квинтэссенция философской науки: «Знать, как различать, в каком отношении каждое понятие может иметь общение друг с другом и в каком не может» (Софисты, 253).
В своей «Истории философии» Гегель, очевидно, слишком много вложил в Платона своей концепции диалектики. Так, например, «Парменид» ошибочно рассматривается Гегелем как репетиция его собственной диалектики, поскольку понятие Единого с самого начала в разных смыслах берется за основу для различных серий выводов, которые приводят к противоположным результатам. (Ср. HEYDER, Vergleich der ariostotelischen und Hegelianischen Dialektik I, pp. 109 – 113) Не желая отрицать возможность того, что даже Платон вполне мог представить себе здесь и там отождествление противоположностей в гегелевском смысле как далекий идеал, поскольку это избавило бы его от необходимости исправлять концепцию удобным объяснением противоречия истине, тем не менее следует твердо утверждать, что он не мог, осознавая эту концепцию диалектического, предаваться ей, не вступая в противоречие с самим собой. Он говорит в Republica IV. 436 B: «Ясно, что одна и та же вещь не может в одно и то же время делать или претерпевать противоположные вещи в одном и том же отношении, так что если мы обнаружим это где-либо, то будем знать, что это не одна и та же вещь, а нечто большее». В «Федре» 102 он утверждает, что великое не хочет быть малым, а малое не хочет быть великим, а когда ему возражают, что Сократ сам говорил, что противоположное становится противоположным, он отвечает:
«Тогда говорили, что противоположное состояние становится противоположным состоянием, а теперь говорят, что противоположное само по себе не может стать своей противоположностью». В «Софистах» 230 B он утверждает, «что критерием ложности является то, что два утверждения противоречат друг другу в одно и то же время об одних и тех же предметах, находящихся в одних и тех же отношениях в соответствии с одним и тем же смыслом».
Таким образом, он устанавливает закон противоречия в качестве нормы как для мышления, так и для бытия; «даже если, следовательно, одна идея проходит через многие другие или включает их в себя, – Sophistes 253 D – это может произойти только таким образом, что каждая из них остается неизменной и тождественной самой себе – Philebos 15 B -, ибо одно понятие может быть связано с другим только в той мере, в какой оно тождественно ему» – Sohistes 256 – (Zeller, Philosophie der Griechen II, 2. Целлер, Философия греков II, 2-е издание, стр. 458), точно так же, как, например, понятия бытия и небытия могут быть связаны в той мере, в какой они оба разделяют понятие различного. Платон ни в коем случае не отрицает связь понятий, без которой вообще невозможно никакое пропозициональное образование (Soph. 263 E; Theaetetus 189), но он отрицает, что понятия связаны тем, что в них разное, или что связь противоречивых вещей вообще может быть реализована. Он также не отрицает временного перехода противоположных состояний друг в друга или перехода мысли от одного понятия к другому, но он отрицает, что понятие может перейти из себя в свою противоположность или что противоположности могут возникать в нем в одно и то же время и в одном и том же отношении. (Soph. 256, начало) Два последних пункта, однако, отделяют диалектику Гегеля от здравого смысла. Если Гегель, несмотря на многократное и явное осуждение Платоном тождества противоположностей в одном и том же отношении, все же утверждает, что Платон объявил это истинной диалектикой, он опирается на один неясный и спорный отрывок из «Софиста», который, как бы его ни трактовать грамматически, в любом случае исключает гегелевскую интерпретацию. (Соф. 259, ср. «Верке» Гегеля XIV, стр. 210; также HEYER, op. cit. стр. 98f)
То, что философский метод Платона был диалектическим, действительно неудивительно, учитывая отсутствие какого-либо осознания метода вообще, учитывая модели, которые он имел перед собой, учитывая публичный и устный характер греческого общения, учитывая полное отсутствие эмпирического материала, на котором можно было бы основывать возможную индукцию, учитывая несравненную красоту и интеллектуальную глубину греческого языка, бессознательные сокровища которого ему только предстояло вывести на свет. Философствование на основе языка всегда идет по схожему пути, независимо от того, осознает он его источник или нет, и тем более в то время, когда еще неизведанные сокровища греческого языка ждали своего первооткрывателя, и это был единственный уже проторенный путь, а все остальные терялись в непроходимой пустыне. Тем не менее, Платон и сам ясно понимал, что его диалектика не способна решить поставленную перед ней задачу, что она не может ни аподиктически [логически убедительно, доказательно – wp] вести от субъективных эмпирических понятий абстракции к определенной реализации Идей как метафизических сущностей, ни обеспечить реальное, генетическое выведение чувственного многообразия вещей из априорных Идей. Однако, поскольку он требует от философии аподиктической определенности, не уступающей математике, и поскольку он хочет противопоставить диким разногласиям софистов определенное знание, он считает необходимым дать диалектике надежное основание через память и интеллектуальное созерцание. Память должна возвращать душе идеи в том виде, в каком она видела их на небесах, прежде чем стать телесной; а небесный Эрос, то есть стремление к единению с Единым и Благим, должен пробуждать интеллектуальное восприятие идеи как настоящего. Таким образом, отсутствие диалектического метода и приверженность претензии на абсолютную достоверность вызывают мифологические дополнения. Тот, кто обладает памятью и интеллектуальным взглядом, дарованным Эросом, находится за пределами диалектического метода и больше в нем не нуждается; кто не обладает ни тем, ни другим, для того диалектика также имеет лишь пропедевтическое [подготовительное – wp] значение, чтобы привести его к этим двум.
Валерий Алексеевич Антонов
«На протяжении всех времен люди пытались представить то, что является лишь логическим средством для понимания вещей, как самую глубокую реальность вещей» (Герман Шварц). В этом контексте материализм предстает не как простое утверждение о сущности бытия, но как философское искушение, возбуждающее умы и чувства.
Германия: философия XIX – начала XX вв.
Том 7. Материализм. Часть 1
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-7897-8 (т. 1)
ISBN 978-5-0064-7896-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Эдуард фон Гартман (1869 – 1902)
О диалектическом методе
Предисловие к первому изданию
Спустя более века после смерти Гегеля, вдали от споров философских школ и никогда не вступая в личный контакт с преподавателями философии, я решаюсь взять на себя задачу, которая, по моему мнению, еще не исчерпана, – подвергнуть диалектический метод тщательному исследованию. Много хорошего и правильного уже было сказано критиками о деталях гегелевской философии, и особенно о логике – мне остается только напомнить о главе о диалектическом методе в «Логических исследованиях» Тренделенбурга, об очерке Вайсе в «Zeitschrift» Й. Х. Фихте (1842), vol. 2, до разрозненных замечаний в «Философии познания» Кирхмана, – но если бы Вайс был прав, и единственным достижением Гегеля было бы изобретение истинного метода, то все нападки на гегелевскую философию и логику были бы потеряны для критики диалектического метода; ведь может оказаться, что этот инструмент до сих пор ждет художника, который правильно им воспользуется. Но если вычесть из всего сказанного о диалектике эти косвенные нападки на нее, верные лишь при определенных условиях, и рассмотреть диалектический метод в том виде, в каком он есть и может предложить сам по себе, помимо того, что получилось в результате его применения Гегелем, то существующая критика сократится до весьма незначительной меры. Даже если я охотно признаю, что основное, что должно быть сказано о предмете, уже высказано, мне кажется, с одной стороны, что оно не было обосновано с той подробностью и акцентом, на которые способен предмет, и, с другой стороны, я считаю целесообразным сделать главный акцент на пунктах, которые до сих пор либо рассматривались как второстепенные, либо полностью игнорировались. Наконец, однако, я считаю, что среди правильных возражений были и такие, которые не усиливают, а ослабляют силу атаки, что может быть вызвано отчасти непониманием, например, своеобразного положения критики по отношению к диалектическому методу, о чем будет сказано ниже. Этих замечаний, кажется, достаточно, чтобы охарактеризовать и оправдать мое начинание.
Исследованию диалектики Гегеля предшествует краткий очерк того, что диалектика иначе означает в истории философии, в качестве своего рода исторического введения, главным образом для того, чтобы было ясно, в каких чертах метод Гегеля присваивает существующие идеи, а в каких является его собственным произведением. Эта первая часть должна быть пригодна для того, чтобы свести к исторически обоснованной мере утверждение Гегеля, что в своем методе он лишь придал строго научную форму и совершенство тому, к чему более или менее сознательно стремилось большинство великих философов. —
Насколько обоснование системы Гегеля соответствует или не соответствует его методу, я оставляю на усмотрение читателя, но замечу, что я отвожу основным результатам гегелевской философии (помимо их извлечения) необходимое место в развитии философии. Тому, кому результаты настоящей работы могут показаться самонадеянными, я напомню, что для героев науки не существует иного почтения, чем изучение их продуктов более тщательно, чем продуктов кого-либо другого.
Предисловие ко второму изданию
Предыдущее предложение: «Что я признаю необходимое место в развитии философии для основных результатов гегелевской философии (помимо их извлечения)» не было воспринято всерьез гегельянцами, которые читали первое издание этой работы с неудовольствием или раздражением. То, что философия Гегеля уже должна была быть философией бессознательного, которую мне нужно было только возвести в ранг сознательной («Философия бессознательного», 3-е издание, 1873, стр. 23), считалось дурной шуткой. Мои эпистемологические и натурфилософские труды до 1877 года, казалось, только еще сильнее подчеркивали расхождение моей точки зрения и моего образа мыслей с гегелевскими. Только в «Этике», «Философии религии» и «Эстетике» стало ясно, насколько я был близок к Гегелю в философии разума, и только моя «Теория категорий» показала, что я должен был переосмыслить метафизику Гегеля лишь в той мере, в какой этого требовало дополнение его одностороннего принципа его необходимым антитезисом (см. предисловие, стр. X – XIII). Еще в 1870 году в «Philosophische Monatshefte», т. V, вып. 5, я пытался объяснить, как я понимаю «необходимую реорганизацию гегелевской философии, исходя из ее основного принципа» (перепечатано в «Gesammelte Studien und Aufs?tzen», с. 604 – 635). Затем в своей «Немецкой эстетике после Канта» я попытался связно изложить его учение об идеях в разделе о Гегеле (стр. 107 – 129), а в эссе «Mein Verh?ltnis zu Hegel» (Philosophische Monatshefte, vol. XXIV, issues 5 – 6, перепечатано в «Kritische Wanderungen durch die Philosophie der Gegenwart», стр. 43 – 75) я еще раз суммировал связь и различия между моей системой и системой Гегеля. Из всех этих публикаций, а также из подробного изложения Гегеля во второй части моей «Истории метафизики», с. 207 – 256, должно стать ясно, что предложение в предисловии к первому изданию имело вполне серьезный смысл. Только потому, что я осознавал, сколь многим обязан Гегелю, я так остро ощутил необходимость обсуждения его ошибочного метода, что сразу после завершения «Философии бессознательного» весной 1867 года приступил к написанию этой работы, еще до того, как предпринял какие-либо шаги к публикации первой.
Лишь немногие читатели осознают эту связь. Противники и презиратели Гегеля качали головами по поводу того, что я напрасно потратил столько усилий на критику гегелевского метода; последователи Гегеля, однако, чувствовали себя уязвленными и отвергнутыми. Некоторые из них были убеждены, что форма и содержание гегелевской системы неразделимы, что они стоят и падают вместе и что диалектический метод составляет непоколебимый фундамент гегелевского здания, более того, единственный стабильный и вечно действующий его аспект. Другие же, привыкшие к ослаблению гегелевской диалектики до аристотелевской, не желали слышать резкой критики, которая, как им казалось, нарушала их благоговение перед мастером, выявляя и подчеркивая ошибки и слабости, которые давно уже не принимались во внимание.
В течение своей жизни я убедился, что те читатели, которые прошли через гегелевскую школу, как правило, понимали мою философию гораздо лучше и легче, чем другие, и что время отдалилось от моих начинаний в той же степени, в какой уменьшилось число ученых-гегельянцев. Если сейчас есть различные признаки того, что приближается время лучшего понимания и более беспристрастной оценки Гегеля не только у нас, но и в Англии и Голландии, то я могу только приветствовать это как шаг к лучшему пониманию и более беспристрастной оценке моей собственной философии. Однако мне кажется тем более необходимым, чтобы различие между сохраняемым содержанием и совершенно ошибочным методом гегелевской философии, которое я так резко подчеркивал вначале, было теперь тщательно рассмотрено, и пусть новое издание будет этому способствовать. Ведь восстановление гегельянства по содержанию и форме неизбежно рано или поздно постигнет та же участь, что и саму гегелевскую философию в свое время, а именно: ценное содержание также будет дискредитировано ошибочной формой.
Метод всей спекулятивной эпохи от Канта до Гегеля – схоластический и романтический, ибо он исходит из веры в возможность априорного изложения интеллектуальных функций, постижения метафизического Я или сущности феноменального мира интеллектуальным восприятием, а также генетического построения или, по крайней мере, реконструкции содержания абсолютной мысли посредством сознательной спекулятивной мысли. В этом смысле Шеллинг, Гегель и Шопенгауэр – три последних великих романтика в философии. Шеллинг сделал интеллектуальный взгляд основой своего философствования, Шопенгауэр применил его к воле и тому, что он называл идеей, а Гегель привнес эту романтическую основу в схоластико-систематическую методологию. Новые гегельянцы, оставшиеся и сегодня, а также молодое поколение, подошедшее к Гегелю, лучше, чем гегельянцы 60-летней давности, поймут, что я не мог не вести неустанную борьбу с ошибочным гегелевским методом именно потому, что осознавал его, чтить трезвость индуктивного мышления в метафизике перед лицом всего спекулятивного романтизма и в то же время, наперекор презирающему метафизику zeitgeist’у, желать обновить очищенное содержание гегелевской философии и сохранить его как приостановленный момент.
Рецензии, которые получило первое издание этой книги, не побудили меня вносить какие-либо изменения в этот текст, но более близкое знакомство с историей философии со временем побудило меня вставить дополнения в различных местах. Я ответил на рецензию Мишле в «Philosophische Monatshefte», т. I, №6 (сентябрь 1868), стр. 502 – 505, на возражения Фолькельта в «Erl?uterungen zur Metaphysik des Unbewu?ten mit besonderer Ber?cksichtigung auf den Panlogismus», 1874, стр. 8 – 22 (второе издание под названием «NeuKantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelianismus», 1877, стр. 261 – 273).
Недавно Болланд из Лейдена, оказавший выдающиеся услуги новому изданию сочинений Гегеля и старых работ гегельянцев, напал на мою критику диалектики противоречия. В той мере, в какой он заимствует свое оружие из старого арсенала диалектики (путаница и подмена различий, контраст и противоречие, единство и тождество), оно уже было рассмотрено в этой работе. Новым в его работе является только argumentum ad hominem [полемика по отношению к личности оппонента – wp], что я лично не имею права бороться с тождеством противоречия у Гегеля именно потому, что я сам был бы вынужден признать его в основах своей системы. Теперь я признаю единство (не тождество!) противоположных сущностей (логического и алогического по существу), а также то, что их операции, сами по себе не противоречивые, представляют себя внутри одной из них (логической) как противоречивые, и что поэтому противоречие, характеризуемое как противоречие с логической точки зрения, может быть вместе и затем представлено как то, что вместе. Но различия между мной и Гегелем заключаются в следующем.
У Гегеля обе противоречивые противоположности должны лежать внутри логического, у меня же только одна из них может лежать внутри логического, а другая должна лежать вне его. У Гегеля они должны быть тождественны, поскольку противоречат друг другу; у меня они должны оставаться вечно нетождественными, хотя и едины по существу. Для Гегеля оппозиция и ее противоречие в мировом процессе – это нечто, созданное логическим, которое человеческий разум воспроизводит в своем процессе мышления конгениально a priori из самого себя; для меня оппозиция в мировом процессе – это нечто, существующее вопреки логическому, металогический факт, и человеческий разум, не способный его понять, а тем более воссоздать, должен склониться перед апостериорным опытом этого сосуществования противоположностей, который он осуждает как неразумный. У Гегеля диалектический разум человека показывает мировому процессу его ход и провозглашает его противоречивость вершиной разумности; в моем случае антидиалектический разум в человеке осуждает антилогический основной характер мирового процесса как то, чему не суждено быть, в убеждении, что этим осуждением он одновременно исполняет истину абсолютного разума. У Гегеля разум аплодирует самосозданным противоречиям, радуется их максимально возможному росту, который преодолевается только для того, чтобы привести к еще более жестким противоречиям и еще более острым противоречиям, и видит подлинно рациональный смысл и цель мирового процесса в этой бесконечной диалектической игре преодоления и утверждения противоречия; для меня же противоречивая основа мирового процесса есть единственный, совершенно неразумный и очень печальный факт, и разумный смысл всего мирового процесса состоит только в исправлении и отмене этого неразумного факта мировой инициативы, и не, например, шаг за шагом через все новые и новые диалектические преодоления противоречий, которые в конце концов не являются противоречиями, а одним махом превращая антилогическое, противоречащее разуму, в алогическое, уже не противоречащее ему, actus в potency.
Я всегда утверждал, что действительность логических принципов (закон противоречия и т. д.) простирается лишь до власти и господства логического, т. е. до логического определения того, что и как происходит; отсюда следует, что, если существует металогическая область, логические принципы не должны иметь в ней и в ее отношениях к логическому никакой действительности и могли бы иметь в ней такую действительность только по случайности. Я выступаю против диалектики Гегеля, потому что она отменяет действительность логических принципов в области логического и только объявляет эту отмену истинной разумностью. С другой стороны, я признаю металогическую область, в которой противоречивые вещи могут быть вместе и должны быть признаны нами как вместе, но я отрицаю, что эта область все еще логична и что наш разум способен рационально мыслить вместе то, что он должен признать вместе по эмпирическим причинам. Диалектика в гегелевском смысле может означать только постепенное выдвижение и консервативное упразднение антилогического самим логическим, но не признание какого-либо антилогического, не выдвинутого логическим, и не его аннигилирующее (неконсервативное) упразднение абсолютным актом (не актом человеческой мысли).
Болланд упускает из виду все эти различия, когда считает, что может намекнуть, будто я сознательно двигаюсь в формах гегелевской диалектики и против своей воли признаю их основания.
Гегель – реалист в средневековом смысле, то есть он считает понятия реальностью, предшествующей вещам, и полагает, что в вечном процессе диалектики самые абстрактные понятия порождают свои противоположности и объединяются с ними, образуя все более конкретные. Он не различает понятия сознательного, человеческого, дискурсивного мышления и категориальные функции бессознательного, абсолютного, интуитивного мышления и не признает, что первые возникают только через абстракцию и анализ, а вторые удалены как от непосредственного восприятия сознанием, так и от дискурсивной, диалектической реконструкции сознательным мышлением. Он не признает, что ошибка в сознательном мышлении возникает только благодаря неадекватному опыту, благодаря поспешным, неполным, неточным и в этом отношении нелогичным операциям мышления, и вместо этого предается ошибке, как будто мышление само по себе может порождать противоречия в силу своей логической природы, и даже преувеличивает эту ошибку, как будто она должна порождать такие противоречия. Затем он переносит это ошибочное предположение назад, от сознательного, человеческого, дискурсивного мышления к бессознательному, абсолютному, интуитивному мышлению, разницу между которыми он никогда не прояснял для себя, так же как он никогда не прояснял невозможность дискурсивно воспроизвести способ работы первого с помощью сознания и реконструировать его результаты непосредственно a priori. Только таким образом он приходит к мнению, что логичность состоит в том, что он ставит и объединяет противоречия, к которым человек никогда не смог бы прийти без этой комбинации ложных предпосылок и ложных переносов. И только потому, что он ошибочно приписывает разуму, сначала человеческому, а затем абсолютному, способность порождать противоречивые, то есть нелогичные вещи изнутри себя, он, с одной стороны, ищет противоречия везде, где их нет, а с другой – не признает необходимости предположить независимый нелогичный принцип наряду с логическим для противоречий, реально существующих в основаниях мира. Таким образом, он должен был также не признать, что логическое не может развертываться из себя и в себе, а только в нелогическом, но что оно не сначала диалектически вырабатывает себя через процесс от самого абстрактного к самому конкретному в этом абсолютном противоречии, а сразу конкретизируется [срастается – wp] и актуализируется в конкретной мировой идее. Ошибка Гегеля заключается не в том, что он не видит мир полностью лишенным противоречий, а в том, что он утверждает противоречия там, где их нет, а именно внутри логического и логически определенной мировой идеи, и не видит их там, где они существуют, а именно в нелогическом как таковом, в мировой воле, и в металогических отношениях между нелогическим и логическим.
В данной работе речь идет не об этих последних метафизических проблемах, которые для Гегеля еще не существовали, а лишь о доказательстве того, что противоречия, которые Гегель искал в логическом, вообще не существуют, что диалектика не может порождать противоречия и что она столь же мало может логически связать противоречия, возникающие из ошибки, и тем самым установить высшее понятие.
A. Диалектика до Гегеля
1 Доплатоническая философия
Аристотель называет Зенона изобретателем диалектики. Если Парменид выводил свои утверждения о сущем непосредственно из его понятия, то Зенон использовал косвенную процедуру, демонстрируя, что человек запутывается в противоречиях через обычные противоположные допущения. Это именно то, что сегодня математики называют косвенным доказательством. Разумеется, он не гнушается использовать софистические средства для этой положительной цели, поэтому Платон говорит о нем, что он умел заставить одну и ту же вещь казаться слушателям похожей и непохожей, одной и многими, покоящейся и движущейся. (Но в любом случае эти софистические уловки оставались для него лишь средством косвенного, т. е. опровергающего противоположное, обоснования своего основного позитивного метафизического взгляда на единство и неизменность бытия.
Если Зенон положил начало субъективной диалектике, то Гераклит положил начало диалектике объективной. Если элеаты считают субстанцию главным, а изменение внешности – внешностью, то Гераклит считает процесс главным, а субстанцию – второстепенной вещью; он предпочел бы объявить ее внешностью, если бы только мог. Таким образом, оба взгляда дополняют друг друга; взгляд Гераклита даже выше, поскольку он рассматривает то, что элеаты игнорируют как случайный внешний вид, как необходимый процесс. Поэтому он выделяет самую изменчивую из чувственных субстанций, огонь или тепло, в качестве первосущества или основной субстанции. Отдельные вещи, однако, не являются, как это принято считать, чем-то постоянным, раз и навсегда законченным, но чем-то постоянно становящимся и уходящим, они постоянно создаются заново в общем потоке возникновения действующими силами, они являются пересечениями противоположных направлений действия, неустойчивым состоянием равновесия, которое меняется в любой момент. Каждое изменение – это переход одного состояния в противоположное; поскольку все постоянно находится в этом изменении, все в каждый момент находится в точке перехода между двумя противоположными состояниями. Если допустить, что слово «противоположный», употребляемое в общем смысле, уже говорит здесь слишком много и должно быть заменено на «другой» или «иной», то до этого момента все в порядке. Даже с этим можно согласиться, когда он выражает свой принцип метафорически: «Раздор, или разделение, – отец, царь и владыка всего сущего, но то, что разделено, возвращается к гармонии». С другой стороны, мы должны согласиться с критикой Аристотеля, что Гераклит нарушил закон противоречия, когда утверждал, что все всегда имеет в себе противоположности, что все есть и не есть одновременно, и что ни о какой вещи нельзя сказать ничего, чья противоположность не была бы одновременно истинной для нее. Всеобщая текучесть всех вещей, с которой Гераклит был изолирован только у греков, в буддизме развита в сложнейшую систему.
Буддизм – это не просто субъективный идеализм или абсолютный идеализм, это абсолютный иллюзионизм, т. е. он утверждает, что истинного бытия вообще не существует, а все видимое бытие – это бессущностная видимость, т. е. чистая иллюзия. Поскольку видимость как видимость нельзя отрицать, эта система предполагает, что небытие может принимать видимость бытия, и задача состоит в том, чтобы освободиться от этой видимости. Эта метафизика теперь определяет логику. Кёппен говорит («Религия Будды», т. 1, с. 598):
«Классическая, совершенная форма буддийского суждения, как она действительно имеет место на Юге, так и на Севере, фактически такова: сначала утверждать, затем отрицать, наконец, отменить утверждение и отрицание, или, скорее, обобщить и сохранить это двойное противоречие в одном, то есть сказать об одном и том же предмете: 1. что он есть, 2. что он не есть, и 3. что он ни есть, ни не есть; например: мир ограничен; мир не ограничен; мир ни ограничен, ни не ограничен. Не так, как если бы третья пропозиция выходила за пределы первых двух и положительный результат или вообще результат в развитии мысли должен был быть получен через противоположности, таким образом, чтобы каждая категория, в манере Гегеля, переходила к более высокому развитию через свое внутреннее противоречие, и таким образом диалектическая цепь проходила бы через всю систему, от низшего понятия к высшему, от первого камня до вершины. Буддизм далек от такого начала: его отрицание отрицания призвано не только утверждать, но и констатировать, что отрицательное суждение столь же пусто, как и положительное, и что все предикаты, все определения в конечном счете ничего не значат».
Но такой выход нового принципа за свои законные пределы вряд ли может быть поставлен в вину его изобретателю в то время, когда философия еще только зарождалась и не было речи о фиксированных логических принципах. Однако, с другой стороны, эксцессы этого раннего рождения, которые отрицались всеми преемниками, вероятно, не подходят для того, чтобы служить опорой для продуктов нашего века, которые претендуют на высочайшую интеллектуальную зрелость.
Из этих истоков развилась диалектика или эристика софистов, которые, будучи скептиками в этом вопросе, потеряли всякий позитивный интерес к поиску истины, а вместо этого обладают лишь субъективным тщеславием, высшей целью которого является введение своих оппонентов в противоречия и ad absurdum с помощью формального мышления и ораторского искусства, какие бы утверждения они ни выдвигали. Для них не имеет значения, хороши или плохи их доводы, развитие событий и выводы, лишь бы они достигли вопиющего успеха. Смелость, скорость, лингвистические двусмысленности и перевирание слов – вот их основные средства, а также ставший впоследствии столь важным трюк с расширением понятий или суждений за пределы тех отношений, в рамках которых только они имеют смысл или обоснованность.
Сократ согласен с софистическим скептицизмом в той мере, в какой он отрицает и разрушает то, что до сих пор считалось знанием и познанием, но не в той мере, в какой он отрицает стремление к позитивному знанию и его возможность. Поэтому его знание изначально является знанием о том, что он ничего не знает, tabula rasa, жаждущей реализации. Потребность в познании в связи с собственным незнанием, естественно, побуждает его поинтересоваться, можно ли найти знание у кого-то другого, толкает его к диалогическому методу, в котором его роль – задавать вопросы, но в котором надежда научиться чему-то у собеседников также тает через диалектический анализ их идей. В этом заключается знаменитая ирония Сократа. Однако в то же время он развивает в собеседнике положительные результаты, которых еще не было в другом: противоречия, обнаруженные в обычных идеях, требуют их исправления (обычно путем квалификации), так что при тщательном продолжении этой индуктивной процедуры и умелом использовании отрицательных примеров из общих идей возникают исправленные и очищенные понятия. Аристотель справедливо приписывает Сократу высшую заслугу такой концептуализации, которая является индуктивным процессом, поскольку восходит от частного к общему. Принцип, которым руководствовался Сократ в этом стремлении, заключался в том, что истина может заключаться только в концептуальном знании. Соответственно, дошедшие до нас аргументы Сократа также состоят из выводов, сделанных на основе умозрительной концепции в применении к конкретному случаю.
2. Платон
Платон разделяет принципы Сократа о том, что только понятийное знание может дать истину и что от обыденных представлений нефилософского сознания, преодолевая их диалектически, указывая на содержащиеся в них противоречия, необходимо восходить к истинным и наиболее общим понятиям, которые теперь не содержат противоречий. Однако, помимо более совершенного осуществления этого требования, он идет дальше своего предшественника в том, что объявляет эту индуктивную процедуру лишь первой, подготовительной половиной всей науки и возлагает вторую, теперь уже фактически систематическую ее часть на дедуктивный спуск из полученных таким образом принципов. Оба требования он объединяет в отрывке Republica VI. 511 B:
«Научись теперь познавать другую часть мышления, к которой разум сам прикасается посредством способности диалектики, устанавливая предпосылки не как принципы, но фактически только как предпосылки, как бы подступы и начала, чтобы через них дойти до беспредпосылочного, до принципа всего, и, прикоснувшись к этому, снова постигая то, что охватывается этим, таким образом спуститься до последнего, не прибегая ни к чему разумному, но так, чтобы исходить исключительно от понятий через понятия к понятиям».
Единственное, что здесь может быть неясным, – это что значит устанавливать предпосылки. Его «Парменид», страница 136, наставляет нас на этот счет:
«Кроме того, ты должен поступать и так, чтобы не только исследовать нечто как предположенное, что вытекает из предположения, но и предположить то же самое как не являющееся, если ты хочешь больше практиковаться. Например, если Многое есть, что тогда должно быть результатом для самого Многого в себе и по отношению к Многому, то вы должны таким же образом исследовать, и когда Многое не есть и что тогда должно быть результатом для Единого, а также для Многого, каждого в себе и по отношению друг к другу. Одним словом, что бы вы ни взяли за основу как бытие и небытие или что бы вы ни предположили, вы должны посмотреть, что получится в каждом случае для самого закона и для каждой другой отдельной вещи, которую вы хотите вывести, а также для всего остального в целом».
Этот отрывок и примеры из всех строго научных диалогов Платона ясно показывают, что он понимает под гипотезой или предпосылками, через которые человек поднимается к понятиям, которые следует рассматривать как наиболее общие, то есть как принципы. Далее, эта индукция или эпатаж осуществляется Платоном так же, как и Сократом, только более умело и сознательно, начиная с того, что как можно более знакомо и привычно, делая продвижение как можно более ясным и понятным на примерах и диалектически демонстрируя противоречия неточного или неверного характера общих понятий, принятых за предпосылки, так же как и диалектической демонстрацией противоречий, возникающих в их следствиях, показывается направление, в котором они должны быть изменены, чтобы они представляли истинную сущность вещей и содержали все характеристики, которыми они отличаются от других. В более систематическом варианте, чем предлагает сам Платон, полученные таким образом исправленные понятия превращаются в новые предпосылки и через сочетание с другими понятиями, полученными в параллельных исследованиях, и через дальнейшее развитие следствий во всех направлениях снова исправляются и обобщаются, пока не приходят к самому общему, принципу всего, единственной идее, которая охватывает все низшие идеи или понятия и из которой теперь все должно быть выведено в обратном порядке.
«Особенность последней процедуры, по Платону, заключается в разделении (diairesis, temnein kat’arthra). Как понятие выражает то общее, что есть у большинства вещей, так, наоборот, деление выражает те различия, по которым род различается на свои виды. Задача, таким образом, в целом такова: концептуально измерить всю область, заключенную в роде, путем полного и методичного перечисления видов и подвидов, ознакомиться со всеми разветвлениями понятий вплоть до того места, где заканчивается деление понятия и начинается неопределенная множественность видов. С помощью этой процедуры выясняется, являются ли понятия *идентичными или различными, в каком отношении они подпадают под одно и то же высшее понятие или нет, в какой степени они, следовательно, связаны или противоположны, совместимы или несовместимы; одним словом, устанавливается их взаимная связь и на основе этого знания осуществляется методичный спуск от самого общего к самому частному и к пределам понятийного мира». (Целлер, Философия греков, 2-е издание, т. II, с. 395 – 397)
Таким образом, диалектическое нисхождение Платона от принципа есть не что иное, как обратный шаг по ступеням абстракции, проделанным вверх в эпистемологическом возникновении понятий.
Против правильности процедуры возражений нет, но мы сталкиваемся со следующей альтернативой: либо процедура формирования понятий была полной и осознавала свою завершенность, и тогда нисходящая процедура излишня, поскольку все моменты, затронутые в ней, уже решены в восхождении; либо нисходящая процедура действительно предлагает нечто новое и беспрецедентное, и тогда восходящая процедура была неполной и принципы не были достаточно установлены и закреплены, чтобы сделать необходимым предоставление правильных и полных результатов в нисходящей. Но поскольку мы должны установить принцип как можно надежнее, нам также придется настаивать на полноте метода восхождения и, таким образом, объявить метод нисхождения излишним. Для нас важно следующее:
«Истинный диалектик тот, кто умеет распознать единое понятие, проходящее через множество и отдельное, и так же, наоборот, методично провести единое понятие по всей лестнице его подтипов до отдельного, а следовательно, установить взаимное отношение понятий друг к другу и возможность или невозможность их соединения». Ср. Phaedrus, 265, 261 E, 273 D, 277B, Sophistes 253 (Zeller, ibid. стр.390). Квинтэссенция философской науки: «Знать, как различать, в каком отношении каждое понятие может иметь общение друг с другом и в каком не может» (Софисты, 253).
В своей «Истории философии» Гегель, очевидно, слишком много вложил в Платона своей концепции диалектики. Так, например, «Парменид» ошибочно рассматривается Гегелем как репетиция его собственной диалектики, поскольку понятие Единого с самого начала в разных смыслах берется за основу для различных серий выводов, которые приводят к противоположным результатам. (Ср. HEYDER, Vergleich der ariostotelischen und Hegelianischen Dialektik I, pp. 109 – 113) Не желая отрицать возможность того, что даже Платон вполне мог представить себе здесь и там отождествление противоположностей в гегелевском смысле как далекий идеал, поскольку это избавило бы его от необходимости исправлять концепцию удобным объяснением противоречия истине, тем не менее следует твердо утверждать, что он не мог, осознавая эту концепцию диалектического, предаваться ей, не вступая в противоречие с самим собой. Он говорит в Republica IV. 436 B: «Ясно, что одна и та же вещь не может в одно и то же время делать или претерпевать противоположные вещи в одном и том же отношении, так что если мы обнаружим это где-либо, то будем знать, что это не одна и та же вещь, а нечто большее». В «Федре» 102 он утверждает, что великое не хочет быть малым, а малое не хочет быть великим, а когда ему возражают, что Сократ сам говорил, что противоположное становится противоположным, он отвечает:
«Тогда говорили, что противоположное состояние становится противоположным состоянием, а теперь говорят, что противоположное само по себе не может стать своей противоположностью». В «Софистах» 230 B он утверждает, «что критерием ложности является то, что два утверждения противоречат друг другу в одно и то же время об одних и тех же предметах, находящихся в одних и тех же отношениях в соответствии с одним и тем же смыслом».
Таким образом, он устанавливает закон противоречия в качестве нормы как для мышления, так и для бытия; «даже если, следовательно, одна идея проходит через многие другие или включает их в себя, – Sophistes 253 D – это может произойти только таким образом, что каждая из них остается неизменной и тождественной самой себе – Philebos 15 B -, ибо одно понятие может быть связано с другим только в той мере, в какой оно тождественно ему» – Sohistes 256 – (Zeller, Philosophie der Griechen II, 2. Целлер, Философия греков II, 2-е издание, стр. 458), точно так же, как, например, понятия бытия и небытия могут быть связаны в той мере, в какой они оба разделяют понятие различного. Платон ни в коем случае не отрицает связь понятий, без которой вообще невозможно никакое пропозициональное образование (Soph. 263 E; Theaetetus 189), но он отрицает, что понятия связаны тем, что в них разное, или что связь противоречивых вещей вообще может быть реализована. Он также не отрицает временного перехода противоположных состояний друг в друга или перехода мысли от одного понятия к другому, но он отрицает, что понятие может перейти из себя в свою противоположность или что противоположности могут возникать в нем в одно и то же время и в одном и том же отношении. (Soph. 256, начало) Два последних пункта, однако, отделяют диалектику Гегеля от здравого смысла. Если Гегель, несмотря на многократное и явное осуждение Платоном тождества противоположностей в одном и том же отношении, все же утверждает, что Платон объявил это истинной диалектикой, он опирается на один неясный и спорный отрывок из «Софиста», который, как бы его ни трактовать грамматически, в любом случае исключает гегелевскую интерпретацию. (Соф. 259, ср. «Верке» Гегеля XIV, стр. 210; также HEYER, op. cit. стр. 98f)
То, что философский метод Платона был диалектическим, действительно неудивительно, учитывая отсутствие какого-либо осознания метода вообще, учитывая модели, которые он имел перед собой, учитывая публичный и устный характер греческого общения, учитывая полное отсутствие эмпирического материала, на котором можно было бы основывать возможную индукцию, учитывая несравненную красоту и интеллектуальную глубину греческого языка, бессознательные сокровища которого ему только предстояло вывести на свет. Философствование на основе языка всегда идет по схожему пути, независимо от того, осознает он его источник или нет, и тем более в то время, когда еще неизведанные сокровища греческого языка ждали своего первооткрывателя, и это был единственный уже проторенный путь, а все остальные терялись в непроходимой пустыне. Тем не менее, Платон и сам ясно понимал, что его диалектика не способна решить поставленную перед ней задачу, что она не может ни аподиктически [логически убедительно, доказательно – wp] вести от субъективных эмпирических понятий абстракции к определенной реализации Идей как метафизических сущностей, ни обеспечить реальное, генетическое выведение чувственного многообразия вещей из априорных Идей. Однако, поскольку он требует от философии аподиктической определенности, не уступающей математике, и поскольку он хочет противопоставить диким разногласиям софистов определенное знание, он считает необходимым дать диалектике надежное основание через память и интеллектуальное созерцание. Память должна возвращать душе идеи в том виде, в каком она видела их на небесах, прежде чем стать телесной; а небесный Эрос, то есть стремление к единению с Единым и Благим, должен пробуждать интеллектуальное восприятие идеи как настоящего. Таким образом, отсутствие диалектического метода и приверженность претензии на абсолютную достоверность вызывают мифологические дополнения. Тот, кто обладает памятью и интеллектуальным взглядом, дарованным Эросом, находится за пределами диалектического метода и больше в нем не нуждается; кто не обладает ни тем, ни другим, для того диалектика также имеет лишь пропедевтическое [подготовительное – wp] значение, чтобы привести его к этим двум.