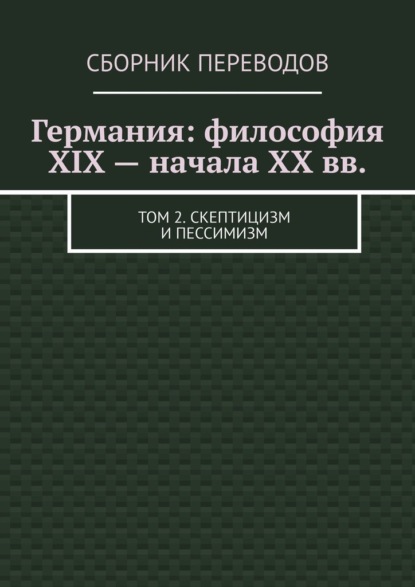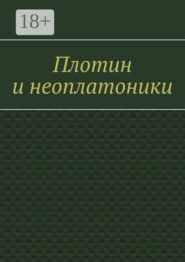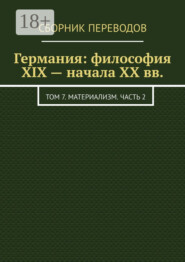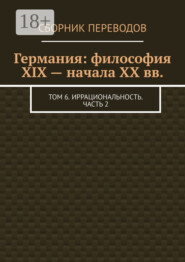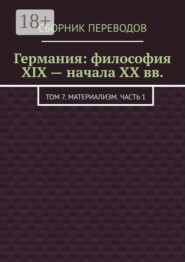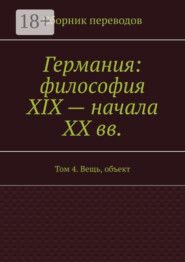По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 2. Скептицизм и пессимизм
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
9) частые или редкие случаи,
10) формирование обычаев, законов, мифических верований, предрассудков.
Сам Секст замечает по поводу их формы, что все эти тропы на самом деле могут быть сведены к тройственности: одно из различий распознающего субъекта, другое – распознаваемого объекта, а третье состоит из обоих. При этом необходимо, чтобы в реализации несколько из них перетекали друг в друга. – В первых двух тропах о различии животных и людей Секст говорит также о различии органов, которое на самом деле относится к третьей; самым обширным, отмечает Секст, является восьмой пункт, который касается обусловленности каждого конечного другим, или того, что каждое находится только в отношении к другому. Видно, что они выдвинуты произвольно и предполагают неразвитую рефлексию или, скорее, непреднамеренную рефлексию по отношению к собственному учению, а также невнятность, которой не было бы, если бы скептицизм уже имел дело с критикой наук.
Но еще более содержание этих тропов доказывает, как далеки они от тенденции против философии и как они полностью идут против догматизма здравого смысла; ни один из них не касается разума и его познания, но все они абсолютно только конечного, и познания конечного, понимания; их содержание отчасти эмпирическое, поскольку оно не касается спекуляции как таковой; отчасти оно касается отношения вообще, или того, что все реальное обусловлено другим, и поскольку оно выражает принцип разума. Таким образом, скептицизм направлен не против философии вообще, а в не философском, а народном смысле, против здравого смысла или обыденного сознания, которое держится за данное, за факт, за конечное (это конечное называется видимостью или понятием) и цепляется за него как за совесть, уверенность, вечность; Скептические тропы показывают ему зыбкость такой уверенности, что также близко обычному сознанию; ибо он также призывает на помощь видимости и конечности, и из их различия, как из равного права всех утверждать себя, из антиномии, признаваемой в самой конечности, он признает их ложность. Поэтому его можно рассматривать как первую ступень философии; ибо началом философии должно быть возвышение над истиной, которую дает обыденное сознание, и предчувствие высшей истины; новейший скептицизм с его уверенностью в фактах сознания должен быть поэтому отнесен прежде всего к этому старому скептицизму и к этой первой ступени философии; или к самому здравому смыслу, который прекрасно понимает, что все факты его сознания и само его конечное сознание преходящи и что в них нет никакой определенности; разница между этой стороной здравого смысла и этим скептицизмом состоит в том, что последний выражает себя: «все преходяще»; скептицизм же, напротив, когда факт установлен как определенный, умеет доказать, что эта определенность – ничто. – Более того, в здравом смысле этот его скептицизм и его догматизм о конечности стоят бок о бок, и таким образом этот скептицизм становится чем-то чисто формальным; поскольку, с другой стороны, последний упраздняется собственно скептицизмом, и, таким образом, общая вера в неопределенность фактов сознания перестает быть чем-то формальным, в том смысле, что скептицизм возводит весь объем реальности и определенности в потенцию неопределенности и уничтожает общий догматизм, который бессознательно относится к отдельным обычаям, законам и прочим обстоятельствам, как к силе, для которой человек есть только объект, и которую он также постигает в деталях по нити ее воздействия, составляет о ней вразумительное знание и тем только все глубже и глубже погружается в служение этой силе. Скептицизм, который свобода разума возвышает над этой природной необходимостью, признавая ее ничем, в то же время воздает ей высшую степень чести, поскольку ни одна из ее частностей не является для нее определенной, а только необходимость в ее всеобщности, поскольку она помещает в нее саму частность, как абсолютную цель, которую она хочет осуществить в ней, как если бы знала, что такое благо; – Он предвосхищает в индивидууме то, что необходимость, отвлеченная конечностью времени, бессознательно исполняет в бессознательной расе; то, что последняя считает абсолютно одним и тем же, неподвижным, вечным и везде одинаковым, время отнимает у него; чаще всего это знакомство с чужими народами, распространяющееся по естественной необходимости; как, например, знакомство европейцев с другими народами. Так, например, знакомство европейцев с новой частью света оказало то скептическое влияние на догматизм их прежнего здравого смысла и их несомненную уверенность в ряде понятий о праве и истине.
Поскольку скептицизм имел положительную сторону только в своем характере, он не претендовал на роль ереси или школы, но, как уже говорилось выше, был agoge, воспитанием к образу жизни, воспитанием, субъективность которого могла быть только объективной в нем, что скептики использовали то же оружие против объективного и зависимости от него, они признавали Пирра основателем скептицизма в том смысле, что были похожи на него не в доктринах, а в этих поворотах против объективного («Диоген» IX. 70). Атараксия, к которой приучал себя скептик, заключалась в том, что, как говорит Секст (Sextus adv. Ethicos. 154. говорит, что никакое беспокойство не может быть ужасным для скептика, ибо даже если оно самое большое, то вина за него падает не на нас, страдающих без воли и по необходимости, а на природу, которой то, что определяют люди, не касается, и на того, кто своим мнением и волей причиняет себе зло. С этой положительной стороны столь же очевидно, что скептицизм не чужд никакой философии. Апатия стоика и равнодушие философа в целом должны быть признаны в этой атараксии. Пиррон, как оригинальный человек, стал философом по собственному почину, как всякий родоначальник школы, но его оригинальная философия не была, следовательно, особой философией, обязательно и по своему принципу противопоставленной другим; индивидуальность его характера не выражалась в философии, как и сама философия, и его философия была не чем иным, как свободой характера; но как могла философия в ней противостоять этому скептицизму? Когда ближайшие ученики таких великих личностей придерживались, как это бывает, формального, отличительного совершенства, то, конечно, ничего, кроме различия, не возникало; но когда вес авторитета личности и ее индивидуальности постепенно все более и более размывался, а философский интерес поднимался чисто, тогда то же самое можно было снова признать в философии. Как Платон объединил в своей философии сократическую, пифагорейскую, зеноистскую и другие, так случилось, что Антиох, о котором слышал Цицерон, – и если бы из его жизни не следовало, что он был испорчен для философии, то его философские произведения не бросали бы благоприятного света на его учителя и его объединение философий – перенес стоическую философию в Академию; а что последняя включала скептицизм в своей основе, мы уже видели выше. Не следует забывать, что мы говорим здесь о таком союзе, который признает внутреннюю сущность различных философий как одно и то же, а не об эклектизме, который бродит по их поверхности и плетет свою тщетную гирлянду из маленьких цветов, собранных отовсюду.
Это совпадение времени, что различные философские системы впоследствии полностью разошлись, и что апатеисты атараксии, догматики Стои (Sextus, Pyrrh. Hyp. 65.) теперь считают скептиков своими самыми противными оппонентами. К этому полному разделению философий и полному закреплению их догм и различий, а также к нынешнему направлению скептицизма отчасти против догматизма, отчасти против самой философии, относятся исключительно пять последующих тропов скептиков, которые составляют своеобразный арсенал их оружия против философского знания и которые мы кратко упомянем, чтобы оправдать наше изложение. Первый из этих тропов эпохи – троп различия, а именно, уже не животных или людей, как в первом десятке, – а общих мнений и доктрин философов, как друг против друга, так и внутри себя; троп, в отношении которого скептики всегда очень широки, и видят и вводят различие везде, где лучше было бы видеть тождество. Второе – это стремление к бесконечному; Секст использует его так же часто, как и в более позднее время, как тенденцию к обоснованию; это хорошо известное, что для обоснования одного требуется новое обоснование, для этого – снова, и так далее до бесконечности. – Третье было уже в числе первых десяти, а именно – отношение. Четвертая – предпосылки, – против догматиков, которые, чтобы не быть загнанными в бесконечность, выдают нечто за абсолютно первое и недоказуемое, – чему скептики тут же подражают, выдавая, с полным правом, противоположное этой предпосылке без доказательства. Пятый – взаимный, когда то, что должно служить доказательством другого, само требует для своего доказательства того, что должно быть доказано им. – Два других тропа, о которых Секст говорит, что они также изложены, о которых Диоген не упоминает, и из которых мы сами видим, что они не представляют собой ничего нового, но только предыдущие, приведенные к более общей форме, содержат, что то, что задумано, задумано либо от себя, либо от другого; – Не из самого себя, поскольку существует разногласие относительно источника и органа познания, будь то чувства или интеллект; не из другого, поскольку в противном случае мы впадаем в троп бесконечного или взаимного.
Из повторения некоторых из первых десяти, а именно части того, что стоит первым и третьим среди пяти, и из всего их содержания видно, что намерение этих пяти тропов совершенно иное, чем тенденция первых десяти, и что только они относятся к позднейшему повороту скептицизма против философии. Нет более подходящего оружия против догматизма финитов, но они совершенно бесполезны против философии; поскольку они не содержат ничего, кроме понятий рефлексии, они имеют совершенно противоположное значение, когда обращены к этим двум различным сторонам; Против догматизма они выступают с той стороны, что они принадлежат разуму, что ставит другую часть необходимой антиномии рядом с той, которую утверждает догматизм, – против философии же с той стороны, что они принадлежат рефлексии; против последней они должны поэтому победить, но перед последней они распадаются сами на себя или сами являются догматическими. Поскольку сущность догматизма состоит в том, что он есть вещь конечная, страдающая противоположностью (напр. чистый субъект или чистый объект, или, в дуализме, двойственность в противоположность тождеству) в качестве абсолюта, разум показывает из этого абсолюта, что он имеет отношение к тому, что из него исключено, и, таким образом, не является абсолютным только через и в этом отношении к другому, согласно третьему тропу отношения; если этот другой должен иметь свое основание в первом, как первый имеет свое основание в другом, это есть круг и подпадает под пятый, диаллельный троп; Если же круга нет, но этот другой должен быть основан в самом себе как основание первого, и если он делается необоснованной пресуппозицией, то, поскольку он является основанием, у него есть противоположность, и эта противоположность может быть пресуппозирована с тем же правом, что и недоказанная или необоснованная, поскольку здесь уже однажды основание было признано согласно четвертому тропу пресуппозиций; или же этот другой как основание снова предполагается обоснованным в другом, тогда это основание уводится в бесконечность рефлексии конечного в бесконечное и снова оказывается безосновательным, согласно второму тропу. Наконец, этот конечный абсолют догматизма также должен быть общим, но он неизбежно не будет найден, потому что он ограничен; и здесь возникает первая тропа различия. – Этот троп, непреодолимый для догматизма, Секст использовал с большой удачей против догматизма, особенно против физики, науки, которая, как и прикладная математика, является истинной основой рефлексии, ограниченных понятий и конечного, – но которая для последнего скептика, конечно, является наукой, бросающей вызов всякому разумному скептицизму; напротив, можно утверждать, что старая физика была более научной, чем новая, и, таким образом, давала меньше возможностей для скептицизма.
Против догматизма эти тропы разумны, потому что они представляют собой противоположное конечному догматизму, от которого он абстрагировался, создавая тем самым антиномию. Напротив, обращенные против разума, они сохраняют как свое собственное чистое различие, от которого они затронуты; разумное в них уже присутствует в разуме. Что касается первого тропа, различия, то разумное вечно и повсюду равно самому себе; чисто неравные существуют только для разума; и все неравное устанавливается разумом как единое. Конечно, это единство, как и то неравенство, не должно восприниматься, как говорит Платон, общим и юношеским образом, когда бык и т. д. рассматривается как единое, о котором утверждается, что он одновременно много быков. Невозможно показать, что разумное по третьему тропу существует только в отношении, в необходимой связи с другим, поскольку оно само не что иное, как отношение. Поскольку разумное является самим отношением, те, кто находятся в отношении, которые, если бы они были установлены разумом, должны были бы обосновывать друг друга, не попадают в круг или в пятый, диалелический, поскольку в отношении нет ничего, что можно было бы обосновать в беспорядке.
Таким образом, разумное не является неподтвержденным предположением по четвертому тропу, поскольку противоположное также могло бы быть неподтвержденным с тем же правом, ибо у разумного нет противоположного; оно включает в себя конечные, одно из которых является противоположным другому. Оба предыдущих тропа содержат понятие причины и следствия, согласно которому одно обосновано другим; поскольку для разума нет другого против другого, то как они, так и требование причины, сделанное на основе противоположений и бесконечно продолжающееся, второй троп, стремящийся к бесконечному, исчезают; ни то требование, ни эта бесконечность не имеют отношения к разуму.
Поскольку эти тропы все заключают в себе понятие конечного и основываются на нем, их применение к разумному непосредственно приводит к тому, что оно становится конечным; они придают ему, чтобы его ограничить, «чесотку» ограниченности. Они не противоречат разумному мышлению сами по себе, но когда они противоречат ему, как их использует Секст, они непосредственно изменяют разумное.
С этой точки зрения можно понять все, что скептицизм выдвигает против разумного; пример мы видели выше, когда он оспаривает познание разума, утверждая, что оно либо абсолютно субъективно, либо абсолютно объективно, и либо целое, либо часть; оба этих аспекта добавлены именно скептицизмом. Таким образом, когда скептицизм выступает против разума, следует немедленно отвергнуть понятия, которые он приносит, и отклонить его неэффективные для атаки аргументы. – Что новейший скептицизм всегда приносит с собой, как мы видели выше, так это понятие вещи, которая находится за и под явлениями. Когда старый скептицизм использует термины hypokeimenon, hyparchon, adelon и т.д., он обозначает объективность, которая составляет его суть и не поддается выражению; он остается на уровне субъективности явления. Это явление для него не является чувственным объектом, за которым, согласно догматизму и философии, должны утверждаться другие вещи, а именно сверхъестественные. Поскольку он вообще сдерживается от того, чтобы высказать уверенность и бытие, у него уже нет ни одной вещи, ни условной, о которой он знал бы; и ему не нужно сваливать на философию ни эту определенную вещь, ни другую, которая была бы за ней, чтобы заставить её упасть.
Из-за ослепления скептицизмом против знания вообще, поскольку он здесь противопоставляет одно мышление другому, и это: есть, борется с философским мышлением, он вынужден также отменить это: есть своего собственного мышления, оставаясь в чистой негативности, которая сама по себе является чистой субъективностью. Как отвратительно были скептики по этому поводу, мы видели выше на примере новой академии, которая утверждала, что всё неопределенно, и что это утверждение включает в себя само себя; однако даже это для Секста не достаточно скептично, он отличает их от скептицизма, потому что они устанавливают и догматизируют утверждение; однако это утверждение настолько выражает высший скептицизм, что это различие становится совершенно пустым.
Также это должно было произойти с Пирроном, чтобы его представили догматиком. Этот формальный вид утверждения – это то, чем скептики любят заниматься, возвращая им, что если они во всем сомневаются, то, по крайней мере, это: «я сомневаюсь», «мне кажется» и т. д. является несомненным, то есть противопоставляя реальность и объективность мыслительной деятельности, когда они при каждом утверждении через мышление придерживаются формы утверждения, и таким образом объясняют каждое высказанное действие как нечто догматичное.
В этом экстремуме высшей консеквенции, а именно негативности или субъективности, которая больше не ограничивается субъективностью характера, одновременно являющейся объективностью, а становится субъективностью знания, направленной против знания, скептицизм должен был стать непоследовательным; поскольку экстремум не может существовать без своего противоположного. Чистая негативность или субъективность, таким образом, либо является ничем, уничтожая себя в своем экстремуме, либо должна стать крайне объективной. Осознание этого лежит на поверхности и подчеркивалось противниками; скептики именно поэтому, как упоминалось выше, заявили, что их фонаи, а именно «все неверно, ничего истинного, ни одно не более другого», включают в себя самих себя. Скептик, произнося эти лозунги, говорит лишь то, что ему кажется, и выражает свою аффекцию, а не мнение или утверждение о объективном бытии. Секст, Пирр. Гипт. 7. и иначе, особенно гл. 24, где Секст выражается так, что, когда скептик говорит, как тот, кто произносит «перипате», на самом деле говорит: «я иду», всегда нужно добавлять: «по отношению к нам», или «что касается меня», или «как мне кажется».
Эта чисто негативная позиция, которая хочет оставаться лишь субъективной и кажущейся, перестает быть познанием; кто твердо держится тщеславия, что ему кажется, будто он так и думает, хочет, чтобы его высказывания были абсолютно не для какого объективного мышления и суждения, того нужно оставить; его субъективность не касается никого другого, тем более обычного сознания, или философия не касается его.
Из этого рассмотрения различных сторон древнего скептицизма вытекает, чтобы кратко подытожить, различие и суть новейшего скептицизма.
Этому, во-первых, недостает самой благородной стороны скептицизма, направленной против догматизма обычного сознания, которая присутствует во всех трех указанных модификациях: он, а именно, идентичен философии и только ее негативной стороне, или отделен от нее, но не направлен против нее, или направлен против нее. Для новейшего скептицизма общее сознание, охватывающее бесконечное множество фактов, обладает неоспоримой уверенностью; рассуждение [аргумент – wp] об этих фактах сознания, их отражение и классификация, что составляет дело разума, предоставляют этому скептицизму, частично в виде эмпирической психологии, частично через аналитическое мышление, примененное к фактам, множество других наук, возвышающихся над любыми разумными сомнениями. Эта грубость, заключающая неоспоримую уверенность и истину в фактах сознания, не была присуща ни раннему скептицизму, ни материализму, ни даже самому обыкновенному здравому смыслу, если он не является полностью животным; она оставалась неслыханной в философии до новейших времен. Кроме того, согласно этому новейшему скептицизму, наша физика, астрономия и аналитическое мышление всех разумных сомнений оказывают сопротивление; и, следовательно, ему также не хватает благородной стороны позднего старого скептицизма, которая направлена против ограниченного познания и конечного знания.
Что же остается от этого новейшего скептицизма, который в своей ярчайшей ограниченности как эмпирического восприятия, так и эмпирического знания, превращающего эмпирическое восприятие в рефлексию и лишь предполагающего его анализировать, но ничего к нему не добавляющего, – ставит свою истину и уверенность? Ничего, кроме отрицания разумной истины и, для этой цели, превращения разумного в рефлексию, познания абсолютного в конечное познание. Основная форма этого превращения, пронизывающая все, заключается в том, что противоположность первой определенной Спинозой, которая объясняет causa sui [причина самой себя – прим. ред.], как то, чья сущность одновременно включает существование, становится принципом и утверждается как абсолютный принцип, что мысль, будучи мыслью, не включает в себя бытие. Это разделение разумного, в котором мышление и бытие едины, на противоположные мышление и бытие, и абсолютное удержание этого противопоставления, таким образом, абсолютно сделанный разум становится основой этого догматического скептицизма, который бесконечно повторяется и применяется повсюду.
Эта оппозиция, рассматриваемая сама по себе, имеет то достоинство, что в ней различие выражается в своей высшей абстракции и в своей истинной форме; сущность знания состоит в тождестве общего и частного, или того, что положено под форму мысли и бытия, и наука есть по своему содержанию воплощение этого рационального тождества и с формальной стороны – постоянное его повторение; нетождественность, принцип обыденного сознания и противоположность знания, выражает себя самым определенным образом в этой форме противопоставления; часть достоинства этой формы, конечно, отнимается опять-таки тем, что она мыслится только как противопоставление мыслящего субъекта существующему объекту.
Однако достоинство этого противопоставления, рассматриваемого по отношению к новейшему скептицизму, совершенно отпадает; ибо изобретение этого противопоставления само по себе старше последнего; но и этот новейший скептицизм лишен всякой заслуги в том, что он приблизился к образованию современности; ибо, как хорошо известно, именно кантовская философия, которая с ограниченной точки зрения является идеализмом, – в своей дедукции категорий действительно упраздняет это противопоставление, но в остальном достаточно непоследовательна, чтобы сделать его высшим принципом спекуляции; поддержание этой антитезы проявляется наиболее явно и с бесконечным самодовольством против так называемого онтологического доказательства существования Бога и как рефлексивное суждение против природы; и особенно в форме опровержения онтологического доказательства оно сделало общую и широко распространенную удачу; Г-н Шульце принял эту форму utiliter [ради пользы – wp], и не только использовал ее в целом, но и буквально пересказал кантовские слова, см. стр. 71 и в других местах; он также восклицает в первой части, стр. 618, в кантовском тоне:
«Если когда-либо делалась ослепительная попытка связать область объективной реальности непосредственно со сферой понятий и перейти из нее в ту лишь с помощью моста, опять-таки состоящего из одних понятий, то это было сделано в онтотеологии; тем не менее, заново (как ослеплена была философия до этих новых времен!) была полностью разоблачена пустая софистика и ослепительная работа, которая с ее помощью делается».
Господин Шульце только и делает, что подхватывает это недавнее замечательное открытие Канта, как это делают бесчисленные кантианцы, и применяет эту простейшую шутку налево и направо, и против самого отца изобретения повсюду, и атакует и растворяет все его части одним и тем же едким веществом.
Философская наука тоже вечно повторяет одно и то же рациональное тождество, но это повторение порождает новые образования из образований, из которых она развивается в законченный органический мир, признаваемый в своем целом тем же тождеством, что и в своих частях; Но вечное повторение той оппозиции, которая проистекает из дезорганизации и nihil negativum [ничего отрицательного – wp], с отрицательной стороны есть вечное выливание воды в решето, а с положительной – постоянное и механическое применение одного и того же разумного правила, из которого никогда не возникает новая форма, но всегда выполняется одна и та же механическая работа; это применение напоминает работу дровосека, который всегда делает один и тот же удар, или портного, который шьет форму для целой армии. То, что Якоби имеет в виду, говоря о знании в целом, на самом деле является постоянно разыгрываемой нюрнбергской игрой в крикет, которая вызывает у нас отвращение, как только мы узнаем и знакомимся со всеми ее ходами и возможными поворотами. У этого скептицизма есть только один ход и только один поворот игры, и даже это ему не свойственно, но он перенял это у кантианства. Этот характер новейшего скептицизма наиболее ясно проявляется в том, что он называет своими причинами, и на примере их применения.
Это уже очевидно из того, как он задумал свой объект, а именно интерес спекулятивного разума, а именно как задачу объяснения происхождения человеческих познаний вещей; выделение безусловно существующего из условно существующего; здесь в разуме, во-первых, вещи противопоставляются познанию, во-вторых, объяснению их происхождения, и таким образом вводится каузальная связь; Теперь основание познания отличается от основания рассудочного познания, первое – понятие, второе – вещь, и как только эта в корне ложная концепция рационального мышления была предпослана, не остается ничего другого, как повторять, что основание и причина, понятие и вещь – две разные вещи; что все рациональное познание занимается тем, что вычленяет бытие из мысли, существование из понятий, как это говорится столь же кантовскими словами.
Согласно этому новейшему скептицизму, человеческая способность познания есть вещь, имеющая понятия, а поскольку она не имеет ничего, кроме понятий, она не может выйти к вещам внешним; она не может исследовать или разведать их – ибо эти две вещи (Часть 1, с. 69) специфически различны; ни один разумный человек, обладая идеей чего-то, не будет думать, что он в то же время сам обладает этим чем-то.
Нигде не сказано, что этот скептицизм был бы настолько последовательным, чтобы показать, что ни один разумный человек не будет считать себя обладателем представления о чем-то, ибо, поскольку представление также является чем-то, разумный человек может считать себя обладателем только представления о представлении, а не самого представления, и опять-таки не представления о представлении, поскольку это представление о второй силе также является чем-то, а только представления о представлении и т. д. Или, поскольку дело однажды представлено таким образом, что есть два различных факта, один из которых – нечто, содержащее идеи, другой – нечто, содержащее вещи, нельзя понять, почему первый должен оставаться полным, а второй – вечно пустым.
Причиной того, что первое полно, а второе мы считаем только полным, может быть не что иное, как то, что первое – рубашка, а второе – юбка субъекта, причем карман идей находится ближе к нему, а карман вещей – дальше; но таким образом доказательство было бы сделано путем предположения того, что должно быть доказано; ведь речь идет именно о предпочтении реальности субъективного и объективного.
С этим скептическим основоположением, что следует размышлять только о том, что представление не есть то, что представлено, а не о том, что оба они тождественны, то, что говорится о несомненной достоверности фактов сознания, конечно, плохо согласуется; ибо, по мнению г-на Шульце (1. Согласно г-ну Шульце (часть I, стр. 68), идеи истинны, реальны и составляют знание в той мере, в какой они совершенно соответствуют тому, к чему они относятся, и тому, что ими представлено, или представляют сознанию не что иное, как то, что есть в представленном, и в повседневной жизни мы постоянно предполагаем такое соответствие как определенное, нисколько не заботясь о его возможности, как это делает новейшая метафизика. – На чем же еще основывает г-н Шульце неоспоримую достоверность фактов сознания, как не на абсолютном тождестве мысли и бытия, понятия и вещи, он – который затем снова на одном дыхании объявляет субъективное, понятие, и объективное, вещь, специфически различными. В повседневной жизни, говорит г-н Шульце, мы предполагаем это тождество; то, что оно предполагается в повседневной жизни, означает, что оно не существует в обыденном сознании; новейшая метафизика стремится проникнуть в возможность этого тождества; но нет никакой истины в том, что новейшая философия стремится проникнуть в возможность тождества, предполагаемого в обычной жизни; ибо она не делает ничего, кроме выражения и признания этого предполагаемого тождества; Именно потому, что в обыденной жизни это тождество предполагается, обыденное сознание всегда представляет объект как нечто иное, чем субъект; и объективное между собой, и субъективное опять-таки как бесконечную множественность совершенно различных вещей; это тождество, которое для обыденного сознания только предполагается и бессознательно, доводится до сознания метафизикой; оно есть ее абсолютный и единственный принцип.
Тождество можно было бы объяснить только в том случае, если бы оно не было, как говорит г-н Шульце, предпосылкой повседневной жизни, но реальной предпосылкой, т. е. абсолютно определенной и конечной, а потому и субъект и объект конечны; но объяснение этой конечности, в той мере, в какой оно опять-таки предполагает причинное отношение, выходит за рамки философии. – Г-н Шульце говорит об этом соответствии, что его возможность – одна из величайших загадок человеческой природы, и в этой загадке в то же время кроется секрет возможности знания вещей «априори», то есть еще до того, как мы посмотрим на эти вещи. – Тогда мы правильно узнаем, что такое знание a priori; снаружи – вещи; внутри – способность познания; когда она познает, не глядя на вещи, она познает a priori. – Чтобы ничего не упустить из этих трех страниц 68—70, содержащих подлинную квинтэссенцию понятий этого новейшего скептицизма в отношении философии, мы должны еще заметить, что г-н Шульце говорит о том, в чем состоит действительное положительное соответствие идей с их реальными объектами, что это не может быть далее описано или указано в словах; Каждый мой читатель должен скорее стремиться узнать это, наблюдая это, когда он сознает это (положительное), и видя то, что он воспринял и понял, например, когда, сравнивая представление, которое он составил о вещи в ее отсутствие, с самой вещью, как только он на нее посмотрит, он обнаружит, что она полностью соответствует ей и точно ее представляет». В чем смысл этого объяснения? Неужели все соответствие (или несоответствие) представления объекту опять-таки сводится к психологическому различию между присутствием и отсутствием, между актуальным восприятием и памятью? Должно ли тогда, в отсутствие вещи, соответствие представления с объектом, присутствующее в восприятии, ускользнуть от читателей, и нечто иное предстать перед их сознанием теперь, чем то, что присутствует в воображаемой вещи, говоря в терминах г-на Шульце. Не успело тождество субъекта и объекта, в котором заключена неоспоримая уверенность, стать очевидным, как оно, неизвестно как, тут же переносится снова в эмпирическую психологию; оно временами погружается в психологический смысл, чтобы быть полностью забытым в критике самой философии и в скептицизме, и оставить поле для нетождества субъекта и объекта, понятия и вещи.
Эта неидентичность проявляется как принцип в том, что называется тремя основаниями скептицизма. Как старые скептики не имели догм, принципов, а называли свои формы тропами, оборотами, которыми, как мы видели, они и были; так и г-н Шульце избегает выражения принципы и называет их, несмотря на то, что они являются полностью догматическими тезисами, только причинами. Большинство этих доводов можно было бы обойтись более полной абстракцией; ведь они не выражают ничего, кроме одной догмы: что понятие и бытие не едины.
Они таковы (часть 1, стр. 613f): Первая причина: поскольку философия должна быть наукой, ей совершенно необходимы истинные принципы. Но такие принципы невозможны.
Разве это не догма? Разве это не похоже на выражение скептического настроя? Такая догма, что абсолютно истинные принципы невозможны, тоже требует доказательства; но поскольку этому догматизму приходит в голову называть себя скептицизмом, выражения доказательства снова избегают, а вместо него используют слово объяснение; но как такая внешняя видимость может изменить дело?
Объяснение, как и всегда, обвиняет спекулятивных философов в том, что они полагают, будто могут вывести заключение о существовании сверхчувственных вещей из одних только понятий; само же доказательство исходит из того, что в пропозиции, т. е. в пропозиции, т.е. соединении идей и понятий, нет никакого соответствия между пропозицией и тем, что таким образом мыслится как необходимое, ни в соединении (copula), ни в понятиях пропозиции; – copula есть только отношение предиката к субъекту в уме, (т.е. нечто чисто субъективное), и по своей природе вообще не имеет отношения ни к чему вне мысли ума; – в понятиях предиката и субъекта ничего, – ибо с действительностью понятия в уме связана только его возможность, т.е. что оно не противоречит самому себе. Т.е. что оно не противоречит самому себе, но не то, что оно имеет отношение к чему-то отличному от себя. Здесь, таким образом, господин Шульце попадает на ослепительную и пустую софистику онтологического доказательства существования Бога. – Вторая причина – не что иное, как повторение этого объяснения (стр. 620):
То, что спекулятивный философ претендует на признание высших оснований условно существующего, он представляет себе и мыслит лишь в понятиях. Но интеллект, занятый одними лишь понятиями, не способен даже представить себе что-либо в соответствии с реальностью. В пояснении автор говорит, что разум так высоко ценится спекулятивными философами, или исследователями существования вещей из одних только понятий, что тот, кто подвергает это уважение малейшему сомнению, подвергает себя подозрению и обвинению в том, что у него мало или совсем нет разума. Однако и здесь верно обратное: спекуляция рассматривает разум как совершенно неспособный к философии. – Далее г-н Шульце говорит, что мы должны рассмотреть вопрос о том, может ли разум уступить это совершенство пониманию. – Что здесь должен делать разум? Почему автор в самом втором рассуждении говорит только о понимании, о котором в спекуляции вообще не может быть и речи, а не о разуме; как будто он относит понимание к философии, а разум к этому скептицизму? Но мы видим, что в тех немногих случаях, когда встречается слово разум, оно употребляется только как благородное слово, призванное привлечь внимание; то, что производит этот разум, никогда не является ничем иным, как тем, что понятие не есть вещь; и именно такая причина называется пониманием в спекуляции.
Третья причина (стр. 627):
Спекулятивный философ основывает свою притворную науку об абсолютных причинах условно существующего главным образом на умозаключении от природы следствия к природе адекватной причины. Из природы следствия, однако, нельзя с какой-либо степенью уверенности вывести природу причины.
В объяснении утверждается, что если человек не хочет прийти к осознанию того, что может лежать в основе всего обусловленного по вдохновению, то это может быть только осознание, опосредованное принципом причинности. – Для спекулятивной философии эта предпосылка, что отношение причинности в ней преобладает, опять-таки в корне неверна, ибо она скорее полностью изгнана из нее; Если оно и проявляется в форме производства и продукта, то, приравнивая производителя и продукт, причину и следствие, одно и то же, как причину самой себя и как следствие самой себя, оно тем самым немедленно аннулируется, и применяется только выражение отношения, но не само отношение; – что в спекулятивной философии необусловленное выводится из природы обусловленного, об этом ни в коем случае не может быть и речи.
Вот (стр. 643) теперь
«перечень и содержание общих причин, ради которых скептик отрицает определенность доктрин всех философских систем, которые до сих пор были или еще могут быть предложены, и которые определяют его не приписывать обоснованных претензий на истинность ни одной из этих систем».
Однако было замечено, что эти причины не имеют никакого отношения к философии, поскольку философия не занимается ни выделением вещи из понятий, ни исследованием вещи, лежащей за пределами разума, ни вообще тем, что автор называет понятиями, ни вещами, ни следствиями и причинами.
По этим причинам, говорит г-н Шульце (стр. 610), скептик, рассматривая истинную цель философии, ее условия и в то же время способность человеческого разума прийти к реальному и определенному знанию, не может понять, как может когда-нибудь появиться знание о сверхчувственном, если не изменится расположение человеческих способностей к познанию, чего не ожидает ни один разумный человек и на что было бы глупо надеяться. И питать такую надежду было бы тем более глупо, что философия возможна даже при той организации человеческого разума, которую он имеет в текущем году.
Таково оружие, которым теперь сражаются с системами Локка, Лейбница и Канта, а именно: с системами Локка и Лейбница как системами реализма, первая – чувственного, вторая – рационалистического; с системой Канта как системой трансцендентального идеализма; более поздний трансцендентальный идеализм мы оставим для третьего тома.
Первый том содержит изложение этих систем, у Локка – на страницах 113—140, у Лейбница – 141—172, но на страницах 172—578 мы снова получаем отрывок из так часто привлекаемой кантовской «Критики чистого разума»; последующая часть до конца посвящена скептицизму, представленному выше.
Второй том содержит критику этих систем в соответствии с рассмотренными выше причинами; – системы Локка со страниц 7—90, системы Лейбница со страниц 91—125. 600 страниц посвящены кантовской системе.
В качестве примера того, как эти скептические причины применяются к данным системам, мы приводим то, как поступает сам автор Лейбниц во втором томе, стр. 100. – С тех пор как Лейбниц задал тон, что основание необходимых суждений лежит только в самом разуме и что поэтому понимание уже содержит априорное знание, ему, конечно, бесчисленное количество раз повторяли, что необходимые суждения могут исходить только от самого познающего субъекта; Но до сих пор не было продемонстрировано ни одного свойства этого субъекта, в силу которого он был бы особенно пригоден для того, чтобы быть источником необходимых суждений, и ни в его простоте, ни в его субстанциальности, ни даже в его познавательной способности не было бы найдено оснований для такой квалификации. – Являются ли тогда простота и субстанциальность души качествами, которые допускает этот скептицизм? – Если бы в утверждении о необходимых суждениях речь шла только о том, чтобы показать, что они являются качеством души, то ничего не оставалось бы делать, как сказать, что душа обладает качеством необходимых суждений. Если же автор утверждает, что насколько наша проницательность простирается от нашего познавательного «я», настолько мы не находим в ней ничего, что могло бы определить ее как источник необходимых суждений, то сразу же после этого он говорит, что объекты нашего мышления – это иногда случайные, иногда необходимые суждения; Но нельзя сказать, что последние суждения имеют большее отношение к разуму и его природе, чем первые, и что природе нашего разума принадлежит способность производить необходимые суждения; нужно только предположить, что существуют два качества разума, одно качество случайных, другое – необходимых суждений; таким образом, квалификация нашего разума для необходимых суждений показана так же хорошо, как и другие качества в эмпирической психологии. Г-н Шульце признает необходимые суждения как факт сознания.
Но то, что Лейбниц говорит об истинности врожденных понятий и прозрений чистого разума, еще более безосновательно, и приходится удивляться, как этот человек, которому требования к достоверному доказательству были вовсе не неизвестны, мог уделять так мало внимания правилам логики. – Здесь мы узнаем прежде всего, чего не хватало Лейбницу, а именно внимания к логике, и господин Шульце очень удивляется этому; но чего не хватало Лейбницу, а чего у него было слишком много, так это гения, как мы увидим ниже; и то, что у человека есть гений, должно действительно удивлять.
А именно, не самоочевидно, что если в нашем уме есть врожденные понятия и принципы, то вне его есть и нечто соответствующее им, с чем он их соотносит и что он признает таковым в соответствии с его объективной реальностью; ибо понятия и суждения в нас не являются объектами, мыслимыми ими самими, и необходимость отношения предиката к субъекту в нашем мышлении о них вовсе не означает отношения мысли к реальной вещи, существующей вне ее, которая совершенно иная по виду. Мы видим, что автор принимает врожденные понятия в самом вопиющем смысле; согласно его концепции, субъект рождается с пачкой векселей в голове, которые нарисованы на мире, существующем вне его головы; но вопрос заключается в том, приняты ли эти векселя этим банком, не являются ли они фальшивыми; – или с кучей лотерейных билетов в душе, о которых никогда не будет известно, не являются ли они все заклепками; потому что нет никакого розыгрыша лотереи, в котором они были бы реализованы. Это, продолжает автор, всегда признавали и признают защитники врожденных понятий и принципов в человеческой душе, и поэтому они стремились доказать истинность этих понятий и принципов или определить более точно, каким образом эти понятия должны соотноситься с реальными вещами. В примечании говорится, что, по мнению Платона, понятия и принципы, которые душа врожденно приносит с собой в настоящую жизнь и благодаря которым мы только и можем распознавать реальное как оно есть, а не как оно представляется нам через органы чувств, – это всего лишь воспоминания о тех взглядах на вещи, к которым душа приобщалась во время общения с Богом; Картезий оставляет это, апеллируя к правдивости Бога; Спиноза говорит, что мышление нашего ума истинно, потому что оно состоит из идей и познаний Божества, в той мере, в какой они составляют сущность нашего духа; эти познания Божества, однако, должны быть совершенно согласны с тем, что таким образом познается, и даже являются одним и тем же с этими познаниями. Согласно Лейбницу, принципы, лежащие a priori в нашем уме, и содержащиеся в них идеи должны быть наделены истинностью и реальностью по той причине, что они являются образами понятий и истин, находящихся в уме Божества, которые являются принципом возможности, существования и природы всех реальных вещей в мире. Но позиция, которую г-н Шульце занял в этом вопросе, еще до того, как он перешел к критике, прямо смещает его; действительно ли намерение Платона, Спинозы, Картезиуса, Лейбница было доказать, что реальность соответствует врожденным понятиям или разуму? или определить вид, когда эти философы, как основание истинности того же самого, выставляют Бога? Следствие, по мнению г-на Шульце, таково:
а) субъективные понятия, которые сами по себе не имеют реальности, затем
б) реальность, лежащая вне их, теперь
в) вопрос о том, как все это объединяется;