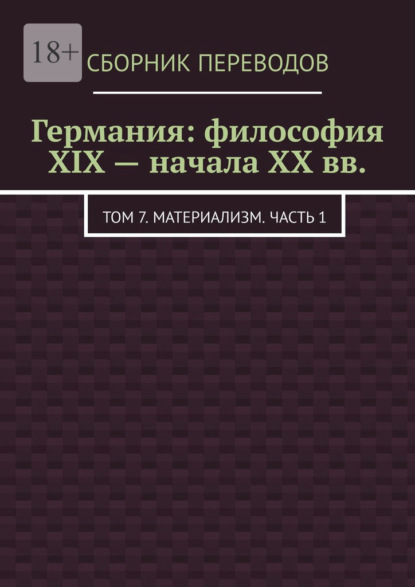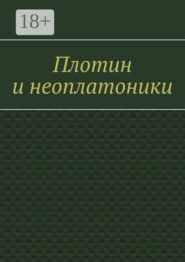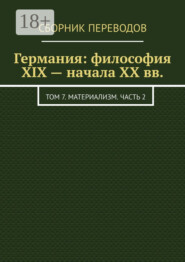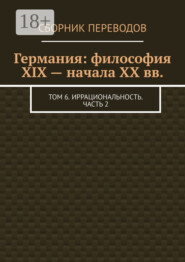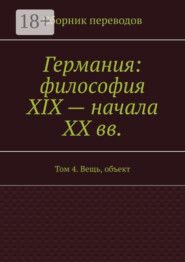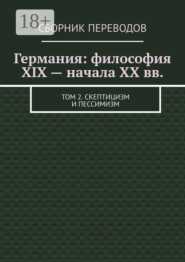По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 7. Материализм. Часть 1
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
2. «не красный» (но, например, широкоплечий),
3. «широкоплечий» (по отношению к красному, но без явного отрицания красного).
По отношению к роду, которому они противопоставлены, все эти три типа = 0, но только те, которые явно отрицают свою противоположность, образуют противоречие, когда они объединяются (я не говорю отождествляются) со своей противоположностью. Никто не может быть одновременно красным и не красным, но красным и широкоплечим. Поэтому (более того, совершенно бесполезно) злоупотреблять словом «не», которое имеет значение только в связи с копулой (или временем, включающим копулу), для создания отрицательного понятия бесконечного объема, например, если понимать под «не красным» сумму всех других возможных понятий, то есть бесконечное определение. Таким образом, «не красный» имеет значение лишь постольку, поскольку связь, устанавливаемая с копулой, принимается как данность, и тогда оно означает простое лишение красного цвета, но никогда – нечто положительное само по себе.
Если мы перейдем к оппозиции внутри одного рода, то обнаружим 4. простую оппозицию и 5. противоположную оппозицию или противоположность. Два вида одного рода находятся в простой оппозиции, если они не отменяют друг друга при объединении; в последнем случае оппозиция становится противоположной. Простые противоположности образуют, например, «длина и ширина, или ширина и высота» как виды измерения, «красный и желтый» как виды цвета, «вычитание и деление» как виды вычисления; противоположные же противоположности образуют «высота и глубина, красный и зеленый, умножение и деление»; ибо эти два отменяют друг друга и сводятся к 0 вертикального измерения, цвета, операции вычисления. В первом и третьем примерах нулевая точка (точка отсчета) становится результатом, во втором – бесцветным светом. Аристотель объясняет (Метафизика X, 4, начало) энантион [контраст, противоположность – wp] как то, что наиболее удалено друг от друга в пределах одного рода. Но сам он не вполне уверен в своем определении; ведь он допускает, что хотя между некоторыми энантионами может существовать неопределенное число промежуточных звеньев, через которые опосредуется odos eis allela, такие промежуточные звенья встречаются не во всех, а только в тех, где происходит постепенный переход. Во многих случаях расстояние между видами не может быть определено количественно; но даже там, где такая постепенная градация возможна, то есть где мы можем говорить о крайних видах внутри рода, эти крайние противоположности отнюдь не обязательно являются противоположностями (например, крайние высокие и низкие тона в тональном ряду или крайние размеры в породах собак). Поэтому необходимо добавить еще одну характеристику, чтобы обозначить крайности как противоположные противоположности. С другой стороны, существуют противоположности, которые не являются крайними в градуированном ряду; следовательно, другая добавленная характеристика должна быть сама по себе достаточной для установления противоположностей без необходимости характеристики крайностей. Тренделенбург особенно подчеркивает направление деятельности и требует, чтобы направления, в которых существуют противоположности или результатами которых они являются, были противоположными. Там, где направление вообще играет роль, это, конечно, правильно, так как противоположные направления деятельности приводят к аннулированию; но есть противоположности и без таких противоположных направлений, например, комплементарные лучи цвета, которые не отличаются ничем, кроме скорости. Таким образом, на самом деле взаимная отмена остается единственной характеристикой противоположности, которая применима везде, если только не выбирать ложные примеры (такие как свет и тьма, из которых последняя является лишь изъяном первой. Простой контраст течет вместе с «положительной противоречивостью без явной привации» из-за предела понятия рода, который не может быть фиксирован; как ради этой текучести предела, так и ввиду общепринятого использования языка, я счел, что не нужно лишать его названия «контраст», которое некоторые логики могли бы оспорить. Кстати, для нашей цели важно лишь полное прояснение терминов, а не их названий.
Соединение двух простых или положительных противоречивых противоположностей без лишения не дает противоречия; в апельсине красный и желтый полностью сохраняются, они смешиваются, но не мешают друг другу. Объединение же противоположных противоположностей является противоречием, если требуется, чтобы они сохранялись в процессе; ибо в том случае, если результатом его является их уничтожение, одновременно требуется сохранение и уничтожение, что является противоречием. Я не могу сказать: «Этот луч света одновременно и красный, и зеленый», ибо он либо красный, либо зеленый, либо бесцветный, но в последнем случае ни красный, ни зеленый; я могу только сказать без противоречия: «Этот луч света показывает сочетание красного и зеленого». Поскольку результат +A и -A = 0, их сочетание само по себе есть не что иное, как противоречие; оно таково лишь в том случае, если с ним связано требование, позволяющее им существовать в сочетании как то, чем они были. Теперь, поскольку Гегель при рассмотрении контраста имеет дело только с противоположным контрастом (Сочинения IV, с. 48f) (положительного и отрицательного), мы видим, как следует понимать его утверждение, что этот контраст «есть установленное противоречие» (Сочинения IV, с. 57—58); только благодаря этому возникает противоречие, что он выдвигает противоречивое требование сохранить контрарности в уничтожающем их соединении. Отсюда ясно, насколько безошибочно Гегель постоянно чередует понятия контраста и противоречия, которые он, естественно, использует для демонстрации противоречия. Это чередование подкрепляется еще и тем, что он привык постоянно менять точку зрения субъективного мышления и реальности. Ведь в субъективном мышлении противоположности продолжают существовать рядом, не отменяя друг друга, а в реальности они отменяют друг друга, не продолжая существовать рядом. Если мы теперь объединим обе точки зрения таким образом, что абстрактное знание об отмене противоположностей в реальности будет в то же время рассматриваться как фактическая отмена того же самого в мышлении, или в том смысле, что сосуществование только мыслимых противоположностей в мышлении будет представлено как доказательство их фактического сосуществования в реальности, несмотря на их отмену в том же самом, то, конечно, мы получим искомое противоречие.
Для нас важно то, что признает сам Гегель (Сочинения IV, с. 53): «Противоположности отменяют друг друга в их соединении (+ y – y = 0». Непонятно, однако, что сразу после этого Гегель помещает +y – y = y и +y – y = 2y. Если и +y, и y – это y, если и красный, и зеленый – это цвет, то это означает лишь то, что противоположности имеют общий род (Гегель говорит: «тождественное отношение») друг с другом, видами которого они являются; но никто никогда не утверждал, что род возникает из соединения двух видов, общее – из соединения двух частностей, и это насмешка над всем здравым мышлением, как можно осмелиться записать это утверждение в голой математической форме +y – y = y. Другое утверждение более простительно: +y – y = 2y; оно вытекает из того, что Гегель рассматривает +y и -y как «ординаты по разные стороны оси», «где каждая есть существование, безразличное к этому пределу и к своей противоположности» (Werke IV, стр. 54), т. е. что он абстрагируется от знака. что он абстрагируется от знака и просто складывает безразличные длины, каждая из которых = y (ни +y, ни -y), задавая таким образом y + y = 2y, но теперь забывает об этом абстрагировании от противоположности знака и снова вставляет знаки в уравнение, что, конечно, делает его бессмыслицей. Пример сделает это еще более наглядным. Определим площадь кривой, заданной уравнением координат и проходящей несимметрично через различные поля системы осей. Сначала мы вычислим площади кривой, лежащие на каждом поле системы осей, с точным учетом знаков, но затем, если неправильно сложим отрезки +F и -F1, так что в результате задачи получится F + F1. Возможно, Гегель имел в виду нечто подобное, но в случае с отрезками площади еще яснее, чем в случае с отрезками линии, что знаки должны быть отброшены перед сложением как то, что сослужило свою службу в другом месте, но теперь больше не пригодится и будет только мешать решению. Поэтому остается старая истина, что единственным результатом, который дают +y и -y при сложении, является 0.
Каждое определение способно иметь простую или положительную противоречивую противоположность, частное противоречие только в том случае, если оно само не состоит уже из частного, а противоположное – только при определенных обстоятельствах, для которых нельзя дать никаких общезначимых характеристик. Аристотель уже знал об этом и отмечает, что величина не имеет противоположности, как и все относительное, например, двойка или тройка. Вопрос о том, есть ли у определения противоположность и какая именно, не вытекает из самих понятий, а требует особого знания вопроса, которое носит явно интуитивный, а не дискурсивно-рефлексивный характер.
Дело осложняется еще и тем, что противоположные термины редко встречаются в чистом виде, а обычно смешиваются с другими терминами, которые либо вообще не противопоставляются, либо положительно противопоставляются друг другу без всякого ущемления. Например, две силы, действующие в косом направлении на одну и ту же точку, можно представить как состоящие из двух компонентов силы каждый, один из которых лежит на диагонали параллелограмма сил, а другой – перпендикулярен этой диагонали; только компоненты, перпендикулярные диагонали, противоположно направлены и аннулируют друг друга до нуля, а компоненты, лежащие на диагонали, имеют одинаковое направление и просто складываются. Или же красное и зеленое стекло таковы, что, будучи поставленными вместе, выглядят как черное, то есть солнце видно лишь смутно; в этом случае они противоположны по цвету, который при соединении отменяет друг друга до нуля, но также могут быть простыми противоположностями в виде выгравированных геометрических фигур (например, круга и квадрата), которые не отменяют друг друга при взгляде на солнце, а накладываются. Но даже если нет примеси таких сходных или простых противоположных определений к противоположным противоположным определениям, результат реального совпадения может быть отличным от нуля, а именно если один из противоположных элементов имеет количественный перевес над другим. Если сила A + n встретится с противоположно направленной силой -A, то останется результирующая +n, именно потому, что +A и -A аннулируют друг друга до нуля. Отсюда видно, что противоположность, понимаемая в ее чистоте и количественной эквивалентности, никогда не может иметь результат, отличный от нуля, и что любой другой результат может возникнуть только в результате качественных или количественных отклонений реальности от понятия чистой противоположности. Если называть встречу реальных противоположностей в одной и той же точке «оппозицией» (столкновением или конфликтом), то сведение к нулю свидетельствует о том, что встретились противоположности равной силы; всякий же положительный результат оппозиции показывает, что в них присутствовали компоненты, не соответствующие понятию противоположности.
Диалектический метод хочет, с одной стороны, иметь противоположности, чтобы вывести из них противоречие, как это уже было показано, путем одновременного уничтожения и продолжения существования, а с другой стороны, он хочет иметь положительный остаток, который остается в результате конфликта противоположностей, чтобы через него сделать возможным диалектический прогресс. Из сказанного ясно, что достичь объединения этих двух целей можно только в том случае, если он выбирает примеры, в которых противоречивые компоненты смешиваются с другими, но оставляет это смешение незамеченным и делает вид, что положительный результат получается из конфликта самих противоречивых положений. Насколько несостоятельно утверждение, что столкновение противоположностей, то есть реальное противоречие, содержит логическое противоречие, настолько же несостоятельно и другое утверждение, что положительный результат, а вместе с ним и диалектический прогресс, может возникнуть из мнимого противоречия противоположностей. Примесь других компонентов к противоположному противоречию, из которой только и может возникнуть положительный результат столкновения, имеет гораздо меньше отношения к противоречию, чем противоположное противоречие, к которому они примешиваются.
Что касается, в частности, Гегеля, то, прежде всего, следует констатировать, что, согласно принципам и правилам диалектического метода, диалектически противоположное означает только противоположную противоположность или противоположность. Об этом свидетельствует как частое употребление слова противоположность (например, превращение в свою противоположность), так и отождествление противоположности вообще с противоположностью положительного и отрицательного, а также прямые и открытые заявления Мишле, самого чистого представителя гегелевской философии в наши дни, в его полемике против Тренделенбурга («Gedanke», vol. 1), а также высказывание Гегеля (Werke VI, стр. 151, §81): «Диалектический момент есть самоотрицание таких конечных определений и их переход в свои противоположности». Если, таким образом, у меня есть детерминация А, то сначала развивается такая деятельность, посредством которой она отменяется (но это единственное отрицание, результатом которого является 0 или приватив А), но это не решается, движение, однажды приведенное в движение (согласно закону инерции, очевидно, в прежнем направлении, так как в точке 0 нет причины менять направление) устремляется за точку 0 в другую сторону и, согласно общему закону всякого колебательного или волнообразного движения, не встречая сопротивления, приходит в покой только тогда, когда пройдет то же расстояние или путь (=А) на отрицательной стороне, что и на положительной, т. е. когда доставит результат -А. Т.е. когда он достигнет результата -A. Если, таким образом, результатом единичного отрицания было частное, то результатом двойного отрицания или отрицающей деятельности является отрицание; но так как частное представляет собой частное-противоречие, а отрицание – противоположную оппозицию, то ясно, что диалектика, которая не удовлетворяется самоотменой детерминаций, но которая, кроме того, требует продолжения в противоположное (отрицательное), хочет оперировать только с противоположной оппозицией.
Кроме того, настолько очевидно, что из детерминации и ее простого отрицания не может быть выработано ничего нового, что, в сущности, не упускается и причина этого. Еще меньше, однако, чем в оппозиции «привативное – противоречивое», диалектика нуждается в оппозиции «простое – положительное – противоречивое»; Ибо, помимо того, что обе они в реальном единстве противоположностей не представляют никакого противоречия, чем прежде всего и занимается диалектика, для их устранения достаточно того факта, что существует бесконечная возможность простых и положительных противоречивых противоположностей к определению, ни одна из которых ни в чем не опережает другую, так что при определении ее простые или даже положительные противоречивые противоположности и ее частные противоречивые противоположности отнюдь не являются полностью определенными, поскольку существует только одна из каждого вида. Но диалектика, которая хочет показать, как детерминация переходит в свою противоположность (в единственном числе), может иметь в виду только те виды противоположностей, которые определены в своей единичной принадлежности. При бесконечной возможности положительных противоположностей выбор может решить только произвол или тайная цель, но никак не логика. В графическом изображении, где линии +A и -A символизируют контрарность, +A и 0 – частнопротиворечивую оппозицию, бесконечно много положительных и неконтрарных противоположностей представлены бесконечно многими возможными угловыми направлениями лучей, исходящих из точки 0, которые выходят за пределы протяженности +A.
Диалектика, таким образом, утверждает, что свойство понятия – колебаться между двумя противоположными определениями (+А и -А). Что такое +А, мы знаем, и что такое -А – тоже, но что представляет собой понятие на пути между +А и -А, может знать только Бог. Для этого нет слов, и нигде Гегель не описал и даже не доказал словами эти бесконечно многочисленные, постепенно опосредующие друг друга стадии перехода, но и для него переход от одной противоположности к другой всегда происходит скачками, в том смысле, что тождество двух подделывается каким-то софизмом; и это притворство логического отношения тождества предполагается применить к доказательству реального движения перехода! Если признать, что истина понятия состоит не в том, чтобы быть +А или -А, а в том, чтобы быть реальным переходом от +А к -А и наоборот, то нетрудно, в случае таких определений, обозначающих состояния, между которыми представление знает реальный переход, похвалить последнее как понятие, развившееся диалектически из противоположностей (например, становление как переход от ничто, или, вернее, небытия к бытию). Но и здесь диалектический ритм сбивается, ибо всегда получаются две новые детерминации, а именно переход от +А к -А и переход от -А к +А, одну из которых (в приведенном примере – уход из жизни) диалектика должна произвольно игнорировать и отбрасывать по ходу дела, если она не хочет раздробить себя до неисчислимости. Но лишь в редких случаях логические детерминации являются такими состояниями, между которыми существуют реальные переходы. Обычно диалектика довольствуется тем, что представляет новое понятие, которое должно быть получено, как реальное единство (союз) противоположностей. Но по какому праву диалектика утверждает единство противоположностей? «Переход» – это нечто отличное от «единства», как и «тождество»! Но как мы уже видели ранее, что Гегель меняет единство на тождество, так и здесь он меняет тождество (полученное с помощью софизмов) на единство. Конечно, Гегель также не может избежать того, чтобы при переходе видеть обе стороны как позиционированные и обе как непозиционированные, как того требует диалектический принцип. Нам может быть достаточно того, что переход нигде не доказывается, но в свою очередь также основывается только на доказательстве тождества. Но если мы действительно признаем, что диалектик обоснованно соединяет противоположности в реальное единство, то что же получается в результате этого соединения? Да ничего! 0, в котором аннулированы противоположности, но нет новой концепции! Это конец диалектического момента, и диалектический прогресс от диалектических противоположностей через их единство невозможен!
Нас мало интересует, действительно ли у Гегеля все противоположности противоположны, не являются ли они скорее отчасти также частно-противоречивыми (например, бытие и ничто, конечное и бесконечное, мера и безмерное), отчасти трояко или положительно противоречивыми (например, основание и бытие, понятие и действительность); ведь мы хотели рассмотреть только принципы диалектического метода и то, что из них следует, а не их применение у Гегеля. Но стоит отметить, что не все детерминации имеют противоположности, поскольку диалектический метод применим к ним с самого начала. Стоит также отметить, что во всех попытках оперировать диалектикой сохранялось смешение различных видов противоположностей.
Из критики этой главы становится ясно, насколько безнадежными должны быть попытки всех тех, кто воображает, что может устранить противоречия из принципов гегелевской диалектики и оперировать простым «единством противоположностей» вместо «тождества противоположностей», и тем самым прийти к какому-то логическому прогрессу. Даже если бы им удалось исключить из своего философствования все другие виды противоположностей (кроме противоположных) как бесполезные, то все равно от единства противоположностей, каким бы тесным оно ни было, нельзя было бы добиться никакого прогресса в познании, поскольку истинный результат – это только ноль общего рода этих противоположностей и ничего положительного вообще. Именно в этом тщетном стремлении и двигался Шеллинг, особенно в начале XIX века, в своем единстве идеального. В его единстве идеального и реального, или субъективного и объективного, в более позднее время то же самое повторил Куно Фишер, который, хотя и утверждает в теории своего метода, что одно и то же предполагает противоречие, тем не менее в своей практической обработке гегелевской логики демонстрирует стремление по возможности везде свести тождество противоречивых элементов к единству противоположностей, чтобы тем самым фактически избежать всех упреков в неприемлемых противоречиях и сделать диалектическую систему категорий логики понимания более правдоподобной. После вышесказанного очевидно, что даже при такой реорганизации метода, несмотря на красиво звучащее название «метод развития», все кажущиеся продвижения от единства противоположностей к новому понятию могут черпать свое содержание и расположение только из предшествующего эмпирического знания, и что таким образом не может быть дано даже рациональное выведение низших понятий из высших (полученных ранее путем индукции), поскольку соединение действительно противоположных противоположностей всегда обрывает продвижение.
8. Диалектический метод и эмпиризм
«Истинное может быть познано различными способами, а способы познания должны рассматриваться лишь как формы. Так, однако, можно познать истинное через опыт, но этот опыт есть только форма». (Сочинения VI, стр. 53)
Эмпиризм может быть полностью удовлетворен этой уступкой Гегеля. Ведь то, что Гегель называет главным недостатком эмпиризма и причиной его неадекватности – то, что он является «конечной» (Werke VI, p. 53) формой познания, – это то, чем эмпиризм по праву гордится, поскольку бесконечная форма – это не форма, бесконечное познание – это уже не познание, как мы видели выше. Другие возражения Гегеля против эмпиризма совершенно ничтожны. Неверно, что он «отрицает познаваемость и детерминированность сверхчувственного» (Werke VI, p. 80), поскольку выводит сверхчувственное из разумного; он отрицает только абсолютное в гегелевском понимании как «детерминированное небытие бессмысленности», и это справедливо. Неверно, что эмпиризм – «учение о несвободе», поскольку «разумное есть и остается для него данностью» (Werke VI, p. 83); ведь если он исходит из разумного, то из этого отнюдь не следует, что его результатом не может быть упразднение разумного. Но если бы это было не так, то является ли свобода объектом науки или истина? О том, можно ли объединить эти два понятия, можно судить только по результату, но отсутствие свободы никогда не может быть упреком для науки, если она только истинна. Неверно, что эмпиризм «не имеет права спрашивать, разумно ли разумное само по себе и в какой мере» (Werke VI, p. 83); ведь каждый имеет право спрашивать и исследовать, но не утверждать безосновательно, как утверждает Гегель. – «Теперь, поскольку восприятие должно оставаться основой того, что считается истиной, всеобщность и необходимость» (реализация которых, согласно Сочинениям VI, стр. 81, возможна только благодаря опыту; таким образом, появляется сам опыт) «как нечто необоснованное» (таким образом, только фундамент каждого здания был бы обоснован!) «как субъективная случайность, простая привычка, содержание которой может быть того или иного рода» (Сочинения VI, стр. 84).
«Основной обман научного эмпиризма всегда заключается в том, что он использует метафизические категории материи, силы, единого, многого, общего и бесконечного и т. д. и, кроме того, продолжает следовать за нитью этих категорий, тем самым предполагая и применяя формы рассуждения, не осознавая, что таким образом он сам содержит и практикует метафизику и использует эти категории и их связи совершенно некритично и бессознательно».
Эти упреки нисколько не затрагивают эмпиризма в его принципах, но только в его одностороннем применении к внешней природе, тогда как полная система эмпиризма обязана исследовать и установить силы и законы психической деятельности так же, как и силы и законы внешнего процесса природы (ибо, как говорит Шеллинг, мысль есть также опыт), откуда категории и формы рассуждения возникают так же, как параллелограмм сил и т. д., и, кроме того, из этого следует, что субъективной случайности так же мало, как и объективной, но что субъективная деятельность ума подчиняется той же неумолимой необходимости и столь же неумолимым законам природы. и далее следует, что субъективных случайностей так же мало, как и объективных, но что субъективная деятельность разума подчиняется тем же неумолимым необходимостям и столь же неискоренимым законам природы, как, например, механика твердых тел. Если, следовательно, некоторые эмпирики применяли формы мысли некритически, бессознательно, то упрек относится к ним, но не к эмпиризму, который скорее обязан осознать эти формы мысли как часть эмпирической психологии с самой тщательной критикой». —
Слово «эмпиризм» обозначает одновременно систему и метод, с помощью которого эта система строится, и характеризует и то и другое только по их исходной точке, или фундаменту, на котором они покоятся, потому что этим фундаментом (опытом) фактически характеризуется и тип строительства, и здание, но не в том смысле, что фундамент уже является целым. Эмпиризм как метод, основанный на опыте, тождественен индуктивному методу; к фундаменту опыта добавляются многообразные виды индукции, которые уже не опыт, а мышление; эмпиризм поэтому не исключает мышление, а включает его, но он не имеет ничего общего с бесконечным мышлением диалектики. Опыт – это единственно возможный способ прийти к содержанию; ибо мистическая концепция – это индивидуальная редкость и непередаваема; из простой формальности, однако, нельзя прийти к материальности, и даже чистая формальность не может быть дана науке в качестве содержания иначе, как через опыт. Но чтобы перейти от опыта, который всегда единичен, к науке, которая должна быть общей, опять-таки нет другого средства, кроме индукции; ведь это как раз и есть восхождение от частных истин к общим. Если философия так долго стремилась сделать своими те ослепительные доказательства, которые дает метод математики, то она не учитывала, что математика дедуцируема только потому, что является чисто формальной наукой, а философия – такая материальная наука, что ее материя есть не что иное, как все, из чего следует, что дедукция никогда не может быть методом познания для философии, а самое большее – только методом передачи того, что индуктивно познано; Ибо все должно быть выведено из принципов, но сами принципы, как знал уже Аристотель, могут быть познаны только индуктивно.
Поскольку речь здесь идет не о методе обучения, а о методе познания, индукция действительно является единственно возможным методом, хотя индуктивный метод, безусловно, является более превосходным, более легким для восприятия, более приятным и более убедительным для передачи того, что известно. На каких именно областях опыта должна быть сосредоточена индукция, на внутренних ли, как хотел бы Шеллинг, или, как хотел бы эмпиризм в более узком смысле, на внутренних и внешних одновременно, чтобы получить как можно более широкую основу, здесь не столь важно, но последнее никогда не может быть вредным, и, по крайней мере, чем шире основа, тем она надежнее.
Где же теперь место диалектическому методу, какие познаваемые вещи он должен признавать, которые не признает эмпиризм? Диалектика объявляет себя абсолютной наукой, а свои результаты – результатами чистого мышления, не зависящими ни от какого опыта. Это утверждение можно поддерживать только в том случае, если диалектика действительно идет своим путем, отдельно от эмпиризма, но не в том случае, если она, как это, по общему признанию, происходит, ежеминутно останавливаясь, поглощает содержание эмпирических наук, которое она находит пригодным для уст, и этими углями и водой заправляет локомотив концепции, который не сдвинется ни на шаг без развивающейся из него силы. Тренделенбург очень хорошо выражает эту альтернативу словами («Логические исследования», т. 1, с. 82:
«Опыт может быть воспринят только путем разрыва имманентной связи понятия, производящего от самого себя. Или же диалектическое развитие независимо и определяется только из самого себя, и тогда оно действительно должно знать все из самого себя. Пусть диалектика выбирает, мы не видим третьей возможности».
Диалектика, разумеется, как и всегда, видит эту третью возможность в единстве обеих сторон альтернативы, что и должно быть ее истиной в первую очередь. Гегель выражает это так (Сочинения VI, стр. 20):
«Они» (эмпирические науки) «тем самым подготавливают то содержание конкретного, которое может быть взято в философию… Усвоение этого содержания, при котором все еще цепляющаяся непосредственность и данность (?) отменяется мышлением, есть в то же время развитие мышления из самого себя».
«Это» (развитие себя) «есть, с одной стороны, только вбирание содержания и его представленных определений, и в то же время дает ему форму, чтобы возникнуть свободно в смысле первоначальной мысли только по необходимости самой вещи». (Сочинения VI, с. 18—19)
Мишле («Gedanke», т. 1, с. 120) дает следующие пояснения:
«Считаете ли вы, таким образом, что компиляция и упорядочение опыта – это все еще философия?» (Никто никогда этого не утверждал. Но Мишле забывает, что эмпиризм включает в себя мышление, поскольку он исходит из опыта путем индукции). «Путем индукции эмпирические науки приходят к общим положениям» (так и есть?), «которые, однако, как исходящие из отдельных воззрений, также разделяют их случайность» (во-первых, в воззрениях нет ничего случайного, а только необходимое; во-вторых, однако, если бы в них и была случайность, то она была бы устранена индукцией, путем продвижения к общему). «Бесконечный материал опыта никогда не исчерпывается» (да это и не нужно, если исчерпать только силы и законы, а их число не велико), «на пути простого опыта, следовательно, необходимость» (?) «и организация к тотальности недостижимы» (это одинаково недостижимо для всех методов, если понимать под тотальностью все, что существует в каждый момент, но это достижимо для эмпиризма, и только для эмпиризма, если под ним понимать только совокупность действенных моментов и характер их действенности). «Только если начать с общего» (да, откуда же его взять, если не из конкретного посредством абстракции и индукции?), «и это развивается в частности через свое собственное движение, может возникнуть полнота, может возникнуть целое знание» (эмпиризм давно знает, что дедукция из уже признанного общего может дополнить и завершить эмпирию в особых случаях, когда конкретное недоступно опыту, но это возможно только в том случае, если общее уже достаточно подкреплено предыдущим опытом, и тогда эта дедукция служит не развитию науки, а только знанию). «Конечно, смело приступать к такому предприятию, когда опыт еще находится в зачаточном состоянии и не приобрел достаточного объема, ибо тогда отсутствуют субстраты для философских понятий» (здесь открыто признается, что философия зависит от опыта и его объема), «Если, следовательно, опыт является, с одной стороны, проверкой философской дедукции» (здесь условие быстро сводится к проверке или просто арифметической проверке умозрения), «в том смысле, что последний может быть правильным только в связи с фактами, а не сбивая их с толку» (отсюда ясно, что истина должна быть узнаваема и из фактов, так как иначе они не могли бы служить для ее доказательства), «с другой стороны, диалектика есть регулятор фактов» (должно означать: Регулятор выводов из фактов, ибо сами факты в подлинном смысле этого слова не могут быть никем регулируемы).
Таким образом, в этом объяснении единство обеих сторон сводится к утверждению, что эмпиризм является доказательством дедукции, а последняя – регулятивом первой. На первое следует ответить, что если эмпиризм может доказывать, то он уже обладает истиной и делает другие методы излишними; на второе – что опыт, конечно, нуждается в рассуждении, но никогда в диалектическом, а только в индуктивном, чтобы выделить общие истины, уже имплицитно содержащиеся в нем, и в эмпиризме он также обладает ими. Поэтому единство обеих сторон (эмпиризма и диалектики, которая рождает свое содержание изнутри себя) – это ветер. Кто поверит методу, что он развивает свои результаты исключительно из самого себя, если он утверждает, что должен на каждом шагу включать в себя содержание эмпирической науки и зависеть от соответствующей точки зрения и объема эмпирической науки? Утверждение: «Ассимиляция содержания является в то же время развитием мышления из самого себя» можно проиллюстрировать следующим разговором:
А: «О, пожалуйста, мистер Б, который час?»
Б: «Разве вы не знаете?»
А: «Извините, я не могу вам сказать, пока что».
Б: (смотрит на часы) «Сейчас только половина четвертого».
А: «Спасибо, кстати, я и так это знал!»
В предыдущих главах мы видели, что диалектика вообще ничего не может, ни понимать, ни мыслить, ни прогрессировать, ни распознавать, ни общаться; поэтому она погибла бы от своего небытия еще до первого вздоха, если бы не заимствовала чужие перья, чтобы украсить себя. Поэтому открытое признание приема содержания опыта изобретателем диалектики – это, в конце концов, искусный трюк. Но что диалектика делает с полученным содержанием? В лучшем случае она ничего с ним не делает и довольствуется приятным сознанием, что развила его в то же время из чистой мысли; но чаще всего она портит его через привитые к нему противоречия, через произвольно измененные отношения и значения слов, часто до неузнаваемости. В области логики, где понятия более абстрактны, чем где бы то ни было, усвоение эмпирического содержания часто сводится лишь к конкретизации в противоположность абстракции, т. е. к повторению пути, пройденного интеллектом при получении этих понятий путем абстрагирования от представлений. (См. «Логические исследования» Тренделенбурга, т. 1, с. 83—84. Любопытно, что Мишле в «Мысли», т.!, с. 200, где он приводит выдержку из аргументации Тренделенбурга, признает, «что секрет диалектического метода заключается в искусстве, с помощью которого первоначальная абстракция возвращается назад», и т. д.).) Поскольку каждое понятие указывает на свое происхождение, на следующее более богатое определение, из которого оно возникло, и субъект чувствует пустоту, преобладающую в абстрактном разделении по отношению к темноте возникающего более полного представления, возникает стремление вернуться от скуки и односторонности, которые есть у каждой абстракции, к полной цветущей жизни представления, для чего необходимо определенное дополнение. Так выясняется, что лежит в основе якобы самодвижущегося инстинкта понятия. Кстати, гегелевская «Логика» ни в коем случае не продвигается в этом направлении, и даже если представить себе работу, выполненную в этом смысле, ее ценность придется оценить гораздо ниже, чем ценность такой работы, которая, отталкиваясь от реального мира представления, точно представляет генезис логически важных абстракций; ведь последняя была бы оригиналом, а первая – лишь его прикрученной реверсией. Последняя, однако, в то же время предлагала бы продвижение в восходящем направлении, которое начинается с широкой основы опыта и поэтому может быть только дополнено индуктивным методом.
Я завершаю эту главу словами Шеллинга (Werke I, 7, pp. 64—65)
«Именно эту божественную связь всех вещей, именно этот зародыш жизни, который заперт в оболочке конечности и который один только пружинит и движет ею, эмпиризм также стремится выявить. Он проникает туда, где сознает, что делает, или, руководствуясь счастливым инстинктом, от путаницы к единству, не признавая непосредственно существующего, но всячески стремясь отделить несущественное, чтобы прийти к существенному. Если бы она когда-нибудь полностью и повсеместно достигла этой цели, ее противопоставление философии, а вместе с ней и сама философия как отдельная сфера или вид науки, исчезли бы. Тогда действительно существовало бы только одно знание; все абстракции растворились бы в непосредственном дружеском созерцании; высшее снова стало бы игрой и наслаждением простоты, самое трудное – легким, самое бессмысленное – самым чувственным, и человек снова мог бы свободно и радостно читать в книге самой природы, язык которой давно уже стал для него непонятным из-за языковой путаницы абстракций и ложных теорий».
III. Как Гегель пришел к своему методу.
Всякое новое в философии проистекает из мистически задуманной идеи, составляющей стержень системы, и из своеобразия личности изобретателя, с одной стороны, и из сиюминутной точки зрения обращающейся философии и движущих ею интересов – с другой. Стержень гегелевской системы, положение, устанавливающее ее историческое положение и значение, состоит в том, что идея есть все и, кроме идеи, ничто, что идея есть субстанция, предмет и т. д., что мир не содержит ничего, кроме логических идей, и что нет ни самостоятельной нелогической, ни темной первоосновы, немыслимого бытия, которое есть только существующее (как логическое, так и нелогическое), но что все исчерпывается мышлением. Если бы помимо мышления допускалось только одно мыслящее существо, то это было бы нечто помимо мышления, так как мышление было бы тогда только его деятельностью; поэтому из этого взгляда, полагающего, что мир исчерпывается одной своей, а именно логической или интеллектуальной стороной, вытекало, что само мышление должно мыслить само себя, т. е. что сама идея осуществляет мышление. Через это устранение субъекта из процесса мышления, или, что то же самое, через это выдвижение идеи в качестве мыслящего субъекта, было дано самодвижение понятия, и действительно, поскольку в этом процессе оно не может следовать ничему другому, кроме своей природы, данной как его природа, из которой в свою очередь вытекает непрерывная текучесть и неопределенность (по гегелевской терминологии, бесконечность) мышления. Текучесть или неопределенность самодвижущегося понятия, однако, равносильна отмене пропозиции тождества и тем самым косвенно пропозиции противоречия; противоречие тем самым постулируется как существующее, и субъективное мышление должно отказаться от всякого познания, если оно не перейдет к мысли о возможности мыслить единство противоречия, в существование которого оно уже верит.
Логическое как пустой формальный принцип, помещенный исключительно на себя, не могло бы произвести из себя никакого содержания и не могло бы породить из себя никакого процесса, если бы не обладало способностью противопоставлять себя своей противоположности, чтобы получить из противоречия этой противоположности импульс к синтетическому преодолению противоречия посредством рационального мышления-вместе-тезиса-и-антитезиса. Логический тезис – это абстрактно-логическая, рациональная деятельность логического; противоречивый антитезис – это относительно нелогическая деятельность логического; наконец, синтез – это его абсолютно логическая или рациональная деятельность. Как отсутствие абсолютного субъекта деятельности или абсолютной субстанции, стоящей за логическим, заставляет само логическое вступать в самодвижение, если речь идет о процессе, так и отсутствие нелогического принципа, согласованного с логическим, заставляет логическое постоянно выводить нелогическое, абсолютно необходимое для логического процесса, из себя и снова брать его в себя, чтобы установить его заново (ср. «NeuKantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelianismus», третье издание, стр. 247—253; «Kategorienlehre», стр. X – XII; «Die deutsche ?sthetik seit Kant», стр. 118—120 и 109—110.
Таким образом, предпосылки диалектического метода вытекают из принципа системы; но из него следует еще большее. Принцип гласит, что мировой процесс есть не что иное, как самодвижение понятия, и что в идеальном начале этого процесса понятие не имело никакой другой предпосылки, кроме самого себя; поэтому оказывается, что априорное воспроизведение этого процесса должно быть возможно до индивидуального сознания, поскольку ему дана та же самая предпосылка, которая там господствовала. Сознание не может скрыть от себя, что процесс, воспроизводимый на этой предпосылке (понятие и ничего более), будет мало похож на временный генезис мира, но это может только укрепить надежду на успех, поскольку теперь речь идет о вечном генезисе, то есть о процессе, который может быть осуществлен той же вечной идеей во мне, что и везде, в этот момент, как и в любое другое время. Таким образом, как зритель, я созерцаю в себе разворачивающийся образ этого вечного генезиса, процесс мышления, который есть ход самой вещи, объективное мышление, в котором самодвижущееся понятие переходит сначала в свою противоположность и из противоречия противоречий в новое более высокое и богатое определение; ибо куда же должно сначала перетекать понятие, если не в свою противоположность, и как оно должно выйти за пределы противоречия, как не через единство?
В «Феноменологии духа» по-прежнему достаточно ясно, что на самом деле меняется не самость, а лишь объект, через который сознание пытается представить самость, что импульс к диалектическому прогрессу лежит в неадекватности соответствующего объекта той самости, которую он представляет, и в ощущении философом этой неадекватности и в его стремлении к более адекватному, и в том, что различные, отчасти противоречивые формы объекта не находятся одновременно в сознании и потому не могут привести к противоречиям, а сменяют друг друга во времени, будь то фазы в эпистемологическом развитии индивида или эпохи в культурно-историческом развитии человечества. Однако после того, как в конце «Феноменологии духа» достигнута стадия самоосмысляющегося понятия, возникает новая задача – вернуться в «Логике» от самосуществующего понятия к миру реальности. Поскольку это должно произойти через разворачивание логических возможностей самих по себе, отпадают и познавательная движущая сила субъективного мышления как импульс диалектического движения, и временная последовательность понятийных противоположностей; понятие как бы должно черпать импульс диалектического прогресса из самого себя, а вневременное вечное единство противоположностей приводит к противоречию.
Для Шеллинга диалектика, свободная от противоречий, была лишь вторичным средством выявления и развития интеллектуального взгляда; для него противоречие заключалось не в диалектике, а в попытке постичь через непосредственный взгляд на сознание то, что должно лежать до и вне всякого сознания как генетический prius сознания. Это противоречие присуще всему чистому рационализму, суть которого состоит в требовании немедленного, аподиктически определенного знания метафизического Я; ведь такого знания можно ожидать не от умозаключений из опыта, который может дать лишь вероятные гипотезы, а только от интеллектуального созерцания, в котором видимое, видимое и видимое сливаются в одно. Интеллектуальное восприятие у Шеллинга – не общее достояние всех людей, а особый дар избранных; Гегель хочет возвысить его до общего достояния, превратив из наглядной в понятийную форму и передав результат диалектически, а не «выстрелив из пушки». В «Феноменологии духа» завершенный интеллектуальный вид достигается только в конце, где абсолютное понятие познает себя и признает себя абсолютным духом, чтобы затем эксплицировать себя в своих моментах в логике. Но диалектическое опосредование, ведущее к этой цели, является лишь кажущимся, поскольку тождество мыслящего понятия с его объективными образованиями должно присутствовать для сознания уже с самого начала диалектического процесса, чтобы в конце возникнуть для познания. Противоречие рассудочного представления как сознательного не отменяется диалектическим понятийным опосредствованием, а существует с начала и до конца пути опосредствования на каждой его ступени; даже если оно еще умеет скрывать свою сущность как противоречие рассудочного представления на низшей и средней ступенях, оно все же дает о себе знать как существующее противоречие на каждой из них и выступает теперь как имманентное противоречие диалектического опосредствования. Таким образом, последовательно реализуемый чистый рационализм или панлогизм заставляет диалектику противоречия действовать в трех направлениях. С генетической точки зрения, если «само» есть не что иное, как логический принцип и не находит рядом с собой никакого нелогического принципа, то, чтобы прийти к процессу из спокойствия самодостаточности, оно должно вывести нелогическое из себя и тем самым противоречить своей собственной сущности. Развертывание противоположных моментов логической идеи в чистом бытии-в-себе обусловливает их вневременное, вечное единство и тем самым раздувает их различие и противоположность в противоречие. Наконец, противоречие, заключающееся в требовании сознательного интеллектуального взгляда, не устраняется понятийным диалектическим опосредованием, а лишь распределяется по всем стадиям диалектического процесса и скрывает свою истинную природу. В генетическом развертывании логической идеи в реальный мир, как и в ее чистом бытии-в-себе, противоречие так же неизбежно для чистого рационализма, как и в восхождении сознательного познания от чувственности к абсолютному духу. Эти противоречия были имманентны всем рационалистическим системам от Платона до Шеллинга, но они пытались закрыть на них глаза. Гегелю принадлежит заслуга того, что он открыто объяснил это следствие панлогизма и с мужеством отчаяния признал, что с точки зрения чистого рационализма истина не должна исключать из себя противоречие, а должна включать его в себя.[7 - Ср. Леопольд Циглер, « Настоящий рационализм и эрос», Йена и Лейпциг, 1905, стр. 161—235.]
Таким образом, диалектический метод вытекает, по большому счету, из принципа гегелевской системы, который здесь не подлежит критике. И здесь он проявляет себя в чистом виде: не понимание должно запутаться в противоречиях, а бесконечно текучее мышление самодвижущегося понятия, которое отменяет законы мышления. Здесь хорошо видно, что попытки всеми возможными способами запутать рассудочное мышление в противоречиях – это лишь стремление этой актуальной и более чистой формы метода добиться признания в мире, пусть даже путем уступок в чистоте его духа и возвышенности его беспредпосылочности.
Это посредничество, так сказать, с земным теперь поддерживалось, а в какой-то степени и более тесно определялось тем, что было модно в философии того времени, причем под модой я понимаю ту внешнюю принадлежность, которая плывет по течению и не основана на необходимом ходе развития материи. Но в то время было модно придавать чрезмерное, даже положительное значение антиномиям Канта; со времен Фихте было модно рассматривать так называемую дедукцию категорий как основной объект теоретической философии; было модно философствовать в триадическом ритме тезиса, антитезиса и синтеза; Модно было верить в оправданность разума для постулирования всевозможных непонятных и необоснованных утверждений не только в практическом, но даже в теоретическом плане и неверно понимать трансцендентальный взгляд Шеллинга; модно было писать на непонятном жаргоне, недостойном ясности немецкого языка, и выдавать неясность мысли за глубину; модно было не брать значение слов из очищенного языка, а произвольно менять его (например, «тождество» у Шеллинга). Наконец, модно было и напыщенно представлять философию как науку об абсолютном и абсолютную науку, не задумываясь ни о чем ясном. Что же удивляться, если Гегель, как дитя своего времени, не счел нужным зарубить топором эти гнилые стволы, а предпочел воспользоваться возможностью построить опорные балки для своего метода из этого привычного для публики материала! Что удивительного, если он не счел нужным вернуться к языку образованной немецкой прозы, а предпочел замаскировать под покровом непонятности общепринятой тарабарщины ту софистическую псевдодиалектику и антиномическое зеркальное фехтование, с помощью которых он должен был пытаться доказать разуму существование противоречия!
На рубеже веков в философии и мысли, как и незадолго до этого в поэзии и эмоциях, наступил своеобразный период Sturm und Drang. Олимп абсолютной истины должен был штурмоваться с титанической жестокостью и поспешностью, и все же в то время, как и во все времена, у них были только строительные блоки, чтобы наваливаться друг на друга. Последней, самой дерзкой, саморазрушительной попыткой тщетного штурма небес является гегелевская диалектика, которая думает, что может обхватить вселенную одной хваткой, а на самом деле лишь прижимает к груди призраки собственного воображения. Это было время самого бурного возбуждения, когда умы набрасывались друг на друга и в безумной погоне каждый стремился превзойти в величии своего великого предшественника; в такое время, когда мысль уже находится в состоянии болезненного перевозбуждения и отчасти приняла нездоровое направление, становятся объяснимыми аберрации, которые иначе кажутся почти непостижимыми. Сразу после Канта, Фихте и Шеллинга должно было появиться что-то необычное, чтобы привлечь внимание публики, которая была одновременно перевозбуждена и измучена – и действительно, диалектический метод был достаточно ослепительным с его возмутительными требованиями и средствами. Но он также давал изобретателю несколько небольших побочных преимуществ, которые должны были делать его все более и более дорогим для него, когда он их достигал. Она избавляла его от хлопотливой, часто почти отчаянной задачи избегать всяких противоречий в своей системе мысли; напротив, она позволяла ему, при столь легко выполнимом условии никогда не быть без противоречий, работать над ней в полную силу, утверждать и доказывать все, что он пожелает, а именно: просто уверять, что таков ход объективного разума, каким он его видит; Таким образом, это было столь же удобное средство, каким когда-либо располагал любой философ, чтобы доказать свои мистические первоначальные концепции в очевидно научной манере; это был способ жать, не посеяв, и плащ скромности для величайших амбиций, поскольку он, казалось бы, оставляет индивидуального субъекта вне игры, и все же первому зрителю этого объективного хода разума позволялось претендовать на славу абсолютного метода и абсолютного содержания в одно и то же время. Каким образом все вышеупомянутые моменты сработали в сознании Гегеля, через что впервые пробудилось убеждение, а что было добавлено позже, как далеко зашло всестороннее убеждение в правильности представленного учения, были ли и где у него сомнения в правильности оного, и насколько они были сильны – решение этих вопросов, вероятно, выходит за рамки сегодняшнего читателя его работ.
Я еще раз напомню здесь то, что уже говорил в предисловии: я признаю необходимое место в развитии философии для основных принципов и главных результатов гегелевской философии – помимо способа их получения – и я далек от того, чтобы недооценивать заслуги Гегеля (только не его метод) в учении о праве, эстетике, философии религии, философии истории и истории философии. Но в той мере, в какой он не воздерживался от диалектического рассмотрения этих предметов в их собственном смысле, он повсюду вносил двусмысленность и путаницу, делал простое сложным и устранял из своего решения неясное и проблематичное.
IV. Резюме и заключение.
Там, где диалектика появляется до Гегеля, она связана с фундаментальными законами мышления и состоит, по сути, в умелом использовании возникновения противоречия как критерия ложности, чтобы приблизиться к истине путем совершенствования ложных понятий и предпосылок, порождающих противоречие. Но из гегелевского принципа, что ничего не существует, кроме понятия, и что нет иного процесса, кроме саморастворения понятия, вечно изменчивого, из этого принципа вытекает новый вид диалектики, вечный генезис абсолюта, воспроизводимый в сознании. Эта диалектика отменяет фундаментальные законы и приписывает себе, в противоположность определенному мышлению понимания по только что отвергнутым законам, способность неопределенного мышления, разум, помещая, таким образом, в каждой душе две способности, мыслящие по противоречивым законам, каждая из которых объявляет другую ложной, хотя все разумные существа не могут найти в себе ничего из того разума, который предполагается как раз объективным и наиболее общим в противоположность чисто субъективным определениям понимания. Эта диалектика лишена предпосылок и легитимации, ибо она должна отвергнуть как ложное любое рассуждение, обоснование или предпосылку, основанную на логике понимания, которую она объявляет ложной. Она опирается исключительно на свою собственную уверенность. Она утверждает, что развивает все исключительно из себя, но признает, что это развитие из себя есть в то же время, на каждом шагу, усвоение содержания эмпирической науки, которое она по-своему развращает, но за пределы которого она никогда не выходит. Неопределенное мышление делает невозможным всякий прогресс в мышлении, ибо всякий такой прогресс требует фиксированного тождества определений, обозначаемых одним и тем же словом в различные моменты их возникновения, т. е. приостановки текучести понятия; но эта приостановка также невозможна, ибо текучесть понятия лишает субъекта не только фиксированной точки сопротивления трансформации понятия, но даже всякой меры для восприятия тождества или изменения. Чтобы выйти из колебания понятия между двумя противоположностями (contrariis, – все понятия, не имеющие contrarium, вообще не могут рассматриваться диалектикой), диалектика подчиняет логическое отношение тождества реальному отношению единства, но тем самым не получает никакого иного результата, кроме 0 рода; только добавляя противоречивое требование, чтобы противоположности также сохранялись в единстве, которое их разрушает, она создает противоречие, невозможное, как результат вместо ничего. Оно утверждает, что способно в силу своего позитивного разума осуществлять мышление противоречия, деятельность, которая была бы глубоко мистической, непосредственной для других и непостижимой для самого практикующего. Это утверждение является самонадеянностью, путающей воление с реализацией, и относится к психиатрической категории фиксированной идеи, так же как текучесть понятия представляет собой полет идей маньяка.
До этого момента диалектика была верна себе; но, с самого начала отчаявшись в возможности принятия другими людьми прежних инструментов, она совершает непоследовательность, делая попытку, которую сама же и отвергает, оправдать себя с помощью предпосылок, лежащих вне ее. Обе предпосылки – абсолют и пронизанность всего сущего противоречием – если бы они были истинными сами по себе, ни в коем случае не привели бы к диалектике, а только к скептицизму и отчаянию мысли в самой себе. Но оба они сами по себе неистинны. Для рассудка абсолют, как нечто не имеющее определения и отношения, есть не только ничто, но и нечто невозможное для мышления, которое он должен отрицать; только мистическая эмоциональная тоска может терзать себя этим непониманием, но такая тоска никогда не может служить для обоснования научных принципов. Всеобщее существование противоречия, однако, опирается на демонстрации, которые могут показать противоречие только там, где они его совершили, то есть там, где они сами его ввели. Таким образом, снисходя до уступок, чтобы оправдаться перед разумом, диалектика терпит двойное поражение: она не может доказать то, что претендует на доказательство, и при этом оказывается неверной себе и своему духу. После этой бесполезной наготы остается вышеупомянутый результат, что диалектический метод – это патологическое помрачение ума, которое, полагаясь исключительно на собственную уверенность в своей истинности, не только высмеивает все предыдущие теоретические и практические достижения человечества, отменяя фундаментальный закон здравого мышления, в котором сомневались на протяжении тысячелетий, но и уничтожает всякую возможность мышления вообще, а значит, и жизни.