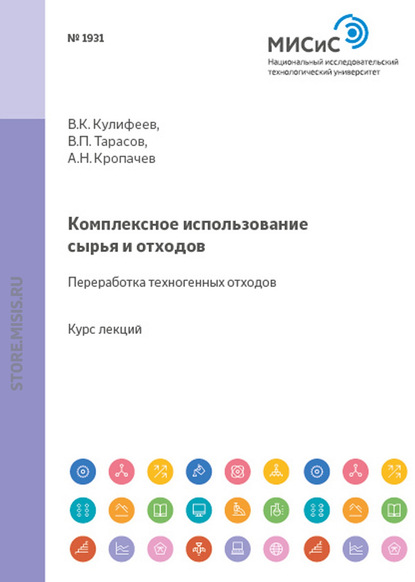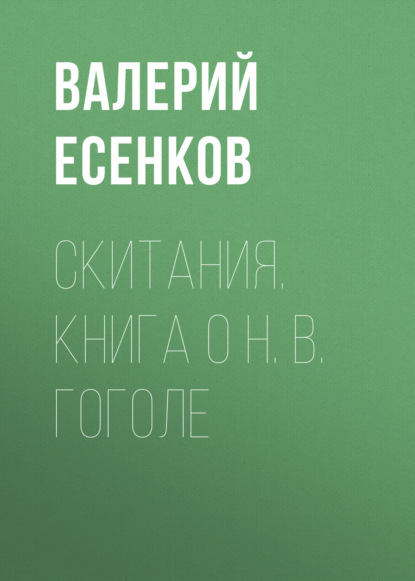По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скитания. Книга о Н. В. Гоголе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Скитания. Книга о Н. В. Гоголе
Валерий Николаевич Есенков
Это глубокий рассказ о том, как Н.В. Гоголь работал над вторым томом «Мёртвых душ», работал трагически-тяжело. Первая книга о Н.В. Гоголе под названием «Совесть» была опубликована в ж-ле «Подъем» в 1983 г. и издательстве «Армада» в 1998 г. «Скитания» посвящены периоду жизни Гоголя, с начала 40-х годов XIX века до ее окончания. Через внутренний мир ее героя, гениального русского писателя, перед читателем проходит все периоды его жизни, становление, духовные искания, душевная борьба между призванием таланта писателя, гражданина и высшей мудростью гения, понимавшего, что его идеи были преждевременно привнесены в жизнь России, и её пробуждение не произойдет мгновенно через живое слово. Автор «Скитаний» собирает внутренне убедительный для него и читателя образ героя, правдоподобность которого подтверждается всплывающими в памяти где-то и когда-то увиденными портретами или прочитанными книгами. По сути дела, писатель занимается творческой реконструкцией образа реального человека, причем именно творческой личности, чей образ можно «вычитать» не только из документов, но и из книг, им, Гоголем, созданных. Книга создана на основе обширного документального материала и ее отличает, как и все другие книги автора, биографичность, художественная манера изложения материала и большая степень фактографической точности. Рассчитана на подготовленного читателя и на тех, кому дорого творчество Н.В. Гоголя.
Валерий Есенков
Скитания. Книга о Н. В. Гоголе
© Валерий Есенков, 2022
Глава первая
В доме Погодина
Уже получив в руки пропущенную рукопись первого тома, Николай Васильевич, неожиданно для себя, с болезненной остротой ощутил, что вечное им кое-где позабыто. Сомнения тотчас одолели его, и если бы у него завелось кое-какое имущество, он бы не то что без сожаления, а прямо с облегчением, с радостью отдал всё это имущество на одном непременном условии: чтобы до времени, покуда он справится со своими сомненьями, не печатать никаких своих сочинений, в первую очередь именно «Мертвые души».
Однако же у него не было нажито никакого имущества. Ему было буквально не на что жить, не говоря уж о том, что и ни копейки не наскреблось на уплату самых неотложных долгов, не выплатить которые было бы прямо бесчестно, как не было и ни копейки, чтобы побыстрее собраться в дорогу, в которую он перед тем не хотел и без которой теперь, казалось ему, уже задыхался. Тем более не говоря уж о том, что на свете не было места, где бы приняли это имущество на условии исполнения его пожеланий и просьб.
Непостижимое стечение противных ему обстоятельств внезапно с сокрушительной силой обрушилось на него, и он пошатнулся, этими обстоятельствами принуждённый тотчас печатать, язвя себя что ни день, что до какой человек ни доберется разумности, всё ж таки одним воздухом никому пока что пропитаться нельзя. Он бросился вставлять в рукопись самые насущные исправления, писать наново всю важную для него повесть о капитане Копейкине, которую в прежнем виде не решился пропустить и самый понимающий, самый либеральный из цензоров Никитенко, бросился держать корректуры, всё почти разом, дивясь, как это у него не переворотилось всё в голове, ужасно спеша, как на гипподроме на скачках, то и дело выслушивая самые дружеские советы и сетованья, что именно ему-то и не имеется ни малейшего смысла спешить, что его-то поэма, когда бы ни вышла, хотя бы к июню, разошлась бы во всякое время, у него же не помещалось в уме, как не понимали эти желавшие ему исключительно добра голоса, сами все литераторы, все литературные люди, всегда имевшие дело с книжной торговлей, что дело обстоит совершенно не так, как оно сложилось в их головах, и в немногое свободное время терпеливо всем толковал, стыдясь поглядеть им в глаза:
– Как можно сказать: пора на такое-то сочинение не существует? Пора существует на всё. Что такое-то сочинение разошлось даже летом, это только и значит, что зимой его разошлось бы вдвое побольше. Подумайте только о том, что размен мыслей, впечатлений и новостей в нашем отечестве производится только зимой, когда всё соединяется в общества, съезжается в города. Тогда всё расходится быстро, всеми всё узнается, до последней мелкой сплетни включительно. Летом, напротив, в нашем отечестве всё гаснет и дремлет. Сообщения людей исчезают. Один на Кавказе, другой за границей, третий зарылся в деревенское захолустье. Лениво движутся слухи. Новости и вести едва доносятся издалека. Шум и крики, которые способствуют огласке всякого происшествия, все умолкают. Разъединено решительно всё. Как же хотите, чтобы могли быть эти два противоположные времени равно благоприятны расходу какой бы то ни было книги! Разница между ними видна. Пора это знать.
На его рассуждения дружно все отвечали ему, что если он так спешит, для чего переделки и переправки. Это уж мнительность и чересчур. И без переделок, без переправок удивительно превосходно и в целом, и в частях, и во всем, не в пример хотя бы Павлова повестям. И все эти бестолковые толки камнем ложились на прежние толки, какими он уже напитался в говорливой Москве, разрастаясь в какую-то одну странную, непонятную непостижимую гадость, так что он, спеша и терзаясь, задавался всё чаще вопросом, из какой крайней нужды он заехал сюда и не наделал ли этим заездом в двадцать раз больше беды, желая этим заездом поправить свои отношения и сделать их гораздо получше?
Однако всё это побоку. Он всё терпел ради скорейшего исполнения главного дела, а главным делом был именно выход первой части поэмы, хотя со слабым намеком на то, что вечное им не забыто и что вечное много сильней выступит наконец во второй и в третьей частях.
Как же тут было не переправлять беспрестанно, чуть не на каждом шагу?
И Николай Васильевич переправлял и переправлял с особенным тщанием последнюю, одиннадцатую главу, где всего более могли быть уместны подобного рода намеки, придираясь здесь к малейшему случаю вставить хотя бы словечко. А случаев было немного. Не там же, разумеется, было вставить такое словечко, где ославленный Чичиков, в который уж раз без всякого себе поучения претерпевший от круто берущей судьбы, сбирается в путь и наконец выезжает из всполошенного губернского города прочь. Пожалуй, можно было бы вставить подальше, где приступается к изложению всех превратностей его исключительно греховного бытия, исправляя по этому случаю и понабравшиеся там и сям пустяки и пустые парения мысли, когда и само по себе неспособно было читать вот хоть бы это:
«Прежде всего автор должен сказать, что он весьма сомневается, чтобы избранный герой его понравился читателю…»
Как возможно было оставить это невыразительное, это растянутое начало важного приступа, где с первых же слов сам автор совался на вид, чего по возможности делать нельзя. Как возможно было не изменить это «весьма сомневается», когда оно отвращало его неопределенностью, а значит и пошлостью казенного словечка «весьма», такого лукавого и в то же время как будто задиравшего нос?
И он переменял, выбрасывал половину и получал:
«Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям…»
И уже морщился, едва продвинувшись далее:
«Дамам он не понравится, это можно сказать наверное, ибо дамы требуют, чтобы герой был совершенен во всех частях, чтоб это было такое совершенство, чтобы ни пятнышка, если только безделица какая-нибудь – как-нибудь нос не так или что-нибудь не так хорошее к душевным качествам, так беда. Никакой цены не дастся автору, хоть как глубоко ни загляни он в душу, хоть отрази чище зеркала образ человека. Самая полнота и средние лета героя тоже очень не понравятся; герою полноты ни в коем случае не простят, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «фи, какой гадкой»…»
Какое заигрыванье! Какое пустое и пошлое зубоскальство! Как не хороши все эти «какой-нибудь нос» и «что-нибудь не так», к тому же приставленные так близко друг к другу!
Перо врубалось решительно, отсекало и вписывало, чтобы изложение сделалось серьезней и проще:
«Дамам он не понравится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуют, чтоб герой был решительное совершенство, и если какое-нибудь душевное или телесное пятнышко, такая беда! Как глубоко ни взгляни автор в душу, хоть отрази чище зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в коем случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «фи, какой гадкой!»»
Кажется, можно бы, если и не быть довольным вполне, поскольку к полному совершенству мы только стремимся, а достичь его нам не дано, так хотя бы удовлетвориться на этом. Однако же нет. Снова всунулись эти пространные толки о дамах, точно не могло и делаться никакого дела без них:
«Увы, всё это известно автору, но что же делать. До сих пор как-то автору ещё ничего не случилось произвести по внушению дамскому, и даже он чувствовал какую-то странную робость и смущение, когда дама облокотится на письменное бюро его. Теперь, конечно, всё прошло, даже и смущения не чувствует он. Воспитанный уединением, суровой, внутренней жизнию, не имеет он обычая смотреть по сторонам, когда пишет, и только разве невольно сами собой остановятся изредка глаза только на висящие перед ним на стене портреты Шекспира, Ариоста, Фильдинга, Сервантеса, Пушкина, отразивших природу такою, какова была, а не таковою, как угодно было кому-нибудь, чтобы она была…»
Всё это справедливо, и о сердечных любимцах его, которые вечно служили примером высших помыслов и усидчивого труда, и в особенности о том, что не следует в угоду кому бы то ни было искажать природу вещей. Однако всё это было слишком похоже на то, что бедный автор силился выставить себя в лучшем виде перед глазами читателей, не надеясь на то, что читатели и сами увидят, какой выступила природа из-под пера, если не слепы. А если слепы, так нечего и размазывать перед ними. Тогда где же за этими побрякушками самолюбия автора мысли о вечном?
И как ни тяжко доставалась ему всякая мысль, каких ни стоила напряженных и долгих обдумываний, а вместе с ними соображений да опытов жизни, как по этой причине ни дорожил он выжитой мыслью своей, как ни оказывался не в силах расстаться, как ни подрагивало сердце, ни обмирало, а вычеркнул всё это место до единого слова и весь замысел свой выставил в самых общих чертах, чтобы не заблудился никто, будто одна пошлость пошлого человека шевелится в душе да гнездится в мыслях его:
«Увы! Всё это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека. Но… может быть, в сей же самой повести почуются иные, ещё доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самопожертвования. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертвая книга пред живым словом! Подымутся русские движения… и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов… Но к чему и зачем говорить о том, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всему свой черед, и место, и время! А добродетельный человек все-таки не взят в герои…»
Отчего же не взят? Разве не в добродетельном человеке всё несметное богатство русского духа? Разве не перед русским добродетельным человеком покажутся мертвыми все добродетельные люди прочих племен? Не сообразит ли попривыкший к его словно бы простодушным насмешкам читатель, что и на этот раз склонный к остроумию автор изволит шутить, обещая со временем выставить то, чего и вовсе не собирается выставлять? И что за причины у автора отказываться уже в первой части от добродетельного именно человека?
Пришлось изъяснять:
«Но почему не выбрал он в герои совершенного и добродетельного человека, это другое дело, это и можно сказать. А по весьма законной причине не выбран добродетельный человек. Потому что хоть на время нужно дать какой-нибудь роздых бедному добродетельному человеку, потому что бедного добродетельного человека обратили в какую-то почтовую или ломовую, и нет писателя, который бы не ездил на нем, потому что, обративши его в лошадь, то и дело хлещут его кнутом, понукают да пришпоривают, не имея… никакого и до того заморили, что теперь вышел он Бог знает что, а не добродетельный человек. Одни только ребра да кожа видны на нем, а уж и тени нет никакой добродетели. Нет, пора, наконец, припречь и подлеца…»
Верно, все эти писанные и переписанные у нас добродетели весьма казенного вида и толка, от которых один звон в голове и оском на зубах, на одних остаются прегромких речах, только наименованы честностью, достоинством, благородством. Однако ровно ни в каком не осуществляются порядочном начинании либо стоящем внимания действии, ни в какое не воплощаются достойное дело, полезное не одному только себе, а целому обществу. Потому и превратился в разъезжую клячу нынешний добродетельный человек, и все смеются над ним, и никому он не служит верным примером, как делать добро, а разве наоборот, примером того, как доброе обращается в злое.
Не такого добродетельного человека со временем выставит он, который бы лишь размышлял всё о высоком да всё о прекрасном, которое непременно ожидает нас в будущем, а сам так себе, ничего, мужиком о добродетели таким слогом заговорит, что мужик руки в стороны да так с распахнутым ртом и застынет, точно под видом добродетели поднесли ему уксусу добрый глоток.
Нет, такого добродетельного человека выставит он, который, может быть, и говорит и рассуждает о добродетели, как свойственно всякому человеку, но которого главнейшая добродетель заключается именно в том, чтобы делать, неукоснительно, непрестанно делать добро не только для себя самого, но ещё больше другим, Всё богатство души, которое имеет его добродетельный человек, не растекается в пламенном слове, а скромно покоится в доходном хозяйстве, в устроенном честно суде или в посильной помощи пусть даже и первому встречному постороннему человеку, однако же в помощи не словом, но делом, которое издавна было дороже и добродетельнее любого высокого, идущего даже от самого сердца речения.
И не пристало ему намекать на явление такой добродетели этим поспешным неряшливым слогом, с частыми повторениями одного и того же, словно и сам он ещё недостаточно верит себе или недостаточно понял себя. Его добродетельный человек окажется просто-напросто хозяйственным, дельным, прикладистым ко всему, что ни есть на земле, и оттого мужественней, дельней должно сделаться и самое слово его.
И он старательно скреб и чистил этот важный абзац, вытравляя неряшество, добиваясь решительной сжатости речи, пока не преобразилось каждое слово, даже из тех, которые как будто остались на месте:
«И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку; потому что обратили в рабочую лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и всем, чем попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, и остались только ребра да кожа вместо тела; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!..»
Он затем и припрягал подлеца, чтобы выставить ярче тщедушную слабость нынешнего добродетельного человека-бездельника, не умеющего и шагу ступить, чтобы приложить свои словесные добродетели к жизни, тогда как подлец при всей очевидной недобродетельности своей перед нынешним добродетельным человеком-бездельником обладает бесценнейшим преимуществом виртуозно обделывать всякое дельце, к какому не приводит его извилистый недобродетельный путь, так что есть чему и поучиться добродетельному человеку-бездельнику у подлеца.
Да что там поучиться! Такой деятельный подлец подороже добродетельного бездельника и сам несет в себе крепкое семя своего возрождения, только попади подлец как-нибудь на иную дорогу, ведь его подлость принадлежит ему не по закону рождения, а внесена в него и приклеилась небрежением к человеку сначала невежеством равнодушных или жестоких или жадных родителей, затем нашим заблудившимся обществом, увидевшим свой идеал в богатстве безмерном да в чине хоть одним только рангом повыше того, какой заслужил, генерала или министра лучше всего.
И была рассказана вся неправедная жизнь подлеца, и напоследок было сообщено, как пришел Павел Иванович Чичиков к мысли скупить мертвые души и заложить их в ломбард. И следовало извинение перед читателями за то, что именно такой непрезентабельный невзрачный герой попался ему под перо и выставился в первой части поэмы на вид:
«Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доселе явившиеся, не пришлись им по вкусу: автор совершенно в стороне, виноват Чичиков; автору очень бы хотелось избрать других, и он даже отчасти знает, какие характеры понравились бы читателю, ну, да поди между прочим, сладь с Чичиковым: у него совершенно другие потребности. Здесь он полный хозяин, куда ему вздумается поехать, туда и мы должны тащиться. Автор, с своей стороны, если уж точно падет на него сильное обвинение за невзрачность лиц и характеров, может привести одну причину. Никогда вначале не видно всего мужества развития и широкого течения. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен, всё как-то сначала серо и однообразно: тянутся какие-нибудь бесконечные стены и заборы, да заводы, закопченные дымом, и потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц с городским блеском, шумом и громом и всё, что на диво произвела рука и мысль человека. По крайней мере, читатель уже видел, как произвел первые покупки Чичиков, как пойдет дело далее и какие пойдут удачи потом и что произведет всё это, увидим потом. Ещё много пути…»
Экое философствованье! Положим, хоть и на важную тему. Он без сожаления сократил вполовину, но ещё усилил описание произведений человеческой мысли и рук, в которых и видел добродетель всех добродетелей на земле. Сюда же он вставил новый намек на развитие действия во втором и даже в третьем томе поэмы:
«Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доныне явившиеся, не пришлись по его вкусу; это вина Чичикова, здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если, уж точно, падет обвинение за бедность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого теченья и объема дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то беден, сначала всё серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы и фабрики, закопченные дымом, а потому уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывеси, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи героя, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двигнутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече её горизонт, и вся она примет величавое лирическое течение, то увидим потом. Ещё много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которых ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно, от Заседателя до подлеца чубарого. Итак…»
Тут он обо что-то сильно споткнулся и покраснел, затем ещё раз перечел, какими определениями истолковывал смысл и значение выставленного в первой части характера:
«Итак, вот, наконец, весь на лицо герой наш, таков, как есть. Может быть, ещё потребуют исключительного определения одной чертою: кто же он относительно качеств нравственных? Это видно, что он не герой, исполненный всех совершенств и добродетелей, – разве подлец? Почему же подлец. Зачем же быть так строгу? Теперь у нас подлецов не бывает; есть люди приятные, благонамеренные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два-три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели…»
Нет, это всё ещё ничего, если размыслить и пообдумать. Это всё даже можно как будто оставить и так. Даже не к чему придраться перу, если правду сказать. Разве что поменять местами два слова? Однако же всё дальнейшее как-то плелось приблизительно, даже неверно. Неверно, разумеется, оттого, что не вдумался окончательно, когда над этим местом проводил свои дни, какой развернется вся перспектива поэмы и каким в ней выставится на свет действительно добродетельный человек, которого не затаскали и не сделали клячей. Вот каковы представали плоды необдуманности:
«Справедливее, полагаю, назвать героя нашего прожектером…»
Именно несправедливо, неверно и даже стыдно бы было героя этим прозваньем аттестовать. Невинным чувствительным прожектером уже явился в поэме Манилов, да и мало ли самых нелепых прожектеров на свете, в особенности в речистой Москве, которую на этот раз он вдосталь наслушался и навидался, до увяданья ушей и намозоленья глаз. Уж если прожить век прожектером тоже грех перед Богом и перед людьми, то, что там ни говорите, иной все-таки грех, чем тот, который непременно из человека делает подлеца. Иной порок сдернул Павла Ивановича с праведного пути. Однако ж какой? Недаром же поставлено далее:
«У всякого есть свой прожект…»
Валерий Николаевич Есенков
Это глубокий рассказ о том, как Н.В. Гоголь работал над вторым томом «Мёртвых душ», работал трагически-тяжело. Первая книга о Н.В. Гоголе под названием «Совесть» была опубликована в ж-ле «Подъем» в 1983 г. и издательстве «Армада» в 1998 г. «Скитания» посвящены периоду жизни Гоголя, с начала 40-х годов XIX века до ее окончания. Через внутренний мир ее героя, гениального русского писателя, перед читателем проходит все периоды его жизни, становление, духовные искания, душевная борьба между призванием таланта писателя, гражданина и высшей мудростью гения, понимавшего, что его идеи были преждевременно привнесены в жизнь России, и её пробуждение не произойдет мгновенно через живое слово. Автор «Скитаний» собирает внутренне убедительный для него и читателя образ героя, правдоподобность которого подтверждается всплывающими в памяти где-то и когда-то увиденными портретами или прочитанными книгами. По сути дела, писатель занимается творческой реконструкцией образа реального человека, причем именно творческой личности, чей образ можно «вычитать» не только из документов, но и из книг, им, Гоголем, созданных. Книга создана на основе обширного документального материала и ее отличает, как и все другие книги автора, биографичность, художественная манера изложения материала и большая степень фактографической точности. Рассчитана на подготовленного читателя и на тех, кому дорого творчество Н.В. Гоголя.
Валерий Есенков
Скитания. Книга о Н. В. Гоголе
© Валерий Есенков, 2022
Глава первая
В доме Погодина
Уже получив в руки пропущенную рукопись первого тома, Николай Васильевич, неожиданно для себя, с болезненной остротой ощутил, что вечное им кое-где позабыто. Сомнения тотчас одолели его, и если бы у него завелось кое-какое имущество, он бы не то что без сожаления, а прямо с облегчением, с радостью отдал всё это имущество на одном непременном условии: чтобы до времени, покуда он справится со своими сомненьями, не печатать никаких своих сочинений, в первую очередь именно «Мертвые души».
Однако же у него не было нажито никакого имущества. Ему было буквально не на что жить, не говоря уж о том, что и ни копейки не наскреблось на уплату самых неотложных долгов, не выплатить которые было бы прямо бесчестно, как не было и ни копейки, чтобы побыстрее собраться в дорогу, в которую он перед тем не хотел и без которой теперь, казалось ему, уже задыхался. Тем более не говоря уж о том, что на свете не было места, где бы приняли это имущество на условии исполнения его пожеланий и просьб.
Непостижимое стечение противных ему обстоятельств внезапно с сокрушительной силой обрушилось на него, и он пошатнулся, этими обстоятельствами принуждённый тотчас печатать, язвя себя что ни день, что до какой человек ни доберется разумности, всё ж таки одним воздухом никому пока что пропитаться нельзя. Он бросился вставлять в рукопись самые насущные исправления, писать наново всю важную для него повесть о капитане Копейкине, которую в прежнем виде не решился пропустить и самый понимающий, самый либеральный из цензоров Никитенко, бросился держать корректуры, всё почти разом, дивясь, как это у него не переворотилось всё в голове, ужасно спеша, как на гипподроме на скачках, то и дело выслушивая самые дружеские советы и сетованья, что именно ему-то и не имеется ни малейшего смысла спешить, что его-то поэма, когда бы ни вышла, хотя бы к июню, разошлась бы во всякое время, у него же не помещалось в уме, как не понимали эти желавшие ему исключительно добра голоса, сами все литераторы, все литературные люди, всегда имевшие дело с книжной торговлей, что дело обстоит совершенно не так, как оно сложилось в их головах, и в немногое свободное время терпеливо всем толковал, стыдясь поглядеть им в глаза:
– Как можно сказать: пора на такое-то сочинение не существует? Пора существует на всё. Что такое-то сочинение разошлось даже летом, это только и значит, что зимой его разошлось бы вдвое побольше. Подумайте только о том, что размен мыслей, впечатлений и новостей в нашем отечестве производится только зимой, когда всё соединяется в общества, съезжается в города. Тогда всё расходится быстро, всеми всё узнается, до последней мелкой сплетни включительно. Летом, напротив, в нашем отечестве всё гаснет и дремлет. Сообщения людей исчезают. Один на Кавказе, другой за границей, третий зарылся в деревенское захолустье. Лениво движутся слухи. Новости и вести едва доносятся издалека. Шум и крики, которые способствуют огласке всякого происшествия, все умолкают. Разъединено решительно всё. Как же хотите, чтобы могли быть эти два противоположные времени равно благоприятны расходу какой бы то ни было книги! Разница между ними видна. Пора это знать.
На его рассуждения дружно все отвечали ему, что если он так спешит, для чего переделки и переправки. Это уж мнительность и чересчур. И без переделок, без переправок удивительно превосходно и в целом, и в частях, и во всем, не в пример хотя бы Павлова повестям. И все эти бестолковые толки камнем ложились на прежние толки, какими он уже напитался в говорливой Москве, разрастаясь в какую-то одну странную, непонятную непостижимую гадость, так что он, спеша и терзаясь, задавался всё чаще вопросом, из какой крайней нужды он заехал сюда и не наделал ли этим заездом в двадцать раз больше беды, желая этим заездом поправить свои отношения и сделать их гораздо получше?
Однако всё это побоку. Он всё терпел ради скорейшего исполнения главного дела, а главным делом был именно выход первой части поэмы, хотя со слабым намеком на то, что вечное им не забыто и что вечное много сильней выступит наконец во второй и в третьей частях.
Как же тут было не переправлять беспрестанно, чуть не на каждом шагу?
И Николай Васильевич переправлял и переправлял с особенным тщанием последнюю, одиннадцатую главу, где всего более могли быть уместны подобного рода намеки, придираясь здесь к малейшему случаю вставить хотя бы словечко. А случаев было немного. Не там же, разумеется, было вставить такое словечко, где ославленный Чичиков, в который уж раз без всякого себе поучения претерпевший от круто берущей судьбы, сбирается в путь и наконец выезжает из всполошенного губернского города прочь. Пожалуй, можно было бы вставить подальше, где приступается к изложению всех превратностей его исключительно греховного бытия, исправляя по этому случаю и понабравшиеся там и сям пустяки и пустые парения мысли, когда и само по себе неспособно было читать вот хоть бы это:
«Прежде всего автор должен сказать, что он весьма сомневается, чтобы избранный герой его понравился читателю…»
Как возможно было оставить это невыразительное, это растянутое начало важного приступа, где с первых же слов сам автор совался на вид, чего по возможности делать нельзя. Как возможно было не изменить это «весьма сомневается», когда оно отвращало его неопределенностью, а значит и пошлостью казенного словечка «весьма», такого лукавого и в то же время как будто задиравшего нос?
И он переменял, выбрасывал половину и получал:
«Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям…»
И уже морщился, едва продвинувшись далее:
«Дамам он не понравится, это можно сказать наверное, ибо дамы требуют, чтобы герой был совершенен во всех частях, чтоб это было такое совершенство, чтобы ни пятнышка, если только безделица какая-нибудь – как-нибудь нос не так или что-нибудь не так хорошее к душевным качествам, так беда. Никакой цены не дастся автору, хоть как глубоко ни загляни он в душу, хоть отрази чище зеркала образ человека. Самая полнота и средние лета героя тоже очень не понравятся; герою полноты ни в коем случае не простят, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «фи, какой гадкой»…»
Какое заигрыванье! Какое пустое и пошлое зубоскальство! Как не хороши все эти «какой-нибудь нос» и «что-нибудь не так», к тому же приставленные так близко друг к другу!
Перо врубалось решительно, отсекало и вписывало, чтобы изложение сделалось серьезней и проще:
«Дамам он не понравится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуют, чтоб герой был решительное совершенство, и если какое-нибудь душевное или телесное пятнышко, такая беда! Как глубоко ни взгляни автор в душу, хоть отрази чище зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в коем случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «фи, какой гадкой!»»
Кажется, можно бы, если и не быть довольным вполне, поскольку к полному совершенству мы только стремимся, а достичь его нам не дано, так хотя бы удовлетвориться на этом. Однако же нет. Снова всунулись эти пространные толки о дамах, точно не могло и делаться никакого дела без них:
«Увы, всё это известно автору, но что же делать. До сих пор как-то автору ещё ничего не случилось произвести по внушению дамскому, и даже он чувствовал какую-то странную робость и смущение, когда дама облокотится на письменное бюро его. Теперь, конечно, всё прошло, даже и смущения не чувствует он. Воспитанный уединением, суровой, внутренней жизнию, не имеет он обычая смотреть по сторонам, когда пишет, и только разве невольно сами собой остановятся изредка глаза только на висящие перед ним на стене портреты Шекспира, Ариоста, Фильдинга, Сервантеса, Пушкина, отразивших природу такою, какова была, а не таковою, как угодно было кому-нибудь, чтобы она была…»
Всё это справедливо, и о сердечных любимцах его, которые вечно служили примером высших помыслов и усидчивого труда, и в особенности о том, что не следует в угоду кому бы то ни было искажать природу вещей. Однако всё это было слишком похоже на то, что бедный автор силился выставить себя в лучшем виде перед глазами читателей, не надеясь на то, что читатели и сами увидят, какой выступила природа из-под пера, если не слепы. А если слепы, так нечего и размазывать перед ними. Тогда где же за этими побрякушками самолюбия автора мысли о вечном?
И как ни тяжко доставалась ему всякая мысль, каких ни стоила напряженных и долгих обдумываний, а вместе с ними соображений да опытов жизни, как по этой причине ни дорожил он выжитой мыслью своей, как ни оказывался не в силах расстаться, как ни подрагивало сердце, ни обмирало, а вычеркнул всё это место до единого слова и весь замысел свой выставил в самых общих чертах, чтобы не заблудился никто, будто одна пошлость пошлого человека шевелится в душе да гнездится в мыслях его:
«Увы! Всё это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека. Но… может быть, в сей же самой повести почуются иные, ещё доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самопожертвования. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертвая книга пред живым словом! Подымутся русские движения… и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов… Но к чему и зачем говорить о том, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всему свой черед, и место, и время! А добродетельный человек все-таки не взят в герои…»
Отчего же не взят? Разве не в добродетельном человеке всё несметное богатство русского духа? Разве не перед русским добродетельным человеком покажутся мертвыми все добродетельные люди прочих племен? Не сообразит ли попривыкший к его словно бы простодушным насмешкам читатель, что и на этот раз склонный к остроумию автор изволит шутить, обещая со временем выставить то, чего и вовсе не собирается выставлять? И что за причины у автора отказываться уже в первой части от добродетельного именно человека?
Пришлось изъяснять:
«Но почему не выбрал он в герои совершенного и добродетельного человека, это другое дело, это и можно сказать. А по весьма законной причине не выбран добродетельный человек. Потому что хоть на время нужно дать какой-нибудь роздых бедному добродетельному человеку, потому что бедного добродетельного человека обратили в какую-то почтовую или ломовую, и нет писателя, который бы не ездил на нем, потому что, обративши его в лошадь, то и дело хлещут его кнутом, понукают да пришпоривают, не имея… никакого и до того заморили, что теперь вышел он Бог знает что, а не добродетельный человек. Одни только ребра да кожа видны на нем, а уж и тени нет никакой добродетели. Нет, пора, наконец, припречь и подлеца…»
Верно, все эти писанные и переписанные у нас добродетели весьма казенного вида и толка, от которых один звон в голове и оском на зубах, на одних остаются прегромких речах, только наименованы честностью, достоинством, благородством. Однако ровно ни в каком не осуществляются порядочном начинании либо стоящем внимания действии, ни в какое не воплощаются достойное дело, полезное не одному только себе, а целому обществу. Потому и превратился в разъезжую клячу нынешний добродетельный человек, и все смеются над ним, и никому он не служит верным примером, как делать добро, а разве наоборот, примером того, как доброе обращается в злое.
Не такого добродетельного человека со временем выставит он, который бы лишь размышлял всё о высоком да всё о прекрасном, которое непременно ожидает нас в будущем, а сам так себе, ничего, мужиком о добродетели таким слогом заговорит, что мужик руки в стороны да так с распахнутым ртом и застынет, точно под видом добродетели поднесли ему уксусу добрый глоток.
Нет, такого добродетельного человека выставит он, который, может быть, и говорит и рассуждает о добродетели, как свойственно всякому человеку, но которого главнейшая добродетель заключается именно в том, чтобы делать, неукоснительно, непрестанно делать добро не только для себя самого, но ещё больше другим, Всё богатство души, которое имеет его добродетельный человек, не растекается в пламенном слове, а скромно покоится в доходном хозяйстве, в устроенном честно суде или в посильной помощи пусть даже и первому встречному постороннему человеку, однако же в помощи не словом, но делом, которое издавна было дороже и добродетельнее любого высокого, идущего даже от самого сердца речения.
И не пристало ему намекать на явление такой добродетели этим поспешным неряшливым слогом, с частыми повторениями одного и того же, словно и сам он ещё недостаточно верит себе или недостаточно понял себя. Его добродетельный человек окажется просто-напросто хозяйственным, дельным, прикладистым ко всему, что ни есть на земле, и оттого мужественней, дельней должно сделаться и самое слово его.
И он старательно скреб и чистил этот важный абзац, вытравляя неряшество, добиваясь решительной сжатости речи, пока не преобразилось каждое слово, даже из тех, которые как будто остались на месте:
«И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку; потому что обратили в рабочую лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и всем, чем попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, и остались только ребра да кожа вместо тела; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!..»
Он затем и припрягал подлеца, чтобы выставить ярче тщедушную слабость нынешнего добродетельного человека-бездельника, не умеющего и шагу ступить, чтобы приложить свои словесные добродетели к жизни, тогда как подлец при всей очевидной недобродетельности своей перед нынешним добродетельным человеком-бездельником обладает бесценнейшим преимуществом виртуозно обделывать всякое дельце, к какому не приводит его извилистый недобродетельный путь, так что есть чему и поучиться добродетельному человеку-бездельнику у подлеца.
Да что там поучиться! Такой деятельный подлец подороже добродетельного бездельника и сам несет в себе крепкое семя своего возрождения, только попади подлец как-нибудь на иную дорогу, ведь его подлость принадлежит ему не по закону рождения, а внесена в него и приклеилась небрежением к человеку сначала невежеством равнодушных или жестоких или жадных родителей, затем нашим заблудившимся обществом, увидевшим свой идеал в богатстве безмерном да в чине хоть одним только рангом повыше того, какой заслужил, генерала или министра лучше всего.
И была рассказана вся неправедная жизнь подлеца, и напоследок было сообщено, как пришел Павел Иванович Чичиков к мысли скупить мертвые души и заложить их в ломбард. И следовало извинение перед читателями за то, что именно такой непрезентабельный невзрачный герой попался ему под перо и выставился в первой части поэмы на вид:
«Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доселе явившиеся, не пришлись им по вкусу: автор совершенно в стороне, виноват Чичиков; автору очень бы хотелось избрать других, и он даже отчасти знает, какие характеры понравились бы читателю, ну, да поди между прочим, сладь с Чичиковым: у него совершенно другие потребности. Здесь он полный хозяин, куда ему вздумается поехать, туда и мы должны тащиться. Автор, с своей стороны, если уж точно падет на него сильное обвинение за невзрачность лиц и характеров, может привести одну причину. Никогда вначале не видно всего мужества развития и широкого течения. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен, всё как-то сначала серо и однообразно: тянутся какие-нибудь бесконечные стены и заборы, да заводы, закопченные дымом, и потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц с городским блеском, шумом и громом и всё, что на диво произвела рука и мысль человека. По крайней мере, читатель уже видел, как произвел первые покупки Чичиков, как пойдет дело далее и какие пойдут удачи потом и что произведет всё это, увидим потом. Ещё много пути…»
Экое философствованье! Положим, хоть и на важную тему. Он без сожаления сократил вполовину, но ещё усилил описание произведений человеческой мысли и рук, в которых и видел добродетель всех добродетелей на земле. Сюда же он вставил новый намек на развитие действия во втором и даже в третьем томе поэмы:
«Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доныне явившиеся, не пришлись по его вкусу; это вина Чичикова, здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если, уж точно, падет обвинение за бедность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого теченья и объема дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то беден, сначала всё серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы и фабрики, закопченные дымом, а потому уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывеси, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи героя, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двигнутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече её горизонт, и вся она примет величавое лирическое течение, то увидим потом. Ещё много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которых ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно, от Заседателя до подлеца чубарого. Итак…»
Тут он обо что-то сильно споткнулся и покраснел, затем ещё раз перечел, какими определениями истолковывал смысл и значение выставленного в первой части характера:
«Итак, вот, наконец, весь на лицо герой наш, таков, как есть. Может быть, ещё потребуют исключительного определения одной чертою: кто же он относительно качеств нравственных? Это видно, что он не герой, исполненный всех совершенств и добродетелей, – разве подлец? Почему же подлец. Зачем же быть так строгу? Теперь у нас подлецов не бывает; есть люди приятные, благонамеренные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два-три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели…»
Нет, это всё ещё ничего, если размыслить и пообдумать. Это всё даже можно как будто оставить и так. Даже не к чему придраться перу, если правду сказать. Разве что поменять местами два слова? Однако же всё дальнейшее как-то плелось приблизительно, даже неверно. Неверно, разумеется, оттого, что не вдумался окончательно, когда над этим местом проводил свои дни, какой развернется вся перспектива поэмы и каким в ней выставится на свет действительно добродетельный человек, которого не затаскали и не сделали клячей. Вот каковы представали плоды необдуманности:
«Справедливее, полагаю, назвать героя нашего прожектером…»
Именно несправедливо, неверно и даже стыдно бы было героя этим прозваньем аттестовать. Невинным чувствительным прожектером уже явился в поэме Манилов, да и мало ли самых нелепых прожектеров на свете, в особенности в речистой Москве, которую на этот раз он вдосталь наслушался и навидался, до увяданья ушей и намозоленья глаз. Уж если прожить век прожектером тоже грех перед Богом и перед людьми, то, что там ни говорите, иной все-таки грех, чем тот, который непременно из человека делает подлеца. Иной порок сдернул Павла Ивановича с праведного пути. Однако ж какой? Недаром же поставлено далее:
«У всякого есть свой прожект…»