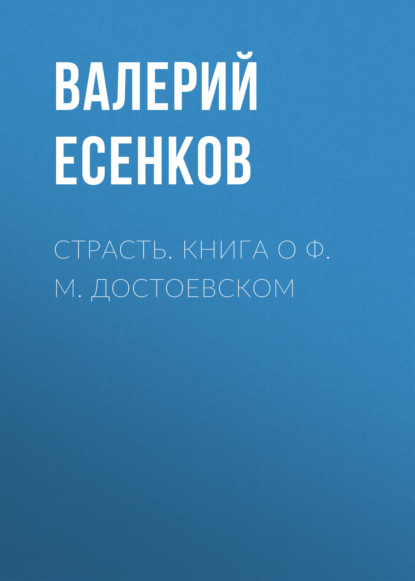По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Страсть. Книга о Ф. М. Достоевском
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Какие могли бы найтись от столь обманутых надежд утешения? Он и сам оставался сильно смущен. Не то чтобы он колебался. Он тверд был всегда в своих предпочтениях, и в тот раз, несмотря на Белинского, мнений своих о Бальзаке не изменил, однако же подумать с практической точки было над чем, и выходило, что впредь надобно поосторожней избирать предметы для перевода, из опасения не одного неуспеха в журнале, но также того, что вот Белинский возьмет и докажет пошлость его не в одном разговоре с Григоровичем да с Некрасовым, а в журнале своим блестящим пером, что со страстью и желчью по другим поводам делал не раз, что тогда? А то, что чистый убыток тогда: половины покупателей как не бывало! Вот тебе и барыш!
А тут всё набегали и набегали долги, которые он делал как-то само собой и беспечно в поразительной степени, понадеясь на ближайший и, конечно, громадный доход от своих переводов, по полтора листа в день, всенепременно. Самые гнусные живодеры из кредиторов в любой час могли подать ко взысканию. А что с него взять? Ах, нечего взять, так упекут в долговую тюрьму, откуда некому выкупить, так и сгниет ни за что, за какую-нибудь сотню рублей.
Он ощутил, что враждебные обстоятельства сжимают его как пружину. В нем страшная от сжатия копилась энергия, и вот его энергии не находилось исхода, а он по образованию был инженер и математически помнил ещё: либо лопнет пружина, либо выкажет ужасную силу, когда представится надлежащий простор. Простор предоставлялся один: не корпеть над сомнительными, ненадежными по обстоятельствами переводами, как бы ни выгодны они были Струговщикову, не издавать в компании с братом Шиллера и Евгения Сю, как бы первый ни был полезен России возвышенностью и благородством порывов души и как бы ни был широко популярен второй у мещан, тут Виссарион Григорьевич прав, а писать свое, писать самому.
Ибо, как уже убедился на опыте, полезном, хоть горьком, с убитой карты в другой раз ходят одни дураки.
И, понятное дело, не просто писать, а писать, состязаясь всенепременно с гигантами, сравняться с ними мастерством исполнения и необычностью замыслов и, может быть, их превзойти. Не с преуспевшей посредственностью, вроде того самого Евгения Сю, кумира мещан, которая, куда ни глянь, куда ни поворотись, у нас и в Европе, всюду в первых, даже в первейших местах, а с гигантами, да!
Как, и с Пушкиным, с Гоголем?
С ними!
Непрестанно обдумывая, какой именно исключительный замысел должен поставить его в один ряд с величайшими гениями или, может быть, и повыше, он привык торопливо ходить взад и вперед, почти бегать, опустив голову, заложив руки назад, не видя перед собой ничего, однако же в клетке своей успевал сделать пять больших шагов от стены до стены или шесть не очень больших из угла в угол, и от краткости расстояния его мысли не могли развернуться по-настоящему широко и свободно, как бы хотелось, как требовалось ему. Мыслям, что там ни говори, нужен, прямо необходим широкий простор, и он, сердясь на безденежье, тяжело переживая непредвиденные свои неудачи, чувствуя, как нелепо и грубо унижен без вины и причины, бродил подолгу по улицам, не разбирая, солнце ли светит, дождь ли льет или снег.
На Невский или Гороховую он норовил не выходить. На Невском или Гороховой адский шум, мышиная суета, беготня, рестораны и лавки. Там в саженных витринах дорогие одежды, тонкие ткани и самые модные перчатки и шляпы. Там рессорные коляски на мостовых, с шелком и бархатом, с зеркальными стеклами, с лакеями в позументах, иные даже при шпаге, с каменным презрением к тем, кто трусит по грязным тротуарам пешком, да ещё в дождь или в снег.
Блеск и богатство и оскорбляли и манили его. Ему страсть как хотелось промчаться в роскошной карете и щегольнуть тончайшим голландским бельем. Что поделать! Он знал, что такого рода желания недостойны его, что он предназначил себя к великим свершениям, но он был уже художник в душе и любил красивые вещи, к тому же вокруг, вопреки поговорке, и встречали и провожали, глядя на шляпу, жилет и собственный экипаж, и, как бы ни презирал он этот издевательский принцип самодовольства и пошлости, как бы ни ненавидел всё то, что служит унижению ближнего, именно всё это замышляя впоследствии заклеймить своим злым, беспощадным пером, чтобы, избавившись наконец от самодовольной страсти унижать и топтать бедняка за одно то, что он бедняк, чтобы человек относился к человеку по-человечески, независимо от того, кто как одет и кто сколько имеет миллионов, карет и сапог, он все-таки не мог, имея отчасти фантастический, но отчасти и реалистический ум, с этим возмутительным принципом самодовольства и пошлости не считаться, не мог не заботиться и о своей внешности с особенным тщанием, не позволяя на Невском и в Гороховой на себя лишь оттого глядеть свысока, что на нем поношенный, вышедший из моды сюртук, однако хороший модный сюртук уже был в закладе, а прежний сюртук он не обновлял самое мало с год, и по этой и по многим другим, может быть для кого-то и странным, причинам от Невского и Гороховой ему приходилось держаться подальше.
На Фонтанке тоже бывало не совсем хорошо. На Фонтанке теснили дома, высокие, закоптелые, темные. И народу носилось там бездна, то пьяные деревенские мужики, то крикливые курносые бабы, то извозчики, отставные солдаты и всякая рвань. Весь этот сонм разнообразных фигур вызывал на раздумья, трудные, безответные, порой даже слишком больные. Он себя вопрошал беспрестанно: отчего одни синеют от беспробудного пьянства, другие с истерическим воплем бранятся за вздоры, третьи тупо, угрюмо молчат? То откровенно безобразная, то слегка застенчиво поприкрытая безобразная бедность разрывала дугу его состраданием, бессильным до слез, да и тоже постыдным паническим ужасом: и сам вот-вот окончательно свалишься в ту же безысходную нищету, пропадешь и сгинешь в тюрьме за долги.
Нет, на Фонтанке он часто бывать не любил.
Чтобы мысль созревала, крепла, росла глубоко и спокойно, он выбирал одичалые тихие переулки или бродил по дальним пустынным каналам. В этих местах, далеких от чванства и роскоши центра, не встречалось почти никого. Задумавшись глубоко, он бродил там почти что вслепую. Когда же усталая мысль неожиданно обрывалась, заворотивши в, казалось, непроходимый тупик, он вдруг останавливался как вкопанный, с недоумением озираясь вокруг, и не узнавал порой мест, куда занесли его трезвые ноги.
Во время таких непредвиденных остановок изучал он дома и прохожих. Устав, не в силах отшлифовать свои великие, чрезвычайно сложные замыслы и упрямо спорить с гигантами, которых мечтал догнать и перегнать, он превращал дома и случайных прохожих в тайных, но понятливых своих собеседников. Он говорил с ними, разумеется молча, с разгоравшимся любопытством: что-то ответят они? Не называя, натурально, себя, скрывая от них и горькие беды и геркулесовы замыслы, он говорил им о них же самих. Какими их представляла фантазия. Он вопрошал, куда спешат они среди дня или вечером, как ладят с мужьями и женами, с родными, с соседями по общей квартире, с любым человеком, с которым хоть на миг столкнула слепая судьба, чем озабочены, стремятся к чему и, главное, верят, верят во что? По походкам и лицам он учился отгадывать их тайные муки. Он с ними сливался на миг тревожной душой. Он к ним привыкал. Ему весело становилось, когда бывало весело им, он хандрил вместе с ними, когда попадались унылые или грустные лица. Они были унижены – он страстно, всем сердцем сочувствовал им, но вдруг обрывался вопросом, наблюдая приниженные фигуры, понуренные головы, убегающие глаза: да из чего они сами-то унижают себя? Ведь вот он тоже бедняк, да не гнет ни перед кем головы! Не сделал ещё ничего, чтобы заставить себя уважать, да решился чего бы то ни стоило сделать!
Это оказался проклятый вопрос, вопрос без ответов, то пропадающий, то вновь коловший своим ядовитым, зазубренным жалом. Своей безответностью вопрос этот страшно мешал и работать и жить. То место в мозгу, где он застрял, словно чесалось и натирало кровавый мозоль. Капля по капле, зерно по зерну, туманно, однако же явственней день ото дня он ощущал, что без ответа на этот кардинальный, коварный вопрос никогда не догонит, тем более не перегонит тревожно зовущих гигантов, которые, кажется, с этой именно стороны, вдруг представшей ему, к вопросу об униженных и оскорбленных не заходили, и не случится с ним ничего из того, о чем так пылко мечтал, ещё, чего доброго, сам решит про себя, что недостоин и низок их догонять, если не отыщет ответ.
Своего ума не хватает – необходимо вооружаться чужим. Он читал и перечитывал Гете; “Страдания юного Вертера”, эта чудная вещь, начинала казаться пусть и великой, однако недосказанной книгой, даже в чем-то немаловажном, к его расстройству, даже обиде, фальшивой. Он упорно мерил шагами свою узкую щель и подолгу бродил вдоль каналов. Нет, уж слишком возвышенно страдали в знаменитом романе!
Он наблюдал, он испытывал на себе страдания пообыденней и попроще, но от этих страданий соленые слезы стояли в глазах, а однажды голос пропал и он чуть не лишился ума. Он видел, как страдали униженные, втоптанные в самую грязь, обращенные в самую последнюю тряпку одним, но очень даже стоившим пощечины взглядом какого-нибудь в длиннейших бакенбардах высшего чина или наглого от природы большого богатства. Он в недоумении обнаруживал, что многие сами до истязания терзали себя, унижались, доброй волей обращались в самую последнюю тряпку, единственно оттого, что не представляли на свете никакого иного достоинства, кроме достоинства высшего чина и большого богатства, и всё это единственное, исключительное достоинство, по понятиям таких же униженных, заключалось, главнейшее, в том, что богатству и чину дозволялось втаптывать в грязь без исключения всех остальных, бедных достатком и чином.
Он читал и перечитывал Гоголя. Гоголь был ему, естественно, ближе, понятней, чем Гете. Казалось, именно Гоголя поразила в самую душу та же идея, та же неотступная мрачная мысль, но и у бесстрашного Гоголя как будто выходило что-то не так и не то, что он чувствовал остро, однако, несмотря на усилия и ходьбу по каналам, никак ясно выразить словом не мог. Фантастично, невозможно, неправдоподобно сказать: лица, созданные творческим гением Николая Васильича, не страдали! У него всё ужасно, до бесконечности счастливые люди: Манилов, Чичиков, городничий! Вторя друг другу, чуть ли не хором, почитают одни эполеты и деньги, для каждого в отдельности и для всех вместе это высшая норма, фундаментальная мера всего и вся в нашей нынешней и во всей будущей жизни в России, в Европе, на Соломоновых островах, высшая справедливость её, квартальному на мундир, городничему на шубу жене, полицмейстеру деревенька, а уж ежели сумел извернуться, мертвых в казну заложил и ни с чего прикарманил барыш, так Аустерлиц, Бонапарт, высшая награда за ловкость и ум. Все у Гоголя жаждут подняться повыше, однако же мановением какого-то чуда вполне довольны и своим нынешним непрезентабельным весом и местом. Городничий гнет спину перед столичным чиновником, да не гнется, каналья, дугой, достоинства не теряет, не унижается искренне, раболепствует только для обмана, для вида, потому как от века кем-то предписано и в обычай вошло самым свинским образом перед начальником лебезить.
Отчего это всё? Может быть, оттого, что по недоразумению или нарочно, ведь ужасно, ужасно загадочный человек, Николай Васильич разъединил эту мертвую душу живу, с одной стороны, от того, что всеми признано за идеал, за высшую справедливость и за что там ещё, с другой стороны? Каждому по чину, выслужил – получи? Хорошо, вот я городничий, вот и уважение тебе от меня в этих строжайше очерченных рамках, не меньше, а пожалуй и больше, потому что в душе-то, в мертвой душе, но живой, знаю прекрасно, что поумнее, пооборотистее многих иных миллионщиков и генералов, да хоть и фельдмаршалов.
И Павел Иваныч с Маниловым так и парят в облаках, с Собакевичем торгуется как барышник и последний прохвост, а с Плюшкиным истинный скряга, однако в душе-то всех этих свойств ничуть не бывало, душа сама по себе, точно отдельно, в ином мире живет, и Павел Иваныч из той неизвестно где живущей души поглядывает на всех свысока да только этак тихонько смеется, что, мол, олухи вы, вот ведь как я вас всех кругом пальца обвел.
На что уж Башмачкин, ведь ниже человеческое достоинство и падать не может, некуда падать, затерли человека, окончательно, бесповоротно затерли, обратили в ничто, в одно перо и чернила, а тоже сидит себе и строчит исходящие, один только разок и вымолвил словечко с укором, а так ничего, наслаждается тем, как буковки славно выходят, и, кажется, даже в мыслях своих толкует с ними по-свойски, как толковал бы за чашкой чаю с лучшим, с истинным другом. По-настоящему, уже абсолютно, до крайней нитки забит и затерт человек под тяжким бременем бесчиновья и безобразнейшей бедности, до протертой шинели и рваных сапог, а приглядишься, раздумаешься, нет: своя и в высшем смысле счастливая жизнь, хотя бы только и с буковками.
И всё отчего? Может быть, оттого, что у Николая Васильича богатство и чин принимают за норму и высшую справедливость не сердцем, а только вечно скользким, хитрым умом: мол, эта подлая вера в чин и богатство принята всеми, что делать, приходится жить, как другие живут, а вообще-то я сам по себе, живу и живу, не трогаю никого, да и мне что ни есть от других как с гуся вода?
Нет, персонажей этого рода он нигде не встречал. То ли именно ему лично всплошь и рядом попадались иные, то ли весь мир состоял из этих иных, только кругом, куда глаз его доставал из узкой-то щели, прежде он сам, стенали от внутренней раздирающей боли, как от зубов, так что на лоб лезли глаза. Этим безвинным страдальцам паскудная вера только в чин и в богатство намертво въелась в самую душу. Эти словно бы и не мыслили себе иной веры, иной справедливости, жизни иной. У этих чин и богатство как истинная вера, как высшая справедливость, как единственный идеал, без фигуральности выражаясь прямо кипели в крови.
Что там у Николая Васильича начальник купчишек за дикие бороды потаскал да на раздолье бесправия высек ненароком вдову! Экие вздоры, экие пустяки! Этих, каким был он сам, каких изредка встречал на каналах, если уж унижали, так оплевывали в живом человеке самую душу в полном сознании, что именно полное право имеют на оплеванье души, достоинство человека презирающим взглядом одним отнимали да так и оставляли беднягу ни с чем. Эти-то, с верой в богатство и в чин, если уж унижались, так унижались всем своим трясущимся существом, опять-таки в полном сознании, что и души-то у них не завелось никакой, и достоинства ни на грош, и уважать их, таким образом, истинно не за что: вот бери меня на полную волю, коль миллионщик иль генерал, фельдмаршал пуще того, да ноги об меня вытирай, потому как ты на всякую подлость полное право имеешь, а чуть кто поплоше как-нибудь не так на него поглядел, так такая вылезет свинская наружу амбиция, что постороннему человеку невозможно без негодования и брезгливости наблюдать, и тотчас явится страстишка в отместку напакостить, насолить, тоже точно бы ноги как вытереть, а ведь сознает при этом, подлец, что пакостить нехорошо, высшая правда в душе все-таки об этом шепчет ему, но всё же напакостить, насолит непременно, несмотря на тихий ропот души, однако, лишь бы самому с собой примириться, напакостит, насолит самым что ни на есть благороднейшим образом и за эту неслыханную способность напакостить, насолить ближнему самым что ни на есть благороднейшим образом ещё станет себя уважать как героя.
В каком месте у этих-то человек? А у этих-то ни в каком месте нет человека! Впрочем, опять же неверно, ошибка ума, человек-то, ежели поприглядеться попристальней, всё же, как ни верти, а каких-то извилинках да закоулках имеется, всего- то человека до конца никогда никаким презрением не убьешь, Божья правда, минутами, нельзя не признать, протеплится, возьмет свое земной-то закон, человек вдруг ощутит и осмыслит себя вполне человеком, которого и без миллиона и без генеральского чина есть же за что уважать, достоинство вдруг пробудится, нравственный закон вдруг заявит себя, да ведь именно на одну только минутку: нынче нравственному-то закону не за что зацепиться в душе, коль душа нынче верит единственно в рубль, фунт или франк, и вот уж опять пошли раздирать оскорбленную душу когтями или в отместку за себе же причиненную боль обращать свое презрение или ненависть на других, таких же, в сущности, неприкаянных, несчастных страдальцев.
Ужас и жуть!
Именно ужас и жуть, потому, что светлый путь был указан давно, века и века, а человек скитался во тьме, и чем ближе к нашему подлому времени тем глубже, тем безвозвратней погружался во тьму. Ему твердят: в прощении, в братской любви идеал. О нет, твердит он с убеждением, даже со страстью: идеал – богатство и чин. Порой жизнь и смерть может решить один рубль, а рубля-то как раз негде то чтобы взять, не у кого даже занять, вот и всё оно тут: любите друг друга!
Вот в чем прозрел он в те годы мрачную безысходность и кромешную подлость наличного бытия, обращенного на миллион и чин генерала. И вот что, главное, особенно поразило его: на ту кромешную подлость наличного бытия едва-едва кто обратил, и в прошедшем и в настоящем, разве Бальзак да Гоголь у нас. А тут целый мир невыразимых страданий и мук, тут язва, беда, и об этой язве, об этой беде, только об ней и мечталось ему написать. Он бы рассказал всему миру другую историю. Вертеры, Фаусты, Гамлеты, дон Кихоты – всё это головокружительные вершины благородного духа, положительно прекрасные типы, которым всё нипочем, никакая грязь ни малейшим комочком никогда не коснется их светлых душ. Разумеется, он об этом не спорил, таким ясным и светлым, по его убеждению, когда-нибудь должен стать человек. Ну а обычный-то не в мечте, а вот нынешним сереньким днем, в России, в пятницу утром, да и повсюду кругом, если судить по газетам, обращенный в самую последнюю рваную тряпку, втоптанный в грязь, всего-навсего с малой, с каждым днем затухающей искрой правды о братской любви, какой-нибудь плюгавенький старенький бедный мелкий чиновник, жалкий обыватель на ста рублях в год и без чина, неуспешный, бесталанный студент? Скажем, поближе к Бальзаку и, уж конечно, ещё ближе к Александру Сергеичу да к Николаю Васильичу, положим, как в повестях, так простодушно пересказанных Белкиным. То всё ничтожные будто, будто мелкие драмы, вовсе не от неразделенной великой любви или сжигающей жажды познания, а так, от какой-нибудь дряни, вот от рубля, чтобы, поймите не то что самую честь и совесть спасти, а просто-напросто от голода не помереть под забором, которого негде достать, хоть зарежь, или от какой-нибудь оборванной пуговицы, от протертых некстати штанов, на которые смотрят с презрением.
Может быть, в этих-то именно микроскопических драмах и поболее станется глубины и величия духа, силы прощения, силы братской любви? Может быть, в этих-то, именно мелких обыденных катаклизмах, и весь нынешний человек во всей неприглядной его наготе, да с ним вместе и всё человечество, объявившее, в затмении разума, в забвении истины, что дан иной, светлый, обновляющий путь, высшей-то верой рубль или там франк, а высшей справедливостью богатство и чин, по собственной воле ничего больше не оставившее себе для души?
Однако ж и тут мешался прежний проклятый вопрос: ну, что там, приняли за истинную веру, за высшую справедливость и истинный идеал, положим хоть, что и правы кругом, что иная вера, иная справедливость, иной идеал на этой грешной земле невозможны, а все-таки странно, неизъяснимо, за что же себя-то терзать, из какой такой надобности по доброй воле и на самом деле принимать себя за тряпку, ежели богатством да чином Господь обошел? Как можно головой колотиться об стенку из-за какой-то оборванной пуговицы или рубля, которого негде достать?
Ему поневоле припоминалось его воспитание. Об отце, после гибели матушки, он не любил вспоминать. Отец был строг, суров, нетерпим, раздражителен, прощать ничего не умел, и уж ежели брался собственноручно давать уроки латыни, так и сесть перед ним не просмей, стоя стойком уважение ему покажи, к тому же мрачная его подозрительность в последние годы развилась до того, что жить с ним становилось почти невозможно, а все-таки, если неукоснительно честно судить, это был удивительный, даже замечательный человек, с характером возвышенным и благородным, с правилами чуть не ангельскими, по уверению матушки, которая боготворила его, с идей непременного и высшего стремления выйти в лучшие люди, не по одному богатству и чину, но также в буквальном и священном смысле этого слова, за всё, за всё надобно быть благодарным ему.
Оборванная пуговица? Протертые брюки? Несчастная сотня рублей? Помилуйте, что вы! Невероятно предположить, отец своим неустанным трудом кормил всю семью из пятнадцати человек да в придачу четырех лошадей, и сытно, щедро кормил, не выдавая прислуге вместо сахару мед, как делывали во многих московских барских домах, и сюртук на нем всегда был моден и свеж, и выезжал всегда в собственном новехоньком экипаже, а когда пожаром спалило деревню, поклялся своим мужикам последнюю рубаху продать, но деревню отстроить, и хоть рубаху, конечно, не продал, слово чести перед мужиками сдержал и выдал каждому погорельцу безвозвратно по пятидесяти рублей, и к осени деревня буквально, на эти деньги, восстала из пепла, и, что всего замечательней, всё это собственным, неукоснительно честным трудом, без покровительства и воровства, честнейшим даже по самой строго проверке: в больнице для бедных, в которой отец прослужил двадцать пять лет, не приходилось нарочно, по случаю частых ревизий, менять колпаки, колпаки на бедных больных во всякое время бывали безукоризненно белы.
В семье же был неприметный, неназойливый, но мудрый наставник. Опять-таки странно: детей не поучал никогда, словно уверенный в том, что детям довольно видеть его самого в неустанных и безукоризненно честных трудах, чтобы без поучений и жестких моральных сентенций выросли порядочными и трудовыми людьми. Но сколько делалось исподволь, неприметно для них!
Положим, отправлялись всей семьей на прогулку – этот истинный, неизменный почитатель Руссо непременно рассказывал что-нибудь дельное, о породах деревьев, о перистых облаках или о свойствах тупых и острых углов, которые образовала веселая тропинка в лесу, пересекаясь у той вон одинокой березы с тенистой проезжей дорогой. Наступали долгие зимние вечера – отец с матушкой усаживались за стол, разворачивали “Историю” Карамзина и неторопливо, спокойно, с самым искренним увлечением вслух читали друг другу, останавливаясь по временам и пускаясь в долгие и подробные толкования не совсем ясных мест, а возле них сидели, рисовали, тихо-претихо резвились старшие и младшие дети, имеешь желание слушать, так слушай, а можешь заниматься чем-то своим, запретов и приказаний не было никаких, и вот чудеса: он только подрос, при таком-то вот воспитании – и для него Карамзин сделался книгой настольной, за которую он брался даже иногда и как за лекарство, от плохого, например, настроения, от душевной тоски, и выучил его “Историю” почти наизусть. Или вот: отец был сердечный почитатель Жуковского, а кумиром старших детей очень скоро сделался Пушкин, почти никем ещё по справедливости не оцененный тогда. Что же отец? Как всегда раздражительно, высказал строгий свой приговор, но предоставил неслухам полное право декламировать Пушкина вслух.
О достоинстве нечего говорить: достоинства отец никогда не терял и детского достоинства не унизил ничем.
Одно только слишком уж часто любил повторять:
– Человек я бедный, многого оставить вам не смогу, да и много вас у меня. Учитесь, будьте готовы: всё добывать вам придется самим.
Так оно и случилось, и, что таить, пришлось-таки без отцовской-то помощи туго, однако сыну не приходило в голову сомневаться, что всё, что необходимо, непременно добудет, добудет собственным честным трудом и достоинства своего никогда не уронит, уж ему того голос отца не велит.
И по этой причине понимал он отлично смертные муки смятенной души из-за оборванной пуговки, заношенных неприлично сапог и все-таки одного был не в силах понять: Погляди попристальней на себя, устыдись да пришей, заработай на сапоги, коли уж самая горькая крайность пришла, в солдаты пойди, ведь надо хотеть, надо желать, надо стремиться выход найти, надо выкарабкаться из любого, и самого унизительного, своего положения, и выход непременно найдется, благородный и честный, если в душе человеческой не забыт, не нарушен закон.
Так что же это они?
Глава шестая
“Бедные люди”
Тут открывалась целая бездна идей. Идеи, редкие, крупные, торопили, просились наружу. Он понимал, что с такими идеями нестыдно явиться и на всемирное поприще, что с такими идеями можно и нужно между признанных гениев место добыть, именно неустанным, именно честным трудом. А он не страшился никакого труда. Он то и дело хватал в руку перо, он заносил то на клочки, то в тетрадь заметки, наброски, но было непостижимо, отчего дальше заметок, набросков дело не шло. Не писанье, не творчество – мученье одно. Вот тебе и великие гении!
И другая напасть: Белинский, как нарочно ему на беду, разъяснял русской публике величайшее значение Пушкина, разъяснял с восторгом благоговения и был в этом прав: без восторга благоговения относиться к Пушкину грех. “Онегин” в понимании Белинского явился энциклопедией русской жизни, ни много ни мало, а ведь это правда, это великая правда была. Определение чуть не убило его. Он мечтал создать величайший шедевр и вдруг обнаружил, что русская жизнь ему не далась, не знакома совсем, нигде и ни в чем. И как, скажите на милость, он мог узнать, проникнуть до нитки, а хотя бы слегка познакомиться с ней? Ребенком он был заперт в семье. Отроком его заперли в пансионе Чермака. Юность он провел в закрытом, да ещё военном училище. О департаменте что говорить? В департаменте ни русской, никакой иной жизни ввек не узнаешь, хоть состарься и умри за чертежами или перепиской бумаг, жизнью в департаменте даже не пахнет. После департамента он затворился в углу. А вы скажите по совести, много ли можно узнать о жизни в углу? Руки его опустились. Он бросил перо и застыл.
Вывел его из этого нелепого состояния один совершенно фантастический случай. Он возвращался с Выборгской стороны. Был январь. Трещали морозы, славные, синие. Поляна Невы была завалена снегом. День угасал. Столбы дыма стояли над всеми кровлями домишек, домов и дворцов, сплетаясь и расплетаясь и вдруг разваливались в верхе, и на миг показалось ему, что новые здания вставали над новыми, что новый город строился там, в вышине, и весь этот мир походил на волшебную грезу, на сон, который тут же, у него на глазах, исчезнет, искурится паром к темно-синему небу. В нем вдруг зашевелилась какая-то странная мысль. Он вздрогнул. Кровь горячим потоком ударила в сердце. В ту минуту он как будто понял что-то такое, что в нем только шевелилось до того дня, но ещё не было осмысленно им, как будто прозрел во что-то новое он, в совершенно новый для него мир, незнакомый, известный по каким-то темным догадкам, разрозненным слухам, по каким-то таинственным знакам, которые предстояло ему разгадать, точно его существование только ещё начиналось. Одна простая история замерещилась вдруг. Где-то, в каких-то смрадных темных углах, какое-то бедное титулярное сердце, чистое, честное, до самозабвения, до способности пренебречь и малейшими житейскими благами для кого-то другого, это уж всенепременно, было необходимо ему, и тут же слабое страшно, слабое в самой своей доброте, обязательно униженное за доброту-то, за чистоту, за способность-то эту прекрасную пренебречь и малейшими житейскими благами для кого-то другого, и тут же обязательно добровольно униженное, до того, что уж виделись кругом всё враги да враги, а подле какая-то смирная девочка, оскорбленная, беззащитная, грустная, без умения делать добро, как сама же она признаться должна, безвинная мученица, оттого и мучительница, которая даже доверенностью своей, даже изъявлением своей слабой любви вечно ранит и мучит того, кто руку помощи дал, кто самоотверженно любит её какой-то особой, едва ли не той христианской братской любовью, о которой когда-то возмечтало всё человечество, поверив в Христа, и вот напрягает все силенки свои это бедное титулярное сердце, лишь бы этой девочке не пропасть, совсем не пропасть. Может быть даже вот так: она должна быть блудница, блудница, конечно, особого рода, поневоле блудница, батюшка разорился да с горя и умер, матушка, тоже с горя, с безденежья, с безысходной тоски, отправилась следом за ним, девочка лет тринадцати или четырнадцати осталась нахлебницей не то дальней родственницы, не то квартирной хозяйки, сводни по преимуществу, которая, лишь бы избавиться от лишнего рта, продала ещё не расцветший цветок богатому сладострастнику, а тот насладился невинностью сколько хотел, да и выкинул вон, на погибель, на голод и смерть.
В минуту ту роковую, последнюю и попалась она на глаза титулярному сердцу, лет за сорок, а вполне вероятно, что скоро и пятьдесят, существо не только наивное, но и невинное, невинное до того, что в наше-то время и поверить нельзя, по робости характера женщину знавшее только на почтительном расстоянии, издалека. Звать его, конечно, Макаром, по фамилии Девушкин, это уж всенепременно, это-то он сразу узнал.
А дальше-то что? Беда была в том, что дальше-то он и не знал ничего. Положим, мелких чиновников он встречал в департаменте, однако видел только со стороны, он в департаменте был офицер, якшаться с титулярными было бы для него неприлично. Что же касается до блудниц, сводней и сладострастников, так и возможности не представилось ни одной, чтобы их наблюдать. Сюжет соблазнительный, в высшей степени занимательный, новый, не тронутый никем из европейских даже или наших лучших поэтов, а вот извольте сказать, с какой стороны подступиться к нему, как оживить эти лица, как связать, какой вывести смысл.
Он приуныл, да вдруг все эти лица сами собой расставились по местам. Когда-то давно, в какой-то пошлой статейке, которая писалась за деньги, он поименовал себя фантазером, мечтателем, поименовал точно в шутку да как-то невольно самую истину изрек о себе. Бедное сердце и безвинная мученица стали вдруг оживать.
Поначалу, конечно, заварилась непостижимая путаница. Ему представлялось, что это стареющий Вертер, седой, в изношенном вицмундире чиновника, беспомощный, робкий, замысливший от нового падения, неизбежного в её положении, блудницу спасти, это при жаловании за месяц трудов в семнадцать рублей, тоже мечтатель и фантазер, и наша русская Лотта, которая в ужасе бедности лучше сама себя недостойно продаст, чем согласится на скромное счастье с чувствительно любящим, как сама же скажет, любимым, а стало быть, и не Лотта, и, уж конечно, не Вертер. И не бессловесный Акакий Башмачкин, на этом он с первого слова твердо стоял.
Напротив, напротив совсем, душа-то живая, не странной влюбленностью в старательно выводимые буковки из сухих казенных бумаг, нет, живая непрестанной жаждой спасти, поделиться последним куском, живая и непрестанной мукой своей от бессилия помочь и спасти на эти жалкие семнадцать рублей, то есть именно мукой, которая всех кругом превращает в заклятых врагов, оттого и живая, что не могла ни минуты молчать.