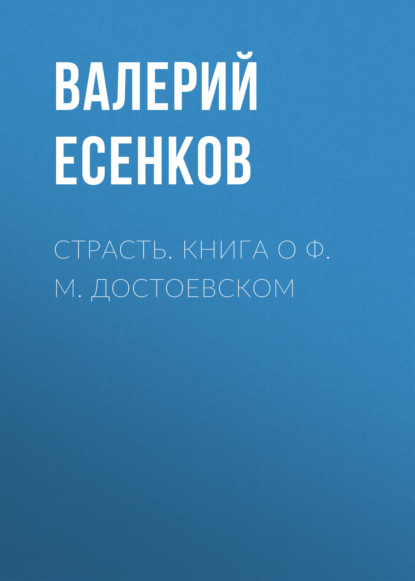По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Страсть. Книга о Ф. М. Достоевском
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да разве смолчишь, когда адская мука ежеминутно, ежесекундно нестерпимым огнем сжигает тебя? Тут вопли страдания сами рвутся наружу, ужасные крики, лишь бы, вот на эту-то секунду этого крика, облегчить свою горькую, ни с чем не сравнимую боль.
Но как закричишь? Кругом-то, как уж поверилось, и поверилось твердо, только самые злые враги, для которых он в своей жажде спасти не больше, как глупый дурак, дурак без сапог, да и робость, проклятая робость, самоунижение неизбежное и проклятое следствие, робость-то открыто кричать не дает, подозрительно опасаясь: вот закричишь, выдашь враждебному миру муку свою, а над мукой твоей надругаются пуще, ведь враги-то того только и ждут, злорадно вооружась на тебя, камни-то, камни всегда под рукой.
И в этой неудовлетворенной потребности, и в этом унизительном опасении крикнуть, излиться, поискать сострадания тоже ведь неизбывная мука своя. Поневоле станешь, как Вертер, письма писать в самой строгой, в суетливо охраняемой тайне от всех, лишь бы только жгучую-то муку избыть, а некому станет, так непременно, тайком от себя, сам напишешь себе и с самым серьезным видом ответишь, тоже себе.
Стало быть, письма?
Да, он думал, думал и твердо решил.
Наконец!
Он все-таки отыскал, он осмыслил, он высветил для себя самого, каким способом и во что воплотить кардинальную идею свою!
Оставалось выставить её со всевозможным усердием, чтобы с её-то именно помощью и восстановить человека в его истинной сущности, обозначенной за две тысячи лет до него, и он с жаром схватился за свой первый, мучительно близкий, такой желанный роман.
С этого дня он был убежден, убежден непоколебимо и гордо, со страхом и трепетом, с радостной злостью, что напишет великолепную, напишет неповторимую, небывалую вещь. Ещё ничем не подтвердив своего убеждения, не вылепив ещё ни одного оригинального образа, не выточив ещё ни одной своей собственной, оригинальной, законченной фразы, он бесповоротно, исступленно верил в себя, наперекор здравому смыслу, наперекор любым внешним преградам, которые прозревались же им на этом подвижническом, головоломном пути, да вопреки хоть всему.
Временами он и сам находил свою твердую веру безумной, ведь это всё самолюбие, самомнение, эта его великолепная, неповторимая, небывалая вещь! Боже праведный! Может ли ещё что-нибудь в мире духовном считаться безнравственней, чем самолюбие, самомнение, о гордыне уж и нечего говорить? Разве не признанные всё это от века пороки, грехи? Разве не осуждены они той самой правдой земной, которой он призвал сам себя верой и правдой служить?
Но какое-то уже зарожденное, впрочем, ещё не окрепшее чувство всё шептало, шептало ему, что это истинно так, что самолюбие, самомнение, гордость, желание славы, точно, пороки и грех, что высший закон справедливо их осуждает, однако ж не в творчестве, тут сил не находилось у него уступить, только не там, где человек всего себя отдает на служение ближним, сжигает нервы свои, иссушает свой мозг.
Какие силы, какие богатырские силы потребны на творчество, кто подсчитал? И, это ведь главное, главнее всего: откуда их взять, эти богатырские силы, когда ты всего-навсего человек, человек на хлебе и молоке? Как тут без самолюбия, без самомнения, как тут без гордости, как без головокружительной веры в себя вынести этакий труд на себе?
Нет, именно в творчестве преображается всё. И самолюбие не слепой любовью к себе, ты на самом-то деле безжалостно, безрассчетно тратишь и тратишь себя, а любовью к тому, что свершаешь в поте лица, и гордость обращается не в гордыню, а в чистый восторг перед высшей целью твоей, к которой идешь, стирая ноги в худых сапогах до кровавых мозолей, истощая нервы до бессонницы, до жгучей, чуть не смертной тоски.
Ведь не малой, суетной славы желал он, замуровавшись в одинокую келью, не приветственных кликов разгоряченной толпы, как паяц, напяливший рожу на потеху праздных гуляк, нет, в ту одинокую келью завело его одно помышленье о том, что в ответ на подвиг творенья вырвется у кого-то из праха души чистая, честная, возвышенно-прекрасная мысль, что твое вдохновение как небесное таинство осветит, насытит страницы твои, над которыми сам ты лил то горькие, то сладкие слезы и в ответ над которыми станет лить слезы потомство – в самые самозабвенные мгновения творчества эти гордые, горделивые помышления невольно закрадывались в переполненную восторгом и сомнением грешную душу его.
А если не случается таких помышлений, если не веришь с жаром, что напишешь самую славную, ни с чем не сравнимую, небывалую вещь, так и за стол не садись, не бери в руку перо, из-под него выльется лишь одна расхожая дрянь.
И он всё жарче, всё жарче верил в себя, с каждой удачной страницей, и вера его пылала неиссякаемо, неистребимо и ярко, подобно костру, который темной ночью кто-то мечтательный, добрый разложил на лугу, временами ослепляя его, и, пусть безумная, она укрепляла усталую душу, обновляла энергию нервов и мозга, окрыляла тоскующую, в прозу жизни павшую душу, которая без веры в себя, особливо без высшей веры хотя бы в Большую Медведицу ни на что не годна, разве что только на жалобный стон.
Тогда-то и полюбил он, с первого раза и навсегда, это счастливое, это могучее, это всё одолевающее на пути своем неукротимое движение творящего духа, полюбил так, что уже не умел и не желал длить бытие без него.
Неслыханным наслаждением было обдумывать повесть при свете дня, при свече, при луне, мечтая о том, как славно и скоро напишет её, возбужденно следя, как за одним поворотом сюжета, который придумал не кто-нибудь посторонний, а он сам, открывался другой, а там ещё и ещё, один значительнее, занимательнее другого. Подобного наслаждения он нигде, ни в чем, никогда не испытывал. Что в сравнении с ним все прочие наслаждения мира? Конечно, ничто!
Впрочем, безоблачным наслаждением было только обдумывать и мечтать, как скоро и славно напишется целый роман. С каждым новым шагом вперед с наслаждением мешало, добавляя в него горечь и страх, неуверенность, подлая щелочь сомнения, а там следом кралась такая гнетущая мука, о какой прежде он никогда не слыхал.
Едва прояснилась главная мысль, повинуясь которой должна была жить, из самой себя развиваясь вперед, в противовес ей вскоре являлась другая, возникая из первой и главной, и почему-то у него на глазах превращалась в прямую противоположность её, и представлялось неоспоримым, что эти две столь различные мысли совместить невозможно, а стало быть, невозможно поверить и в то, что именно в этой противоположности мыслей ему явилась истина жизни.
Получалось как-то именно так, что его бедный герой был и дорог до слез, и до злости жалок ему. Да, он любил несчастного Вертера петербургских углов, провонявших нищетой и кислыми щами, вместе с ним он готов был оплакивать его ничтожную, его безотрадную долю и скорбеть над беспомощным и забитым, но живым, страдающим существом, внезапно посягнувшим на самоотвержение, на добро из последних копеек грошового жалованья, и он же презирал эту слабую, жалкую душу за то, что не могла, не мечтала разом однажды освободясь от наваждения ложно понятой справедливости и ложного идеала чинов и рублей, одним сильным, смелым рывком или погибнуть, пусть безвестно и тихо, в своем законченном одиночестве самоотвержения и добра из последних копеек, или вырваться вон из угла, к жизни независимой, к жизни достойной.
Не имея ни случая, ни желания поближе познакомиться с жизнью титулярных советников, он долго мучился над вопросом, как бедный Макар мог бы вырваться из угла и, собственно, в его положении это было достоинством, пока не решил, что для бедного Макара достоинство было бы единственно в том, чтобы спасти блудницу от новых падений и себя самого прокормить, одеть и обуть, а ведь больше-то, в сущности, и ничего не нужно ему, больше-то для чего? Он и руками всплеснул:
Да ведь, помилуйте, если размыслить, не надобно никаких и рывков. Не на подвиг он звал, его стремления были по силам каждому человеку, да и подвиги в тех мелких, в тех мельчайших делах всё едино ничего разрешить не могли. Он почти умолял: о своем истинном достоинстве вспомни, своим истинным достоинством укрепись, не унижайся и не завидуй, тотчас узришь, что окружают тебя не лихие враги, не злодеи, поднявшие на тебя разбойничий нож клеветы и обиды, а несчастные, неловкие, неумелые люди, почти такие, как ты, позабывшие о достоинстве человека, и ты сперва сам себе помоги воротить человеческий образ, не из самолюбия, но из самой естественной потребности быть человеком. Сознай, приведи в действие свои лучшие силы в жизни действительной, ибо счастье не в том, чтобы сидеть сложа руки, а в том, чтобы своим собственным, неутомимым, вечным трудом развить и на практике применить все наклонности, все способности, данные Богом, и ты, лишь только уверишься в спасенье труда, не подвигом, ростом в македонских и цезарей, а, может быть, самым, но именно своим беспощадным, упорным, собственным делом, вытащишь себя из угла, пуговки на мундире пришьешь, как сумеешь, хоть бы и белыми нитками, переписку возьмешь по сорок копеек за лист, а уж после пуговки-то, после переписки по сорок копеек за лист, этой малой помощью самому же себе, укрепив свой зашатавшийся дух, поможешь другим, сколько можешь помочь, из бездны вытащишь, новым рублем от смерти спасешь, тогда, может быть, перестанешь видеть в ближнем злодея, врага. Братья мы все. В сознании нашего общего братства наше свыше начертанное, может быть, и возможное счастье. Исполнить бы наш единственный долг – жить бы в братской любви.
Это и была его кардинальная мысль, то есть выходило, что две. Да и те, что помельче, тоже бойко теснили друг друга в непримиримом противоборстве между собой, каждая силясь одна утвердить свою однобокую истинность, исключительное право существовать одна-одинёшенька, без беспокойной подруги своей, однако ему-то обе они были одинаково дороги, понятны и близки, и порой он прямо-таки изнывал в колебании, не решался, не знал, которой из них отдать предпочтение, тогда как они, стремительно ширясь в этой заклятой братской вражде, крепли, росли, увлекали его за собой, и от каждой из них вновь рождалась, тоже рождалась другая, отчего борьба противоположных начал становилась всё напряженней, всё злей.
И что же? Раскалившись до крайней вражды, противоборство противоположных начал рождало внезапные образы, которые вдруг фантастично и красочно обогащали сюжет. В его, казалось, несложном сюжете проступали вдруг странные, многозначительные, многозначные тонкости, каких он прежде предвидеть не мог. Им овладевало счастливое ликование. Уже будто сами собой таяли все пределы восторгам надежд. Кто бы поверил, но он как с родными сживался рожденными фантазией лицами, которые сам же только что выдумал, которые, словно кудесник, взял ниоткуда. Да что там, они становились дороже и ближе родных, и он, представлялось порой, любил эти лица бесконечной любовью, какой в действительной жизни никого не любил, и расстаться, вот в чем истинная открывалась загадка, уже и на миг расстаться с ними было нельзя. Всё мешалось, он забывался, они ликовали и печалились вместе, он плакал, он вместе с ними страдал, слабостей, то есть нравственных слабостей, им не прощал, сам становился всё сильней и сильней, он даже ныне чувствовал это, а они становились живей и живей.
Но как трудно, как непосильно трудно было писать! Он ещё не знал, как писать, он ещё не умел ничего. Ах, это скользкое, это непослушное, это зыбкое обыкновенное слово! Что он, в сущности, совершал пером на листе? Бурю мыслей, образов, чувств он пытался выразить с помощью черненьких, мелкеньких, условных значков, и значки не повиновались ему, они были слишком мелкими, слишком условными, все, да именно все, как одно, и он в какой-то чуть не безумной горячке исписывал большие листы тонким бисерным почерком и тут же отбрасывал их, недовольный, измученный ими, раздраженный неожиданным и упорным сопротивлением обыкновенного, всем известного, доступного каждому дураку разговорного слова. Казалось минутами, покорить его, поставить на нужное место недостанет никаких человеческих сил.
Тогда, отчаявшись, истомившись в непосильной борьбе, теряя эту светлую, свежую веру в себя, которая, это он знал, способна творить чудеса, он с жадностью и надеждой хватался за книги и выпытывал секреты великих. Он читал давно перечитанные и самые последние, самые новые новости, отыскивал малейшую черточку внезапных словесных открытий. Он учился строить сюжет у неглубокого, но искусного, бойкого Фредерика Сулье. Он не страшился брать уроки у любого и каждого, кто в ту минуту попался ему, но что всё это, в сущности, было? Всего-навсего техника. Ремесло, не больше того, Тогда как ему был необходим позарез мощный прилив духовных, творческих, созидающих сил, и он с нетерпением раздражительным, нервным искал примеры замечательной, необычайной, прямо-таки богатырской работоспособности. Примеры исполинов пера всегда изумляли и вдохновляли его.
Боже мой! То были поистине беспримерные подвиги, и он с восхищеньем, с восторгом напоминал себе в лихие минуты уныния, что Шатобриан переправлял ”Аталу” раз семнадцать, не меньше, что Пушкин даже в самых мелких пиесах по стольку же раз переправлял каждый свой стих, что Гоголь по два года лощил свои дивные повести, а Стерн на свое “Сентиментальное путешествие”, которое какой-нибудь пишущий Плюшкин уместил бы без особых усилий на полусотне ординарных листов, извел, как вы думаете, сколько писчей бумаги? Сто дестей!
Воспрянув духом над этим незабываемым зрелищем неукротимых трудов, упрямо, самонадеянно равняясь на них, смиряя новыми и новыми поправками свое нетерпение, недуг и достоинство юности, уверяясь на опыте, что в бесконечных мытарствах писателя если что истинно плодотворно, так это именно неистребимое, вечное недовольство собой, он пестрил и пестрил листы рукописи бесчисленными помарками, отдельные письма Макара и Вари переписывал заново по нескольку раз, иной раз со слезами.
В конце сентября, светлым чистым солнечным днем, ему вдруг показалось, что он закончил “Бедных людей”. Он долго бродил по каналам, наслаждаясь последним нынешним солнцем, последним теплом, и домой воротился усталым, счастливым и тихим. Ранним утром, собрав по порядку изрядно измаранные листы, он приступил к переписке чуть не так, как дальние путники, достигнув места паломничества, приступают к молитве. Вновь роман, весь, целиком, проходил сквозь него, наконец связный, в единстве в муках рожденного замысла, и он всякий раз, когда прерывал переписку, работой своей оставался доволен.
Теперь, в часы отдыха, его особенно занимал насущный вопрос, каким образом выгодно, с большим барышом отдать его в жадные лапы издателей. Первая мысль, разумеется, была о толстых журналах. Если бы судьба над ним смилостивилась и дала право выбора, он бы выбрал “Отечественные записки”, самый порядочный и богатый тогдашний журнал, но как, через кого прикажете туда обратиться? Взять да явиться, принести самому: так, мол, и так, написал, только для вас! Как встретят? Что скажут? Как поглядят? Возьмут ли у первого взошедшего с улицы? Не призовут ли швейцара, не прикажут ли гнать в шею и больше никогда не пускать, чего он не вынесет, хоть в канал головой? А если возьмут, из приличия вежливости, прочитают ли, тоже из вопросов вопрос. Лучше бы всего свой первый роман издать самому, как Пушкин и Гоголь: при удаче, весьма вероятной, он один, ни с кем не делясь ни копейкой, получил бы если не крупный, то, верно, сносный барыш, а издержки не велики, рублей сто, да деньги, дело известное, все разошлись, как на грех, откуда взять сто рублей?
Он выспрашивал бойкого Григоровича, знавшего всё обо всём. Григорович, не запнувшись ни на секунду, посоветовал обратиться к Некрасову. Он отнекивался: как можно обращаться к абсолютно незнакомому человеку!
Григорович торопливо настаивал, уже выбегая из-за стола:
– Вы не глядите, что его первые стихи его осрамили, у него редкий практический ум, уж вы поверьте чутью. Он обходит все затруднения по части цензуры и капитала, а это, сами знаете, в мудреном деле издания первая вещь. Французы, первые по этой части пройдохи, ввели в моду, как они обозвали, “физиологии” – Некрасов тотчас издает “Физиологию Петербурга”, и книга имеет громкий успех. Нынче вводится мода на альманахи – Некрасов и тут впереди. Скончался Крылов, светлая память, – он ранним утром, только узнал, уже у меня с толстой книгой в руках: садитесь, не теряя минуты пишите биографию “Дедушка Крылов”, я пишу, он издает, и книжечка благополучно расходится. Ему хоть что попадется – несет Полякову, и Поляков у него непременно возьмет. Человек он в этом смысле отличный, его ни о чем не надо просить, он нюхом чует барыш и тотчас достанет вам преотличный заказ. В накладке с ним не останетесь. Пора и вам войти в литераторы, станете жить литературным трудом, как вот Некрасов живет, а по его примеру и я.
Слыша столь дивно-приятные вещи, он от Григоровича отстать не хотел, пока Григорович не выложит всю подноготную, как у нас можно жить литературным трудом. Они вместе вышли гулять. Небо закрывалось сплошными, тяжелыми тучами, висевшими низко, чуть не на крышах домов. Было сыро и грязно. Злой ветер с моря пробирал до костей.
Он обдумывал то, что быстро и складно так и трещал Григорович, верно довольный, что слушатель есть, хмурился, пожимался от холода под тощей шинелью и придерживал шляпу, поминутно готовую улететь.
Разве он готовил себя на такое вступление на литературное поприще? Спорить нельзя, и ему деньги были нужны позарез, поскольку в его кошельке не оставалось уже и на булки, однако ж не одни только деньги, много важней для его самолюбия было с первого шагу верно поставить себя, заметно, сильно начать, а там бы уж и пошло и пошло, известное имя, предпочтительный запрос от читателей, они же покупщики, и без Некрасова издавали бы нарасхват, знай писать поспевай. Уже новые презаманчивые идеи сами собой слагались у него в голове. Сколько превосходных романов он мог бы создать, первостепенных, превосходных, прекрасных, уж это условие непременное: два или три? И ведь вся-то судьба этих первостепенных, превосходных, прекрасных новых романов чуть не целиком зависела от самого первого шага, он был в этом уверен до слез, в таком важном шаге никак оступиться нельзя, просто ни капельки в таком деле оступиться нету расчета, тут мог бы выскочить какой-нибудь глупый скандал, которого он бы себе не простил. Книжонки гнать на заказ? И при том-то, при грошовом заказе стоять горой за достоинство человека? Это блудниц-то на поруганье не отдавать, спасть от камней? Отвергнуть и оплевать преступную веру в рубль или франк – на месте Христа? Очень милый альянс!
Шагая несколько боком, заглядывая Григоровичу то и дело в лицо, это чтобы всю правду тотчас узнать, проверяя, не шутит ли тот, ужасный, ужасный любитель на розыгрыш, он пытался, дружески, мягко держа его локоть, логически, ясно всю-то суть изъяснить и увлекся, что с ним обыкновенно случалось в разного рода щекотливых делах, когда его мысль за сердце брала:
– Видишь ли, Григорович, жить одним литературным трудом преотлично, славная вещь, против славной-то вещи кто говорит. Ты-то знаешь, в денежном отношении я предоставлен собственным силам, стало быть, именно одним литературным трудам. Однако, как бы то ни было, я клятву дал, что и до зарезу дойду, а не стану писать из денег и на заказ. Что, как я понимаю, заказ? Задавит заказ, всё загубит, душу растлит, вот как я понимаю заказ. Признаюсь: я хочу, чтобы каждое творенье моё было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, взгляни на Гоголя: написали не много, а оба ждут монументов! И уж нынче Гоголь, слыхать, берет за лист по тысяче серебром, а Пушкин продавал каждый стих по червонцу.
Григорович, румяный и бодрый от сильного свежего ветра, выслушав молча, против обыкновения ни разу не перебив, невольно вздохнул:
– Кто не мечтает о славе, ваше степенство, да слава-то их, особенно Гоголя, была куплена годами неизвестности, годами голода, нищеты, подачками добрых, по счастью, богатых друзей, так пока к нам с вами слава придет, надо нам чем-то и жить. Это мне Некрасов, что ни день, говорит. Так вы не отказывайтесь пока, хоть тотчас к нему.
Меся худыми галошами жидкую грязь, мимоходом, но завистью взмечтав о теплой шинели, о крепких сапогах и галошах, он отрицательно потряс головой:
– Нет, Григорович, я думаю, что оттого-то и пресекаются, исчезают старые школы, а новые не пишут, а мажут, весь талант нынче уходит в один первый замах, в котором ясно видна недоделанная, целиком не выжитая и оттого чудовищная идея да сила мышц при размахе, а дела-то настоящего, дела прочного, уж не на века, Бог с ними с веками, а хоть на день или два – самая крошечка, фюйть и прошла. Беранже про нынешних фельетонистов французских у них там где-то сказал, что это бутылка шамбертена в ведре воды. Рафаэль писал годы и годы, отделывал, отлизывал, и выходило чудо из чудес, Боги, Боги создавались терпеливыми руками его, а вот, извещают в газетах, Верне пишет в месяц картину, для которых заказывают залы особенных каких-то размеров, перспектива богатая, наброски, размашисто, а дела дельного нет ни на грош. Декораторы все, не поэты! И у нас вот взялись декораторам подражать…
Они поворачивали в Троицкий переулок. По переулку тащились погребальные дроги с бедным некрашеным гробом, из самых дешевых. Несколько провожающих, по виду случайных, уныло и молча шагали за ним.
Он только взглянул как-то боком, мельком, и тотчас, неизвестно каким волшебством, увидел другую картину: по той же перетоптано грязи бежал одинокий растрепанный лысый старик, перебегая с одной стороны черных дрог на другую, без шляпы, рыдая каким-то прерывистым, дрожащим, должно быть от суматошного бега, рыданьем.
Вся эта картина, хоть и явилась внезапно, на один только миг, была такой яркой, такой неожиданной, такой раздирающей душу, такой до судорог необходимой ему, что дух у него захватило каким-то жутким, невыносимым восторгом, и он тут же, посреди улицы, пошатнувшись, лишился сознания и было упал, да Григорович его поддержал и с помощью каких-то прохожих перенес в оказавшуюся поблизости бакалейную лавку. В лицо ему поплескали студеной воды, он пришел в себя с изумлением и привстал. Перед глазами стояла все та же картина.
По дороге домой перепуганный Григорович бережно вел его под руку, часто пригибаясь к нему, явно желая что-то спросить, вероятно, о его состоянии, но отчего-то не спрашивал, только сильнее стискивал руку.
Он тоже молчал, а дома, едва успокоившись, бледный, с быстро-быстро колотящимся сердцем, бесповоротно решил, что непременно вставит в Варин дневник или воспоминания как бы, в которых должен быть именно этот несчастный старик, бегущий за гробом молодого и любимого сына, а может быть, и не сына, тут тоже не без блудницы, даже наверняка, а даже за сына того, кого только принял добровольно, или не совсем добровольно, за сына, это очень даже бывает у слишком уж одиноких, отчаянно бедных людей, и уже после всей душой полюбил, такой поворот как-то значительней выставлял этот странный, возвышенный и в то же время униженный, слабый характер, уже близкий, понятный ему.
Таким образом, новые предстояли труды. Исполнив их, снова всё переделать. Целых два месяца ушло на поправки. Только в конце января он изготовил наконец беловой вариант, однако уже в феврале принялся обчищать, обглаживать, выпускать и вставлять, и лишь в половине приблизительно марта роман вновь показался готовым.
К этому времени, забегая вместо прогулки, он кое-что разузнал. Толковые люди уверяли его, приводя в доказательство слишком веские факты, что он всенепременнейше пропадет, если выпустит первый роман на свой счет, однако, толковые-то люди и растолковали ему: