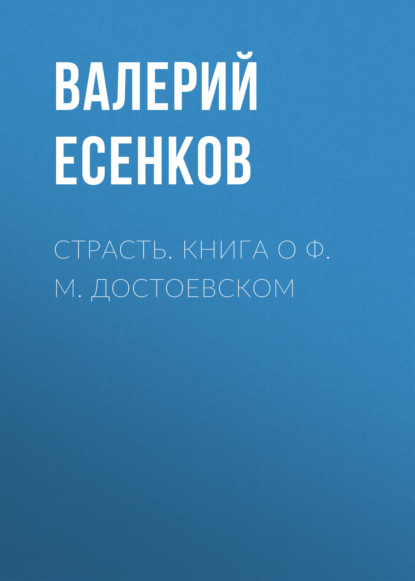По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Страсть. Книга о Ф. М. Достоевском
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Положим, книга хороша, хороша даже очень, и это положим, но вы не торгаш, не купец. Где вы станете публиковать о романе? В газетах? Надобно непременно иметь на руке своей книгопродавца, а книгопродавец-то, сами знаете, себе на уме, жох и не промах, он не станет себя компрометировать публикованием об неизвестном писателе, неосторожностью этого рода он у своих клиентов потеряет доверие. Каждый из солидных книгопродавцев состоит полным хозяином нескольких газет и журналов. В его газетах и журналах участвуют первейшие литераторы или претендующие на первенство, последние чаще и больше всего, эти скверны часто и страшны, потому как амбиция непомерная, тут всюду враги и враги. Объявляет об новой книге – в журнале, подписанном ими, а это многое значит. Следовательно, книгопродавец поймет, когда вы придете к нему со своим напечатанным одиноко товаром, что он донельзя, до крайней черты вас может прижать и прижать. Вот как эти дела обстоят. Книгопродавец – алтынник, он вас прижмет непременно, и вы сядете в лужу, поверьте слову, такие опыты есть.
Так-таки оставалось обратиться в журнал. Преимущества могли получиться большие. У “Отечественных записок” бывало до двух с половиной тысяч подписчиков, в иные годы и больше. Он прикинул: такой журнал, должно быть, имеет что-нибудь до ста тысяч читателей. На первый случай для его романа это было бы славно. Напечатай он там – и его литературная будущность обеспечена, он выйдет в люди во всех отношениях: его новое имя сделается известным и в литературных кругах, и в читающей публике, двери “Отечественных записок” после такого успеха навсегда были бы открыты ему, он беспрепятственно станет давать в них роман за романом, хоть по два в год, это верные деньги, пиши да пиши.
Открывались вдобавок малые, но чрезвычайно практичные обстоятельства, о которых тоже бедному человеку не следует забывать. Расчет получался такой: роман мог бы попасть в августовскую или октябрьскую книжку, а уже в октябре он напечатал бы его за свой счет отдельным изданием, уже твердо уверенный в том, что роман купят те, кто покупает романы, при этом объявления не будут стоить ему ни гроша, поскольку “Отечественные записки” сами озаботятся дать объявления, им-то прямая выгода в том. Одно было худо: начинающим литераторам ничего не платили или редко платили в журналах, так, из приличия, какие-нибудь пустяки, стало быть, в журнале роман пойдет за бесценок, рублей за четыреста, выше и смешно залетать, чем же станет он жить?
Теперь, когда роман был окончен и он оставался пока что без дела, без этого страстного увлечения, в жаре которого обо всем забывал и расчетов не знал, неизвестность, безденежье мучили его беспрестанно. У него всё так и валилось из праздных, тоскующих рук. Надобно было что-то придумать, придумать немедленно, всенепременно, однако же что?
Он слонялся по городу в любую погоду, заглядывал на минутку к немногим знакомым, разглядывал вывески и афиши, прочитывал газеты от строки до строки и всю журнальную критику, чтобы до нитки проникнуть все эти дела, необходимые, но опасные для него, и обнаружить хоть самую малую щелочку, в которую можно бы было честно, достойно пролезть, при этом не потеряв своего.
Утешительного было немного, чаще попадалось отчего-то наоборот. В “Инвалиде” он прочитал, например, о немецких поэтах:
«Лессинг умер в нужде, проклиная немецкую нацию. Шиллер никогда не имел 1000 франков, чтобы съездить взглянуть на Париж и на море. Моцарт получал всего 1500 жалованья, оставив после смерти 3000 франков долгу. Бетховен умер в крайней нужде. Друг Гегеля и Шеллинга Гельдерлин принужден был быть школьным учителем. Терзаемый любовью и нуждой, сошел с ума 32-х лет и дожил в этом состоянии до 76 лет. Гельти, поэт чистой любви, давал уроки по 6 франков в месяц, чтобы иметь кусок хлеба. Умер молодым – отравился. Бюргер знал непрерывную борьбу с нуждой. Шуберт провел 16 лет в заключении и кончил сумасшествием. Граббе, автор гениального “Дон-Жуана и Фауста”, в буквальном смысле умер с голода 32 лет. Ленц, друг Гете, умер в крайней нужде у одного сапожника в Москве. Писатель Зонненберг раздробил себе череп. Клейст застрелился. Лесман повесился. Раймунд – поэт и актер – застрелился. Луиза Бришман бросилась в Эльбу. Шарлота Штиглиц заколола себя кинжалом. Ленау отвезен в дом умалишенных…»
Впечатление было ужасное, до дурноты, прямо сбившее с ног. У него пошли полосой какие-то дикие ночи в полубдении и в полусне. Ему не удавалось уснуть и на пять минут сряду. Он видел повесившихся и застрелившихся, а себя сгноенным в тюрьме, задыхался и вскакивал, однако в то же мгновение его останавливала вполне здравая мысль, что долговая тюрьма была бы для него не самый худший исход, и он ворочался на диване, точно лежал на гвоздях. Ему начинало казаться в полубреду, что, если бы заранее знал, сколько упорных трудов, сколько бессонных ночей потребует этот короткий роман и сколько бесплодных и неспокойных хлопот ему с ним предстоит, он бы не взялся за перо никогда.
А между тем остановиться не мог. В апреле он весь роман переправил опять и решил, что роман от этого выиграл вдвое. Только четвертого, кажется, мая, во всяком случае в самом начале, он в последний раз переписал начисто в большую тетрадь и решился посвятить Григоровича в свою по сию пору строжайше хранимую тайну: давно было пора в конце концов приступать, а приступать без Григоровича, успевшего вскочить в круг “Отечественных записок” как совершенно свой человек, не представлялось возможным, да и слишком он забился в свой темный угол и, кроме опять-таки Григоровича, не имел никого, на ком первом мог бы проверить, проиграл или выиграл он свою первую битву, а без проверки и сунуться никуда представить не мог.
Решив так окончательно, после нескольких дней прикидок и колебаний, он целое утро ходил у себя, выкуривал трубку и снова ходил, тревожно прислушиваясь к поздно встававшему Григоровичу, любившему погулять до зари, к самым малым шумам и шорохам, которые, хоть и с трудом, долетали поминутно до него через комнату. Наконец там всё затихло. Григорович, должно быть, как водится, прилег на диван с какой-нибудь книжкой журнала, лишь бы лишь бы чем-нибудь занять свой праздный ум до того часа, когда можно пробежаться по Невскому, перехватить пару пирожков у Излера, а там по редакциям, по знакомым домам, а там и в театр.
Он приоткрыл свою дверь, сердито высунул голову, точно боялся чего-то, и крикнул неожиданно сорвавшимся голосом:
– Григорович, не зайдешь ли ко мне?
В той комнате прозвучал быстрый скачок, дверь через миг распахнулась во всю ширину, и Григорович, высокий и стройный, с вечно растрепанной головой, явился в нешироком проёме, растопырил пальцы, выставил неестественно руку, выдвинул правую ногу вперед и продекламировал, завывая певуче:
– Полки российские, отмщением сгорая,
Спешили в те места, стояли где враги,
Лишь только их завидели – удвоили шаги,
Но вскоре туча стрел, как град средь летня зноя,
Явилась к ним – предвестницею боя…
У Григоровича, беззаботного беспримерно, до изумления, это было любимое развлечение – вдруг представить кого-нибудь ни с того ни с сего, единственно от безделья и бодрости духа, как бы ни казался за минуту серьезен, так что он улыбнулся невольно и для чего-то спросил:
– Это кто?
Довольный произведенным эффектом, с веселым лицом, засовывая руки в карманы светлых, чрезвычайно клетчатых панталон, Григорович беспечно проговорил:
– Тотчас видать, что вы засиделись в своих четырех-то стенах, ведь это Толченов!
Пожевав в раздумье губами, точно прикидывал, к тому ли зашел, он снова спросил, и всё, разумеется, не о том:
– Должно быть, похож?
Григорович весь просиял:
– Очень, все говорят!
Он потупился и замялся:
– Ты не занят, этак на час или два или, пожалуй, на три?
Григорович отозвался беспечно и радостно:
– Занят? Для вас? Как бы не так! Хоть на полдня!
Он поглядел исподлобья:
– Скучаешь?
Григорович расцвел широчайшей улыбкой:
– Всегда рад поболтать.
Он помедлил ещё, да вдруг точно с печки упал:
– Ну, заходи.
И, выпустив дверь, прошел неровными шагами к себе и тотчас сел на диван с серьезным лицом, ожидая веселого, легкомысленного, но всё же первого в своей жизни судью.
Григорович вступил к нему с радостным недоверием, улыбаясь, сутулясь, точно розыгрыша, подвоха ждал с его стороны.
Надо признаться, они жили вместе, но редко встречались в общей комнате или на кухне, к себе же он Григоровича не приглашал почти никогда, сурово охраняя свой тайный труд, однако приметил эту забавную странность только теперь, по странному выражению его ожидавших чего-то невероятного глаз. Смутившись, пытаясь наверстать быть радушным хозяином, он слишком громко проговорил:
– Садись, садись, Григорович!
Тот, отбросив с изящностью фалды легкого домашнего сюртучка, красиво присел вдалеке и всё глядел на него с растущим изумленным вниманием, несколько раз, чуть ли от волнения, почесав то подбородок, то нос.
Он всё ещё колебался. Едва ли Григоровичу могла быть доступна та глубина его Бедных людей, которая была же в романе, была, он в этом не сомневался ни доли секунды, а как ничего не поймет?
Он насупился, нерешительно двигал тетрадь, сначала к себе, потом от себя. Должно быть, начиная о чем-то близко догадываться, Григорович прищурился, собрал крупными складками лоб, небольшой, но красивый, мол, не выдержал, тоже прорвался, однако продолжал сидеть как ни в чем не бывало.
На зависть ему, спокойной уверенности этому доброму и беспутному человеку доставало всегда, и он поспешно, лишь бы хоть немного ободрить себя, потерявшегося совсем, напомнил себе, что и в самом деле Григорович был очень добр и с врожденным чувством изящного, если всей глубины не поймет, то останется хоть поэзия на его вкус, это, в сущности, главное, наверняка поэзию-то ухватит верным чутьем. И все-таки до того страшился провала, что заранее стыдился его, точно был уже высказан приговор, самый строгий, но, увы, справедливый, из тех, что он и сам себе уже не раз выносил. Как тут было начать?
Но Григорович, со свойственной ему деликатностью, не станет, конечно, не сможет при этом смеяться, уж за что другое, а за это, пожалуй, можно было почти поручиться. А другого слушателя-судьи нет и быть, на беду, не могло. Вот как оно повернулось: этот легковесный молодой человек оказался ему ближе всех, вот где загадка так загадка судьбы. А больше некому поделиться романом. Что же после этого у него впереди?
Он кашлянул принужденно и глухо сказал, слегка качнув головой на тетрадь:
– Вчера переписал, хочу почитать.
Григорович так и вспрыгнул на стуле, ослепительно улыбаясь, выказывая все свои здоровые белоснежные крупные зубы, встряхивая кудрями цвета воронова крыла, и почти закричал от восторга, неподдельного, из души, уж в этом-то сомневаться было нельзя:
– Это замечательно, Достоевский, я так и думал, честное слово, клянусь, у вас так и должно было быть!
Нельзя передать, как растрогал его этот бескорыстный энтузиазм. Он размяк, камень упал, улетели, растаяли тревожные мысли, словно и не было их. Впрочем, по привычке одернул себя, что энтузиазму, сидящему перед ним на дешевом рыночном стуле, все-таки не доставало должной для минуты серьезности, весьма и весьма. Тут ведь вся судьба решиться должна! Как бы не понесло лепетать невесть что, от стыда сгоришь от него. Но уж начато, не отворотишь назад.