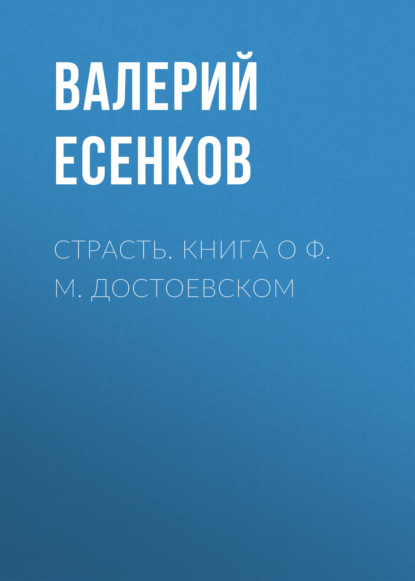По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Страсть. Книга о Ф. М. Достоевском
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Где-то, переходя через мост, наконец ощутив, как майский ветер ласково шевелит его тонкие волосы, он вспомнил о шляпе, надвинул её на самые брови и застегнул на все пуговицы распахнутый неприлично сюртук. Некрасов теперь представлялся бессердечным и глупым. Глаза у Некрасова предвиделись мертвыми и сухими, уж непременно, непременно без блеска. “Бедные люди” бесповоротно были погублены. Он же и писать не умел.
Весь вечер он просидел у Трутовского, изнывая от неизвестности, про себя продолжая обдумывать самые фантастические предположения, отчетливо сознавая через минуту всю их бессмысленность и непроходимую фантастичность. Делая внимательный, сосредоточенный вид, он рассматривал акварели Трутовского. Ему понравился один выгнутый мостик через канал и рябая толстая русская баба с хитрыми глазками, торговавшая явно застарелыми, уж верно железными пряниками, если по цвету судить, которые уже невозможно продать.
Впрочем, на минуту позабыв о себе, он заметил, что на акварели не было ни потемневшего от влаги гранита, ни склизлого, с желтым оттенком тумана, ни грязных, затасканных юбок, которые он всюду встречал перед такими же грустными мостиками и которых не могло не быть в его Петербурге, но обнаружил и верный глаз, и смелость руки, и возможный, намеченный, однако пока что не развитый, не раскрытый талант.
Отложив акварель, отшагнув от стола, он пробрюзжал, отчитывая скорее себя за низкий недостаток вниманья к товарищу, чем начинавшего ещё только художника, у которого все удачи могли ещё быть впереди:
– Напрасно вы делаете это Трутовский. Вы, не знаете, верно, что вас ждет на этом неверном пути.
Вновь промелькнула вся скорбная вереница несчастных германских поэтов, загубленных неизбежной, казалось ему, нищетой, и он рассердился:
– Голодная смерть, если не добьетесь большого, очень большого успеха, да и при очень большом, настоящем успехе, если правду сказать. Прибавьте к этому, что труд художника – вечная каторга, на которую стоит только попасть, чтобы уже никогда от неё не отбиться. На этой каторге не бывает ни сна, ни покоя, ни выходных, ни даже полной уверенности в себе, уверенности в том, что созданное вами на что-то годится. Кто скажет вам настоящую цену?
Он подумал опять о Некрасове, о его непременно волчьих глазах и в раздражении продолжал:
– Никто, потому что в искусстве многое, почти всё, неопределенно и зыбко. К совершенству идут в одиночку, наверно не зная ни средств к тому, ни пути. Возьмите великого из великих, Шекспира. Сколько чудовищностей у него, сколько безвкусия. Что об остальных прочих-то говорить, нечего об них говорить. Спасенье одно – в непрерывном, в неустанном, в неусыпном труде. Легкое, изящное стихотворение Пушкина потому и кажется легким, что оно слишком долго клеилось из клочков, перемарывалось десятки раз в черновиках и в беловиках, которые потом становились черновиками. Способны ли вы, Трутовский, на такие-то вот труды?
Трутовский, простой и невинный, с жидкими волосами, костлявый, худой, отзывчивый, но молчаливый, робко взглядывал на него с обожанием, без внимания листая альбом:
– Я, Федор Михайлович, закон этот знаю и думаю, что могу, я бы очень, очень хотел, мне бы надо, потому что это… как бы вам изъяснить…
Превосходно понимал он это косноязычие зеленого юноши, с самого детства изведал эти порывы, и то узнал наконец, как мало таких-то безвинных порывов, как много крови души и мозолей труда положил он в свой первый роман. А Некрасов, волчьи глаза он вдруг увидел прямо перед собой, уже готов зарезать этот роман, дожидаясь, должно быть, только того, когда восторженный шалопай Григорович дочитает последний клочок, то есть самые важные последние письма, которые сам он писал и читал не без слез, и от свежих порывов Трутовского ему стало грустно, а мысль о Некрасове нагнала злую тоску.
Поворотившись спиной, разглядывая пятно на голой стене, он продолжал неприязненно, грозно, прикидывая в уме, за какое по счету письмо оба изверга там принялись:
– Вас ведь оставили при училище репетитором. Это прекрасная должность, благородное, честное дело. Успехи учеников станут вашей вечной отрадой, на душе у вас будет покойно, у вас будут товарищи, даже друзья. А искусство, Трутовский, требует всего человека, искусство не оставляет умственных и физических сил ни на что. С искусством нет жизни, кроме искусства. С искусством не может быть более ничего! Вам ещё остановиться не поздно. Предупреждаю вас как товарищ, вам выбирать.
С этими словами он обернулся, чтобы не упустить, какое они произведут впечатление, подумав о том, что говорит слишком мрачно о скорбном деле художника, слишком запугивает робкого неофита, да это всё ничего, пусть знает, пусть лишний раз построже проверит себя.
Трутовский чуть поднял голову, боязливо взглянул на него, но тут же глаза его сами собой опустились:
– Я надеялся, что вы посоветуете… то есть я хотел попросить… Я понимаю, конечно, что всё, что я делаю, только первые пробы ещё, так, эскизы и прочее… Но мне надо быть настоящим художником… и вы, Федор Михайлович, верьте, и мне помогите, я от вас помощи жду!..
Он и сам пробовал и твердо был убежден, что собственно проб не должно бы быть никаких, а надо всё делать сразу, без рефлексий, без колебаний, в одном горячем страстном порыве, чтобы первая проба и была первое настоящее дело, когда почитаешь его большим и серьезным и стоящим всей твоей жизни, пусть сорвешься, пусть проиграешь эту первую пробу навылет, но только не потому, что колебался, приглядывался, не решался начать. Тот. Кто рискует на пробу лишь для того, чтобы только попробовать и при неблагоприятном стечении обстоятельства тотчас же отступить, волей судеб или не верует истинно, что выбрал свое достойное дело, по той самой правде земной, какую он открыл для себя. Таким не дается победа, успех. И милый Трутовский не станет художником, если приучит себя колебаться, если станет надеяться, что кто-то умный, кто-то добрый поможет ему, этого позволить нельзя, да и нельзя не помочь.
Шагнув в сторону, тотчас сделав два шага и встав перед ним, он повторил тяжело и устало, мимоходом решив, что уже прочитали и приступили к лютой казни его:
– Право, остановитесь, Трутовский, не поздно ещё.
Трутовский глядел на него большими глазами и упрямо твердил:
– Помогите…
Сам он ни у кого не просил ни совета, ни помощи. Собственным неотступным влечением выбрал он тяжкий крест, от всех забился в свой темный угол, не бежал от злого труда, сам прошел весь роман от первого до последнего слова, вооруженный только своей кардинальной идеей, как погубительна пошлая вера в рубль или франк, которая позволяет, даже право дает и топтать, и унижать, и камни бросать, как позарез, до муки, до крика души иная вера нужна, хоть во что, только не в рубль или франк.
Может быть, там уже и казнили его, опозорив и оплевав его первый, а потому самый трудный роман, однако казнили его одного, без ложных советчиков или верных друзей, которые в деле творчества бывают с такими камнями, что похуже злейших врагов, и за ошибки или вину он ответит один, что ж, и готов отвечать.
Как помочь тем, кто своими ногами не силах или боится пойти?
Может быть, это и есть самый важный, самый трудный, самый необходимый вопрос: как человеку поверить во что-нибудь хоть на волос повыше рубля или франка?
Ответит ли он сам себе на этот жестокий вопрос? Довольно ли человеку того, чтобы отыскать идеал чуть повыше рубля или франка и поверить в него? К тому же и тут ещё полный туман: есть ли путь к идеалу?
Отступив, он невольно спросил, отчего-то желая в этот день благополучно уйти от прямого ответа:
– Позвольте, Трутовский, почему помочь вам могу именно я?
Трутовский застенчиво улыбнулся, с доверием следя за ним большими глазами:
– В училище, помните, вы были один, понимаете? О других, как бы это сказать?.. Помните, как у нас издевались над новичками, употребляли на посылки самые унизительные?
Он передернул плечами:
– Как же не помнить! Трутовский улыбнулся несмелой, но ласковой, нежной улыбкой:
– А вот при вас не позволили себе, вас одного уважали, ваше нравственное, ваше умственное превосходство признавали решительно все… тоже и я… вам верить привык… Тогда кто же иной?
Они действительно признавали, он постоянно чувствовал это, и такое признание естественно льстило ему и тешило бы мелкое его самолюбие, если бы он этот род самолюбия не презирал, не вычищал из себя. Однако, слишком занятый тем, как бы этот пошлый порок не укоренился в неопытной, мягкой душе, он и не думал тогда, что перед ними за свое превосходство в ответе, тогда как они, вот оказалось внезапно, ждали и ждут от него какого-то важного, какого-то прямо душе говорящего слова.
Странно, а выходило, что он в самом деле в ответе за них? То есть что делать, если в ответе? От одной мысли о том, что в ответе, его ноша становилась ещё тяжелей. Своим тяжким неустанным трудом до кровавого пота он может завоевать себе славу, предположим, что его станут много читать, его книги приведут в восхищение многих, как его самого приводят в восхищение Пушкин, Гоголь, Бальзак, тогда очевидно, как уже и предчувствовал он, самое-то главное именно в этом, то есть какое же слово он скажет, какую откроет новую правду, что ответит на вечный, то безмолвный, то молящий вопрос: как жить, во что верить, к какому идеалу идти? А он, тоже давно предчувствуя это, в сущности лишь ради этого слова берясь за перо, слишком, до непристойности слишком занят собой!
Эта последняя мысль до того смутила его, что он ответил с досадой:
– Ну, остановитесь, остановитесь, Трутовский, хотя бы из уважения… ну, вот к тому якобы превосходству – довольно!
Трутовский вдруг вспыхнул, сверкнул злыми глазами и с каким-то испуганным вызовом, очень громко сказал:
– Нет, я стану художником! Меня не остановит никто!
Этот добрый, впечатлительный, не без поэтического чувства молодой человек мог бы сделаться хорошим учителем, однако ж, вот видите, такого прекрасного, почтенного поприща слишком мало ему.
Нынче все хотят превосходства, все жаждут непременно выделиться из пошлой массы подобных себе и превзойти золотую посредственность, хорошо, так и должно, это стремленье согласно с природой, но разумеют ли те, кто желает, что истинно возвышает лишь превосходство духовное, которое потому ни для кого не обидно, что оно бескорыстно, так вот понимают ли отчетливо, ясно, что духовное-то превосходство дается лишь отречением от себя? Если бы только Трутовский почувствовал этот кардинальный закон, закон на все времена, тогда всё, решительно всё могло бы быть спасено! Он с жадностью вгляделся в него и поспешно спросил:
– И вы просите советов моих?
Шагнув к нему, Трутовский воскликнул благодарно и радостно, прижав ладони к груди:
– Да! Да! Да!
С ним в одно мгновенье произошла перемена. Он уже любил горячей любовью этого упрямого, пусть наивного, но симпатичного юношу. Помочь он, конечно, не мог. Душе, жаждущей истины, нужны не пустые слова, верь, мол, в это или вон в то, душе нужен пламенем жгущий пример, однако и ответить что-нибудь он был обязан.
Да, это обязанность, это священный, может быть, долг. Он не должен был допустить, чтобы неопытный юноша изломал свою жизнь. Но что же сказать? Только то, что сам себе твердил по ночам, когда изнемогало перо и перед глазами плыли круги. Есть ли для всех нас одна общая мера, есть ли для всех нас один общий пример? Как знать, да, в конце концов, ему самому выбирать. Его слабый голос возвысился и окреп:
– Тогда отрекитесь от повседневного, мелкого, займитесь серьезно собой. Бойтесь посредственности пуще всего, как нераскаянный грешник страшится пламени ада.
Трутовский вспыхнул, ещё крепче прижимая ладони к часто, порывисто дышавшей груди:
– Да! Да! Да! Научите меня!