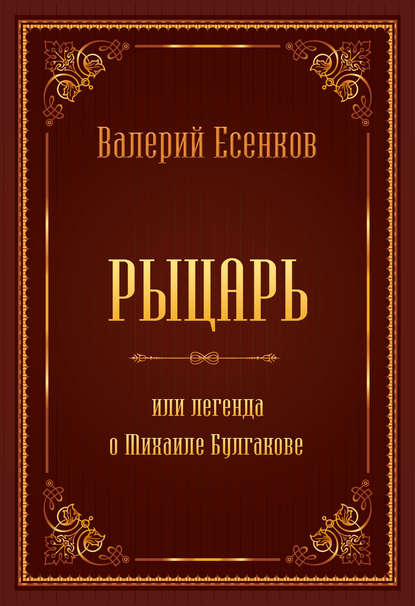По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Метод этот обаятельно действовал на ум потому, что являлся не в виде школьных правил отвлеченной логики, а с необходимостью вытекал из самой сути дела: каждый факт, каждое объяснение факта как будто сами собой твердили золотые слова Бэкона: «не выдумывать, не измышлять, а искать, что делает и несет с собой природа». Можно было не знать даже о существовании логики, – сама наука заставила бы усвоить свой метод успешнее, чем самый обстоятельный трактат о методах; она настолько воспитывала ум, что всякое уклонение от прямого пути в ней же самой, – вроде «непрерывной зародышевой плазмы» Вейсмана или теорий зрения, – прямо резало глаза своей ненаучностью…»
Другими словами, на медицинском отделении добывается негромкая, но несомненная истина. Несомненная истина покоряет его своей непреложностью. Несомненная истина, добываемая не в истерических спорах, а долгим и трудным исследованием, оказывается прекрасной в своей простоте. Узнавши её, он уже не в состоянии от неё отступить. Его очаровывает точность научного рассуждения. Схоластика и софизмы становятся ему ненавистны. Он приобретает ценнейшее уважение к опыту, презрение к выдумкам, к лозунгам, к фальши. Вместе с общей роевой жизнью, которая в книгах Льва Николаевича так счастливо открылась ему, несомненная истина и научность мышления становятся основой основ его убеждений. Всё в действительности, всё из неё!
Он забывает о Днепре, о воле, возможно, на какое-то время забывает даже о славе, о чем юноше особенно трудно забыть. Он отдается науке с любовью и упоением. Никто не насилует его разум, никто не грозит наказанием, не оставляет после обеда, не вызывает родителей, не сулит четверки по поведению, и он торопится в университет каждый день как на праздник. По собственной воле он не пропускает занятий, просиживает часами в лабораториях, где наконец обретает полнейшую возможность впериться в черный окуляр микроскопа. Он погружается в подводные течения и водовороты учебников куда глубже, чем прежде погружался в таинственные реки романов. Он кромсает в анатомическом театре окостенелые трупы, завороженный магией устройства обыкновенного тела, не обращая внимания ни зловоние испарений, не замечая ни оскаленных ртов, ни закатившихся глаз. На него веют каким-то магическим волшебством белый халат, стеклянное молчание операционной и мерцающий таинственным блеском инструментарий.
Внезапно умирает Толстой.
Старик, на восемьдесят третьем году, не понятый даже самыми близкими, с которыми прожил бок о бок лет пятьдесят, бежит украдкой из отчего дома. Бежит и несколько дней неузнанным странником скитается по железным дорогам центральной России, стремясь неизвестно куда, и оказывается в жару пневмонии на глухом полустанке Астапово. Там его настигают жадные до сенсации журналисты и жадная до его покаяния церковь, настигает жадная до наследства семья, и обо всем этом, как о важнейшем событии, на все голоса трезвонят бесстыдные страницы вечно лживых, вечно продажных газет.
Ученого анатома смерть человека, даже если этот человек Лев Толстой, не удивляет нисколько: самый простой, самый будничный факт, подтверждающий, что каждый из нас обречен когда-нибудь умереть. Вскройте его бренное тело, обнажите легкие, и вы обнаружите все признаки скоротечного воспаления, пневмонии, говоря своим языком. Как видите, господа, все люди смертны, исключений не существует и не может существовать. Нет ничего необыкновенного даже и в том, что умирает странник на безвестном железнодорожном разъезде в одной из двенадцати комнат начальника станции. Миллионами умирают безвестные странники, на больших и малых дорогах, в чужих постелях, в оврагах, в открытой степи, подтверждая лишь общий закон, что всех нас поджидает общая участь, роевая судьба. В каждом теле с одинаковой неизбежностью срабатывает молчаливая механика смерти: останавливается утомленное сердце, тянутся ноги в страшной жажде последнего вздоха, пропадает сознание, остается одна гниющая плоть, которую, без молитвы или с молитвой, бесчувственно или с тяжким чувством незаменимой утраты, сваливают в тесную яму и засыпают землей.
И все-таки, все-таки, в этом единственном случае на всех интеллигентных и неинтеллигентных, образованных и необразованных, близких и абсолютно посторонних людей обрушивается необычайное горе, поражая всех и каждого в самое сердце. Вздрагивает весь мир, едва разлетается весть о бегстве дивного старца. Становятся строгими лица. Прохожие замедляют шаги. Газетные полосы чернеют краткими новостями последних депеш. Решительно все забывают, что умирающий странник Толстой, страстный проповедник всем известных неприятных идей, за пропаганду которых его отлучили от церкви, за которые считает своим долгом презирать его любой прогрессишка, а революционеры отталкивают и клеймят почти как врага. Прощается всё. Всех съединяет на миг единое беспокойство и единая скорбь. Во все души так и веет библейской легендой: из мира уходит великий, может быть, величайший из всех.
В университете занятия в эти три дня тревожного ожидания идут кое-как или прекращаются вовсе. Город ждет, как ждет вся страна и весь мир. Город тайно надеется: великий, может быть, не умрет. Однако же нет: черным утром все видят экстренный выпуск ещё влажных газет. В каждой газете чернейшая рамка: великого старца скорбный портрет. Черная рамка свидетельствует: великого нет.
На улицах толпы растерянных, охваченных общим горем людей. Перед университетом замирают студенты, черные повязки на всех рукавах. Наконец движутся с понурыми головами. Вступают в большую аудиторию. Навстречу студентам шагает профессор. От беззвучных рыданий голос дрожит:
– Вчера, в шесть часов утра, на станции Астапово умер величайший писатель нашей страны, Лев Николаевич Толстой.
Ряды поднимаются. В гробовом молчании долго стоят. И Булгаков, слившись в эту минуту со всеми, переживает с потрясающей силой, когда видит то, чего нам с вами, читатель, никогда не увидеть: и после кончины явление Толстого продолжается и не может не продолжаться во все времена.
Потрясение кстати. Оно не позволяет погрузиться в пучину грубейшего, отвратительнейшего, так называемого естественнонаучного материализма, так свойственного медицине и медикам, как не позволяет погрузиться в эту пучину и голоса предков-священников, громко звучащий в крови, который ничем нельзя заглушить.
Вновь и вновь перечитывает он беспокойные книги Толстого, с жадностью проглатывает помещенные в журналах воспоминанья о нем, ловит тома биографии, написанной близким к нему Бирюковым.
В душе его копошатся сомнения: непреложность науки, строгая дисциплина логического мышления, суровая логика фактов. Это необходимо? Сомневаться нельзя, без всего этого остановится жизнь непреклонной человеческой мысли. И всё литература, искусство… Поколения жили спокойно, не зная, что такое угар или каким образом обыкновенная пища преобразуется в энергию крови. Необходимо им рассказать, что такое угар и каким образом обыкновенная пища преобразуется в энергию крови? Конечно, необходимо? В этом не может, не имеет права сомневаться образованный, к тому же порядочный человек. Однако, однако… Какой такой пищей возжечь энергию духа? Без энергии духа тоже не проживешь.
Он останавливается. Он заглушает сомнения. Продолжает прилежно учиться на лекаря, исправно проходит приготовительные предметы, на втором курсе успешно сдает полулекарские экзамены, после которых студенты допускаются в клиники. В клинике предстоит ещё одно, серьезнейшее, труднейшее испытание.
Человек он нежнейший, человек легко и сразу уязвимой души, воспитанный в безмятежном покое отцовского дома, куда не прокрадывается и тень от страдания, муки, тем паче жестокости, где живут в мире с совестью, в мире друг с другом, где ближнему больно сделать нельзя, потому что больно становится и самому, страшный, но и спасительный дар, который приобретает каждый интеллигентный, нравственно воспитанный человек.
Единственное несчастье, которое довелось ему за все свои двадцать лет испытать, – это внезапная болезнь и скорая кончина отца, однако болезнь отца была болезнью глубоко верующего, нравственно нерушимого человека, так что все страданья и муки остались глубокой тайной для окружающих, до последней минуты обреченный отец оставался спокоен и бодр.
Таким образом, этот юноша абсолютно не приготовлен к тому, что ему предстоит, у него ни малейшего опыта нет, и он без всякого перехода попадает в дом величайшей скорби и величайших страданий, которых не найдено слов описать.
В клиники не берут легких больных, не берут и тяжелых, если эти тяжелые больные из состоятельных или интеллигентных семей, эти больные лечатся дома, поскольку всем известно, как целителен для больного домашний уход. В клиники попадают мелкие служащие, ремесленники, городское простонародье и обитатели, большей частью без веры, без нравственного, порой и без всякого воспитания. Духовная сила этого рода больных чрезвычайно слаба, а на долю им выпадают адские муки, муки разнообразные, утонченные, муки бессмысленные, муки жестокие, и всё это обнажено, всё это не сдержано, не прикрыто ничем, но ещё усилено животным ужасом смерти, с вечным душераздирающим воплем:
– Доктор, я не умру?!
В анатомическом театре конструкция тела выглядит законченно-совершенной. В клинике та же, но живая конструкция представляется чрезвычайно слабой и поразительно хрупкой. Довольно босой ногой напороться на грязную щепочку, чтобы в чудовищных муках погибнуть от столбняка, довольно разгорячиться и оказаться на сквозняке, чтобы свалиться с крупозным воспалением в легких. Неизвестно откуда выскакивают грыжи, появляются опухоли, перитониты, туберкулез, обыкновенные роды выглядят как настоящий кошмар.
Каждый день человеку нежнейшему, человеку легко и сразу ранимой души приходится видеть увечных, болящих, вопящих о помощи, скорбящих, тающих на глазах, извивающихся от ужаса или в агонии смерти. Обо всем этом нежнейший человек с легко и сразу ранимой душой, конечно, читал в равнодушных учебниках, ещё раньше читал о том же в безжалостных «Записках врача», однако в реальной действительности зрелище непереносимых страданий непереносимей стократ.
Как он относится к ним? Можно с уверенностью сказать, что он не примеряет на себя всех болезней, которые видит, не болеет ими в воображении, как приключилось с более мягким, податливым автором «Записок врача». В нем слишком сильно развито чувство рыцарского служения, и если он и страшится чего, так это того, сможет ли именно он, подать помощь этим впавшим в отчаянье людям.
Удивительней же всего, что он открывает в клинике красоту и романтический блеск. Хирургическое отделение притягивает его как магнит. Чистейшие белые стены заливает ослепительный электрический свет. Такой же умопомрачительной чистотой сверкает керамический плиточный пол. Пылает зеркалом никель приборов и кранов. И посреди этой сверкающей чистоты человек умирает на операционном столе. Вокруг человека манипулируют ассистенты в снежно-белых халатах, с сосредоточенными строгими лицами. Над умирающим склоняется старый профессор в марлевой маске, в залитом свежей кровью переднике и делает что-то неуловимое в раскрытой груди или в полости живота. Застывают, все почтение и внимание, три помощника ординатора, врачи-практиканты, тесная стайка студентов-кураторов. И вот умирающий, выхваченный из бездны, возвращается к жизни, начинает ровно дышать, открывает, отвезенный в палату, ещё полные муки глаза.
Чудо, богослуженье какое-то, и впоследствии он опишет это зрелище именно так:
«И он поехал по скользкому паркету лапами, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было всё в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки – в черных перчатках. В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге…»
И самая клиника для душевнобольных приобретает под его волшебным пером что-то таинственное, замечательное, с мягким светом святого:
«Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок, и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому не известные приборы…»
И все-таки душа его страждет, ему тяжело. Какая-то заминка приключается с ним. Словно что-то дыбится в нем, протестует, подсказывает, что это не то. Слишком мрачно, слишком темно, он к этому не привык. Хочется света, ласки, тепла и добра, иначе, как будто проносится в потрясенной душе, бросишь всё к чертовой матери и сбежишь неизвестно куда.
На помощь приходят события, и потрясение слабеет, слабеет, делается почти неприметным, так что о том, что оно все-таки было, можно только догадываться по слабым, едва различимым следам.
В ответ на студенческие волнения, связанные со смертью Толстого, Совет министров, во главе которого высится Петр Аркадьич Столыпин, душитель крестьянской общины, опрометчиво упраздняет, в январе 1911, университетскую автономию, студенческие сходки в здании университета запрещены. В ответ, в качестве веского возражения, первого февраля начинается забастовка студентов. Занятия в университете почти прекращаются. Лишь немногие юноши жаждут продолжения лекций и добиваются разрешения профессорам читать даже в том случае, если в аудитории присутствует хотя бы один студент. Жалкое положение! И забастовка, и эта нищенская обстановка учения такому человеку, каким был Миша Булгаков, равно не по душе. Может быть, он даже и рад, что можно остановиться, подумать о чем-то, что-то решить. Из нашего поля зрения он исчезает. О любительских спектаклях не слыхать даже летом на даче, а это уже ни на что не похоже, согласитесь со мной. Он точно замер, точно вкус ко всему потерял.
В июне приезжает из Саратова Тася. В этом году она оканчивает гимназию, учиться дальше ей хочется в городе Киеве, однако отец запрещает, считая, что прежде один год она должна поработать в должности классной дамы в одном из училищ и только после этого испытания возвратиться к учебе. Отец, разумеется, прав, и она, непокорная, на этот раз покоряется воле отца. По этой причине их свидание в городе Киеве кратко, и на этот раз очарование прогулок вдвоем и быстрого шепота перед тем как расстаться на одну ночь до утра разрушается внезапно поднявшимся вихрем грозных, таинственных и невероятных событий.
Пожалуй, начало этих событий им не удается приметить. Что-то с трудом долетает до их открытых только друг для друга ушей, что именно в городе Киеве открывается грандиозный памятник царю Александру Освободителю, что по этому редкому случаю в городе Киеве намечаются какие-то особенного размаха празднества и торжества и что на эти празднества и торжества пожалует царь Николай, которого втихомолку среди молодежи именуют Кровавым, а с ним пожалуют все министры, множество знатных гостей и, конечно, Столыпин, первый министр и министр внутренних дел, по должности руководитель полицейского сыска.
Может быть, и слушок-то о празднествах и торжествах проникает в их уши именно потому, что в городе Киеве что-то слишком много говорят о Столыпине, причем говорят какие-то невероятные и страшные вещи. Прежде всего говорят, что его песенка спета и что он будет отставлен, чуть не в ближайшие дни, мол, Кровавый-то шибко им не доволен. Уверяют очень авторитетно, что и отставлен он будет здесь же, в городе Киеве, как только закончатся все эти празднества и торжества по поводу освободительной миссии, которая хоть и освободила, однако освободила только наполовину. На возражения, что такого не может быть, что по крайней мере государь император хотя бы помедлит, соблюдая приличия, отвечают, что у государя императора именно таков нрав: отправляет в отставку как-нибудь так, что становится особенно скверно и больно. Однако находятся также и те, кто напрочь отвергает отставку, поскольку им абсолютно точно известно, что именно в городе Киеве этот Столыпин, все-таки, что ни говорите, душитель крестьянской общины, известный палач, изобретатель отвратительных троек военно-полевого суда, будет убит. Непременно, непременно, это уж решено. Где решено? Там решено, то есть где надо, а где там и где надо не знает никто.
В самом деле, события следуют странные. Особый вагон доставляет душителя крестьянской община и палача в город Киев двадцать восьмого августа. Он, как водится, появляется в открытых дверях, готовый к почетному караулу и депутации заслуженных горожан. Дует ветер. Черный перрон блестит от дождя. На перроне ни караула, ни депутации, ни охраны, точно в воду канули все, точно нынче чума. Он озирается и в сопровождении капитана, который, один-одинешенек, денно и нощно охраняет его, выступает на привокзальную площадь, подозревая, что всё положенное для встречи первого министра страны изготовлено там. Не изготовлено ничего. Даже экипажа для его персоны не подано на привокзальную площадь. Первому министру страны приходится взять простого извозчика и на извозчике с поднятым верхом катить к дому генерал-губернатора, где для него приготовлены апартаменты. Разве это не странно? Странно, странно! Да ещё как! Город Киев затаивается и ждет: уж что-то да будет, поверьте, уж так бабахнет, что не останется даже мокрого места.
Однако пока не бабахает.
На другой день к тому же перрону медленно втягивается царский состав. На перроне кипят министры и киевские тузы. В толпе министров высится крупная фигура Столыпина, ненужно и одиноко. На подножке вагона появляется маленький царь. Его приветствуют в полном согласии с этикетом.
Однако, однако… Почему-то Столыпин, все-таки первый министр, не подходит к царю, а царь не замечает Столыпина и не спрашивает о нем. Разве это возможно? Ведь это все приличия побоку, ведь это его первый министр! Как же он без него? А вот так: стало быть, тут что-то есть. Помяните мое слово, теперь непременно бабахнет, в куски разнесет.
Однако опять не бабахает.
Торжества катятся по утвержденной свыше программе. Маленький царь сопровождает крестный ход по улицам города Киева. Кругом всё в трех цветах: белом, синем и красном. Толпа, оттесненная на тротуары вечно хамской полицией, приветствует, размахивает флажками, кричит, но без особенной ярости, так просто, надо кричать, вот и кричит. А Столыпина-то, такого большого, громоздкого, опять не видать. Далее молебен в Софии, открытие памятника, гулянье, маневры за городом, оркестр, шагом марш и ура.
Первого сентября дают прекрасную оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», выбор удачный. В театр не пройти. У всех именные билеты. Министры, тузы. Несколько рядов, тоже именные билеты, для самых надежных чинов охранного отделения города Киева. Царь в ложе. Столыпин в кресле, в первом ряду, в ложу его не зовут. Первый акт проходит с громадным успехом: даже министры и киевские тузы попадают под обаяние музыки. Проходит с успехом второй. Второй антракт тянется особенно долго. Царь уходит из ложи. Столыпин в сверкающем белом мундире, вся грудь в орденах. Стоит, опершись рукой на барьер, за которым зияет оркестровая яма. С ним беседует военный министр. Министр двора бегает окулярами бинокля по ложам. Проходом из рядов, отведенных для охранного отделения, идет во фраке, в белом пластроне молодой человек. Дуло браунинга внезапно чернеет в его правой руке. Шагов с трех он дважды стреляет в Столыпина, поворачивается спокойно спиной и также спокойно начинает от него уходить. Столыпин бледнеет, оглядывает мундир. На белом сукне крохотная дырка, начинает краснеть. Он сам пробует стянуть мундир за рукав, тянет, тянет и опускается в кресло. Его уносят. Убийцу хватают и бьют. Охранке едва удалось вырвать его из рук взбешенных тузов.
Не бабахнуло. Все-таки открыли пальбу, а Столыпин-то не убит, нет, не убит. Одна пуля в правую руку, другая ударилась в орден, ушла рикошетом в живот и застряла в поясничной кости. Может, и выживет, медики говорят. Сам как будто сказал, мол, на этот раз, кажется, выскочу, что-то вроде того. Любопытство ужасное. Судачат кругом: умрет – не умрет.
Михаил напуган, не за Столыпина, бог с ним, напуган за бледную Тасю. Он уговаривает её, чуть не приказывает немедленно отправляться домой. Она уезжает.
Странности продолжаются. На другой день Столыпину становится хуже, а что царь? А царь ничего, царь отправляется на маневры. У Столыпина начинается лихорадка. Царь заглядывает на минутку в больницу, но не заходит к больному, потом говорит, будто жена больного не впустила его. Помилуйте, разве кто-то может царя не впустить? У Столыпина признаки общего заражения. Царь уезжает: нужно освятить ещё один монастырь, дело богоугодное, промедлению не подлежит. На перроне просит Коковцова быть первым министром. Это у него манера такая: просит занять должность, просит должность оставить, вежливый, воспитанный человек. Столыпин умирает вечером пятого сентября. Девятого сентября на кладбище лавры его опускают в могилу.
Странно? Странно. Без сомнения, от начала до конца всё это странно. Однако абсолютно непонятно другое. Убит первый министр, второй человек в государстве, великий реформатор, как его кое-кто уже впопыхах окрестил, убит преступной рукой. И что же Россия? Менее года назад вся Россия была в трауре, когда умер Толстой, вся Россия переживала утрату, как будто ушел самый близкий, самый дорогой для неё человек. А тут ничего. Любопытство. Пересуды. Догадки. Левые рады, впрочем, это понятно, ведь это им изобретенные троечки вешают их. Правые по-прежнему с негодованием отметают всё, что было сделано им. Октябристы и многие из кадетов отзываются о его смерти сочувственно. Милюков остается непримирим. Пешехонов свою статью, помещенную в «Русском богатстве», с вызовом называет:
«Не добром помянут».
Голова, конечно, кругом идет. Михаил растерян, Михаил размышляет. Михаилу не с кем слова сказать. Тася уехала. Милая Тася, милая Тася…
Ах, что бы ни думали по этому поводу, чтобы ни говорили, но каждому Мастеру просто необходима своя Маргарита!
Он кое-как дотягивает до Рождества. Тут счастливый случай ему улыбается широчайшей улыбкой: бабушка Таси, Елизавета свет Николаевна, выражает желание съездить в Саратов, однако же возраст почтенный, недуги, дальность пути… Что вы, что вы, я же могу вас проводить! С удовольствием! С величайшим, надо сказать! Он подхватывает старую женщину и действительно благополучно доставляет в Саратов. Гремит Рождество! Елка смеется всеми цветами огней! Танцуют, танцуют! Он же с Тасей танцует немного: большей частью они очень смирно сидят в уголке. Он скупо говорит о себе. Она болтает без умолку: В училище девушки в два раза больше и толще меня. Преподаватель закона Божьего спрашивает однажды: «Где ваша классная дама?» «Вот она», – отвечают. «Ну, вы скажете! Ха-ха-ха!» Можешь представить, домой совсем без голоса прихожу.
Он представляет. Она совершенная копия Наташи Ростовой. Тонюсенькая, непосредственная, живая, вся в вечном движении, язык так и трещит, весела и беспечна, своенравна и непослушна, так что отец не в состоянии ей что-нибудь возразить, всё равно по-своему сделает, на каток или в театр убежит, непоседлива, неглупа, остра на язык, безалаберна, валяется на диване, книжки читает, платье валяется на полу, вскочила, куда-то бежит, одевается просто, музыку обожает, играет сама.
Другими словами, на медицинском отделении добывается негромкая, но несомненная истина. Несомненная истина покоряет его своей непреложностью. Несомненная истина, добываемая не в истерических спорах, а долгим и трудным исследованием, оказывается прекрасной в своей простоте. Узнавши её, он уже не в состоянии от неё отступить. Его очаровывает точность научного рассуждения. Схоластика и софизмы становятся ему ненавистны. Он приобретает ценнейшее уважение к опыту, презрение к выдумкам, к лозунгам, к фальши. Вместе с общей роевой жизнью, которая в книгах Льва Николаевича так счастливо открылась ему, несомненная истина и научность мышления становятся основой основ его убеждений. Всё в действительности, всё из неё!
Он забывает о Днепре, о воле, возможно, на какое-то время забывает даже о славе, о чем юноше особенно трудно забыть. Он отдается науке с любовью и упоением. Никто не насилует его разум, никто не грозит наказанием, не оставляет после обеда, не вызывает родителей, не сулит четверки по поведению, и он торопится в университет каждый день как на праздник. По собственной воле он не пропускает занятий, просиживает часами в лабораториях, где наконец обретает полнейшую возможность впериться в черный окуляр микроскопа. Он погружается в подводные течения и водовороты учебников куда глубже, чем прежде погружался в таинственные реки романов. Он кромсает в анатомическом театре окостенелые трупы, завороженный магией устройства обыкновенного тела, не обращая внимания ни зловоние испарений, не замечая ни оскаленных ртов, ни закатившихся глаз. На него веют каким-то магическим волшебством белый халат, стеклянное молчание операционной и мерцающий таинственным блеском инструментарий.
Внезапно умирает Толстой.
Старик, на восемьдесят третьем году, не понятый даже самыми близкими, с которыми прожил бок о бок лет пятьдесят, бежит украдкой из отчего дома. Бежит и несколько дней неузнанным странником скитается по железным дорогам центральной России, стремясь неизвестно куда, и оказывается в жару пневмонии на глухом полустанке Астапово. Там его настигают жадные до сенсации журналисты и жадная до его покаяния церковь, настигает жадная до наследства семья, и обо всем этом, как о важнейшем событии, на все голоса трезвонят бесстыдные страницы вечно лживых, вечно продажных газет.
Ученого анатома смерть человека, даже если этот человек Лев Толстой, не удивляет нисколько: самый простой, самый будничный факт, подтверждающий, что каждый из нас обречен когда-нибудь умереть. Вскройте его бренное тело, обнажите легкие, и вы обнаружите все признаки скоротечного воспаления, пневмонии, говоря своим языком. Как видите, господа, все люди смертны, исключений не существует и не может существовать. Нет ничего необыкновенного даже и в том, что умирает странник на безвестном железнодорожном разъезде в одной из двенадцати комнат начальника станции. Миллионами умирают безвестные странники, на больших и малых дорогах, в чужих постелях, в оврагах, в открытой степи, подтверждая лишь общий закон, что всех нас поджидает общая участь, роевая судьба. В каждом теле с одинаковой неизбежностью срабатывает молчаливая механика смерти: останавливается утомленное сердце, тянутся ноги в страшной жажде последнего вздоха, пропадает сознание, остается одна гниющая плоть, которую, без молитвы или с молитвой, бесчувственно или с тяжким чувством незаменимой утраты, сваливают в тесную яму и засыпают землей.
И все-таки, все-таки, в этом единственном случае на всех интеллигентных и неинтеллигентных, образованных и необразованных, близких и абсолютно посторонних людей обрушивается необычайное горе, поражая всех и каждого в самое сердце. Вздрагивает весь мир, едва разлетается весть о бегстве дивного старца. Становятся строгими лица. Прохожие замедляют шаги. Газетные полосы чернеют краткими новостями последних депеш. Решительно все забывают, что умирающий странник Толстой, страстный проповедник всем известных неприятных идей, за пропаганду которых его отлучили от церкви, за которые считает своим долгом презирать его любой прогрессишка, а революционеры отталкивают и клеймят почти как врага. Прощается всё. Всех съединяет на миг единое беспокойство и единая скорбь. Во все души так и веет библейской легендой: из мира уходит великий, может быть, величайший из всех.
В университете занятия в эти три дня тревожного ожидания идут кое-как или прекращаются вовсе. Город ждет, как ждет вся страна и весь мир. Город тайно надеется: великий, может быть, не умрет. Однако же нет: черным утром все видят экстренный выпуск ещё влажных газет. В каждой газете чернейшая рамка: великого старца скорбный портрет. Черная рамка свидетельствует: великого нет.
На улицах толпы растерянных, охваченных общим горем людей. Перед университетом замирают студенты, черные повязки на всех рукавах. Наконец движутся с понурыми головами. Вступают в большую аудиторию. Навстречу студентам шагает профессор. От беззвучных рыданий голос дрожит:
– Вчера, в шесть часов утра, на станции Астапово умер величайший писатель нашей страны, Лев Николаевич Толстой.
Ряды поднимаются. В гробовом молчании долго стоят. И Булгаков, слившись в эту минуту со всеми, переживает с потрясающей силой, когда видит то, чего нам с вами, читатель, никогда не увидеть: и после кончины явление Толстого продолжается и не может не продолжаться во все времена.
Потрясение кстати. Оно не позволяет погрузиться в пучину грубейшего, отвратительнейшего, так называемого естественнонаучного материализма, так свойственного медицине и медикам, как не позволяет погрузиться в эту пучину и голоса предков-священников, громко звучащий в крови, который ничем нельзя заглушить.
Вновь и вновь перечитывает он беспокойные книги Толстого, с жадностью проглатывает помещенные в журналах воспоминанья о нем, ловит тома биографии, написанной близким к нему Бирюковым.
В душе его копошатся сомнения: непреложность науки, строгая дисциплина логического мышления, суровая логика фактов. Это необходимо? Сомневаться нельзя, без всего этого остановится жизнь непреклонной человеческой мысли. И всё литература, искусство… Поколения жили спокойно, не зная, что такое угар или каким образом обыкновенная пища преобразуется в энергию крови. Необходимо им рассказать, что такое угар и каким образом обыкновенная пища преобразуется в энергию крови? Конечно, необходимо? В этом не может, не имеет права сомневаться образованный, к тому же порядочный человек. Однако, однако… Какой такой пищей возжечь энергию духа? Без энергии духа тоже не проживешь.
Он останавливается. Он заглушает сомнения. Продолжает прилежно учиться на лекаря, исправно проходит приготовительные предметы, на втором курсе успешно сдает полулекарские экзамены, после которых студенты допускаются в клиники. В клинике предстоит ещё одно, серьезнейшее, труднейшее испытание.
Человек он нежнейший, человек легко и сразу уязвимой души, воспитанный в безмятежном покое отцовского дома, куда не прокрадывается и тень от страдания, муки, тем паче жестокости, где живут в мире с совестью, в мире друг с другом, где ближнему больно сделать нельзя, потому что больно становится и самому, страшный, но и спасительный дар, который приобретает каждый интеллигентный, нравственно воспитанный человек.
Единственное несчастье, которое довелось ему за все свои двадцать лет испытать, – это внезапная болезнь и скорая кончина отца, однако болезнь отца была болезнью глубоко верующего, нравственно нерушимого человека, так что все страданья и муки остались глубокой тайной для окружающих, до последней минуты обреченный отец оставался спокоен и бодр.
Таким образом, этот юноша абсолютно не приготовлен к тому, что ему предстоит, у него ни малейшего опыта нет, и он без всякого перехода попадает в дом величайшей скорби и величайших страданий, которых не найдено слов описать.
В клиники не берут легких больных, не берут и тяжелых, если эти тяжелые больные из состоятельных или интеллигентных семей, эти больные лечатся дома, поскольку всем известно, как целителен для больного домашний уход. В клиники попадают мелкие служащие, ремесленники, городское простонародье и обитатели, большей частью без веры, без нравственного, порой и без всякого воспитания. Духовная сила этого рода больных чрезвычайно слаба, а на долю им выпадают адские муки, муки разнообразные, утонченные, муки бессмысленные, муки жестокие, и всё это обнажено, всё это не сдержано, не прикрыто ничем, но ещё усилено животным ужасом смерти, с вечным душераздирающим воплем:
– Доктор, я не умру?!
В анатомическом театре конструкция тела выглядит законченно-совершенной. В клинике та же, но живая конструкция представляется чрезвычайно слабой и поразительно хрупкой. Довольно босой ногой напороться на грязную щепочку, чтобы в чудовищных муках погибнуть от столбняка, довольно разгорячиться и оказаться на сквозняке, чтобы свалиться с крупозным воспалением в легких. Неизвестно откуда выскакивают грыжи, появляются опухоли, перитониты, туберкулез, обыкновенные роды выглядят как настоящий кошмар.
Каждый день человеку нежнейшему, человеку легко и сразу ранимой души приходится видеть увечных, болящих, вопящих о помощи, скорбящих, тающих на глазах, извивающихся от ужаса или в агонии смерти. Обо всем этом нежнейший человек с легко и сразу ранимой душой, конечно, читал в равнодушных учебниках, ещё раньше читал о том же в безжалостных «Записках врача», однако в реальной действительности зрелище непереносимых страданий непереносимей стократ.
Как он относится к ним? Можно с уверенностью сказать, что он не примеряет на себя всех болезней, которые видит, не болеет ими в воображении, как приключилось с более мягким, податливым автором «Записок врача». В нем слишком сильно развито чувство рыцарского служения, и если он и страшится чего, так это того, сможет ли именно он, подать помощь этим впавшим в отчаянье людям.
Удивительней же всего, что он открывает в клинике красоту и романтический блеск. Хирургическое отделение притягивает его как магнит. Чистейшие белые стены заливает ослепительный электрический свет. Такой же умопомрачительной чистотой сверкает керамический плиточный пол. Пылает зеркалом никель приборов и кранов. И посреди этой сверкающей чистоты человек умирает на операционном столе. Вокруг человека манипулируют ассистенты в снежно-белых халатах, с сосредоточенными строгими лицами. Над умирающим склоняется старый профессор в марлевой маске, в залитом свежей кровью переднике и делает что-то неуловимое в раскрытой груди или в полости живота. Застывают, все почтение и внимание, три помощника ординатора, врачи-практиканты, тесная стайка студентов-кураторов. И вот умирающий, выхваченный из бездны, возвращается к жизни, начинает ровно дышать, открывает, отвезенный в палату, ещё полные муки глаза.
Чудо, богослуженье какое-то, и впоследствии он опишет это зрелище именно так:
«И он поехал по скользкому паркету лапами, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было всё в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки – в черных перчатках. В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге…»
И самая клиника для душевнобольных приобретает под его волшебным пером что-то таинственное, замечательное, с мягким светом святого:
«Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок, и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому не известные приборы…»
И все-таки душа его страждет, ему тяжело. Какая-то заминка приключается с ним. Словно что-то дыбится в нем, протестует, подсказывает, что это не то. Слишком мрачно, слишком темно, он к этому не привык. Хочется света, ласки, тепла и добра, иначе, как будто проносится в потрясенной душе, бросишь всё к чертовой матери и сбежишь неизвестно куда.
На помощь приходят события, и потрясение слабеет, слабеет, делается почти неприметным, так что о том, что оно все-таки было, можно только догадываться по слабым, едва различимым следам.
В ответ на студенческие волнения, связанные со смертью Толстого, Совет министров, во главе которого высится Петр Аркадьич Столыпин, душитель крестьянской общины, опрометчиво упраздняет, в январе 1911, университетскую автономию, студенческие сходки в здании университета запрещены. В ответ, в качестве веского возражения, первого февраля начинается забастовка студентов. Занятия в университете почти прекращаются. Лишь немногие юноши жаждут продолжения лекций и добиваются разрешения профессорам читать даже в том случае, если в аудитории присутствует хотя бы один студент. Жалкое положение! И забастовка, и эта нищенская обстановка учения такому человеку, каким был Миша Булгаков, равно не по душе. Может быть, он даже и рад, что можно остановиться, подумать о чем-то, что-то решить. Из нашего поля зрения он исчезает. О любительских спектаклях не слыхать даже летом на даче, а это уже ни на что не похоже, согласитесь со мной. Он точно замер, точно вкус ко всему потерял.
В июне приезжает из Саратова Тася. В этом году она оканчивает гимназию, учиться дальше ей хочется в городе Киеве, однако отец запрещает, считая, что прежде один год она должна поработать в должности классной дамы в одном из училищ и только после этого испытания возвратиться к учебе. Отец, разумеется, прав, и она, непокорная, на этот раз покоряется воле отца. По этой причине их свидание в городе Киеве кратко, и на этот раз очарование прогулок вдвоем и быстрого шепота перед тем как расстаться на одну ночь до утра разрушается внезапно поднявшимся вихрем грозных, таинственных и невероятных событий.
Пожалуй, начало этих событий им не удается приметить. Что-то с трудом долетает до их открытых только друг для друга ушей, что именно в городе Киеве открывается грандиозный памятник царю Александру Освободителю, что по этому редкому случаю в городе Киеве намечаются какие-то особенного размаха празднества и торжества и что на эти празднества и торжества пожалует царь Николай, которого втихомолку среди молодежи именуют Кровавым, а с ним пожалуют все министры, множество знатных гостей и, конечно, Столыпин, первый министр и министр внутренних дел, по должности руководитель полицейского сыска.
Может быть, и слушок-то о празднествах и торжествах проникает в их уши именно потому, что в городе Киеве что-то слишком много говорят о Столыпине, причем говорят какие-то невероятные и страшные вещи. Прежде всего говорят, что его песенка спета и что он будет отставлен, чуть не в ближайшие дни, мол, Кровавый-то шибко им не доволен. Уверяют очень авторитетно, что и отставлен он будет здесь же, в городе Киеве, как только закончатся все эти празднества и торжества по поводу освободительной миссии, которая хоть и освободила, однако освободила только наполовину. На возражения, что такого не может быть, что по крайней мере государь император хотя бы помедлит, соблюдая приличия, отвечают, что у государя императора именно таков нрав: отправляет в отставку как-нибудь так, что становится особенно скверно и больно. Однако находятся также и те, кто напрочь отвергает отставку, поскольку им абсолютно точно известно, что именно в городе Киеве этот Столыпин, все-таки, что ни говорите, душитель крестьянской общины, известный палач, изобретатель отвратительных троек военно-полевого суда, будет убит. Непременно, непременно, это уж решено. Где решено? Там решено, то есть где надо, а где там и где надо не знает никто.
В самом деле, события следуют странные. Особый вагон доставляет душителя крестьянской община и палача в город Киев двадцать восьмого августа. Он, как водится, появляется в открытых дверях, готовый к почетному караулу и депутации заслуженных горожан. Дует ветер. Черный перрон блестит от дождя. На перроне ни караула, ни депутации, ни охраны, точно в воду канули все, точно нынче чума. Он озирается и в сопровождении капитана, который, один-одинешенек, денно и нощно охраняет его, выступает на привокзальную площадь, подозревая, что всё положенное для встречи первого министра страны изготовлено там. Не изготовлено ничего. Даже экипажа для его персоны не подано на привокзальную площадь. Первому министру страны приходится взять простого извозчика и на извозчике с поднятым верхом катить к дому генерал-губернатора, где для него приготовлены апартаменты. Разве это не странно? Странно, странно! Да ещё как! Город Киев затаивается и ждет: уж что-то да будет, поверьте, уж так бабахнет, что не останется даже мокрого места.
Однако пока не бабахает.
На другой день к тому же перрону медленно втягивается царский состав. На перроне кипят министры и киевские тузы. В толпе министров высится крупная фигура Столыпина, ненужно и одиноко. На подножке вагона появляется маленький царь. Его приветствуют в полном согласии с этикетом.
Однако, однако… Почему-то Столыпин, все-таки первый министр, не подходит к царю, а царь не замечает Столыпина и не спрашивает о нем. Разве это возможно? Ведь это все приличия побоку, ведь это его первый министр! Как же он без него? А вот так: стало быть, тут что-то есть. Помяните мое слово, теперь непременно бабахнет, в куски разнесет.
Однако опять не бабахает.
Торжества катятся по утвержденной свыше программе. Маленький царь сопровождает крестный ход по улицам города Киева. Кругом всё в трех цветах: белом, синем и красном. Толпа, оттесненная на тротуары вечно хамской полицией, приветствует, размахивает флажками, кричит, но без особенной ярости, так просто, надо кричать, вот и кричит. А Столыпина-то, такого большого, громоздкого, опять не видать. Далее молебен в Софии, открытие памятника, гулянье, маневры за городом, оркестр, шагом марш и ура.
Первого сентября дают прекрасную оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», выбор удачный. В театр не пройти. У всех именные билеты. Министры, тузы. Несколько рядов, тоже именные билеты, для самых надежных чинов охранного отделения города Киева. Царь в ложе. Столыпин в кресле, в первом ряду, в ложу его не зовут. Первый акт проходит с громадным успехом: даже министры и киевские тузы попадают под обаяние музыки. Проходит с успехом второй. Второй антракт тянется особенно долго. Царь уходит из ложи. Столыпин в сверкающем белом мундире, вся грудь в орденах. Стоит, опершись рукой на барьер, за которым зияет оркестровая яма. С ним беседует военный министр. Министр двора бегает окулярами бинокля по ложам. Проходом из рядов, отведенных для охранного отделения, идет во фраке, в белом пластроне молодой человек. Дуло браунинга внезапно чернеет в его правой руке. Шагов с трех он дважды стреляет в Столыпина, поворачивается спокойно спиной и также спокойно начинает от него уходить. Столыпин бледнеет, оглядывает мундир. На белом сукне крохотная дырка, начинает краснеть. Он сам пробует стянуть мундир за рукав, тянет, тянет и опускается в кресло. Его уносят. Убийцу хватают и бьют. Охранке едва удалось вырвать его из рук взбешенных тузов.
Не бабахнуло. Все-таки открыли пальбу, а Столыпин-то не убит, нет, не убит. Одна пуля в правую руку, другая ударилась в орден, ушла рикошетом в живот и застряла в поясничной кости. Может, и выживет, медики говорят. Сам как будто сказал, мол, на этот раз, кажется, выскочу, что-то вроде того. Любопытство ужасное. Судачат кругом: умрет – не умрет.
Михаил напуган, не за Столыпина, бог с ним, напуган за бледную Тасю. Он уговаривает её, чуть не приказывает немедленно отправляться домой. Она уезжает.
Странности продолжаются. На другой день Столыпину становится хуже, а что царь? А царь ничего, царь отправляется на маневры. У Столыпина начинается лихорадка. Царь заглядывает на минутку в больницу, но не заходит к больному, потом говорит, будто жена больного не впустила его. Помилуйте, разве кто-то может царя не впустить? У Столыпина признаки общего заражения. Царь уезжает: нужно освятить ещё один монастырь, дело богоугодное, промедлению не подлежит. На перроне просит Коковцова быть первым министром. Это у него манера такая: просит занять должность, просит должность оставить, вежливый, воспитанный человек. Столыпин умирает вечером пятого сентября. Девятого сентября на кладбище лавры его опускают в могилу.
Странно? Странно. Без сомнения, от начала до конца всё это странно. Однако абсолютно непонятно другое. Убит первый министр, второй человек в государстве, великий реформатор, как его кое-кто уже впопыхах окрестил, убит преступной рукой. И что же Россия? Менее года назад вся Россия была в трауре, когда умер Толстой, вся Россия переживала утрату, как будто ушел самый близкий, самый дорогой для неё человек. А тут ничего. Любопытство. Пересуды. Догадки. Левые рады, впрочем, это понятно, ведь это им изобретенные троечки вешают их. Правые по-прежнему с негодованием отметают всё, что было сделано им. Октябристы и многие из кадетов отзываются о его смерти сочувственно. Милюков остается непримирим. Пешехонов свою статью, помещенную в «Русском богатстве», с вызовом называет:
«Не добром помянут».
Голова, конечно, кругом идет. Михаил растерян, Михаил размышляет. Михаилу не с кем слова сказать. Тася уехала. Милая Тася, милая Тася…
Ах, что бы ни думали по этому поводу, чтобы ни говорили, но каждому Мастеру просто необходима своя Маргарита!
Он кое-как дотягивает до Рождества. Тут счастливый случай ему улыбается широчайшей улыбкой: бабушка Таси, Елизавета свет Николаевна, выражает желание съездить в Саратов, однако же возраст почтенный, недуги, дальность пути… Что вы, что вы, я же могу вас проводить! С удовольствием! С величайшим, надо сказать! Он подхватывает старую женщину и действительно благополучно доставляет в Саратов. Гремит Рождество! Елка смеется всеми цветами огней! Танцуют, танцуют! Он же с Тасей танцует немного: большей частью они очень смирно сидят в уголке. Он скупо говорит о себе. Она болтает без умолку: В училище девушки в два раза больше и толще меня. Преподаватель закона Божьего спрашивает однажды: «Где ваша классная дама?» «Вот она», – отвечают. «Ну, вы скажете! Ха-ха-ха!» Можешь представить, домой совсем без голоса прихожу.
Он представляет. Она совершенная копия Наташи Ростовой. Тонюсенькая, непосредственная, живая, вся в вечном движении, язык так и трещит, весела и беспечна, своенравна и непослушна, так что отец не в состоянии ей что-нибудь возразить, всё равно по-своему сделает, на каток или в театр убежит, непоседлива, неглупа, остра на язык, безалаберна, валяется на диване, книжки читает, платье валяется на полу, вскочила, куда-то бежит, одевается просто, музыку обожает, играет сама.