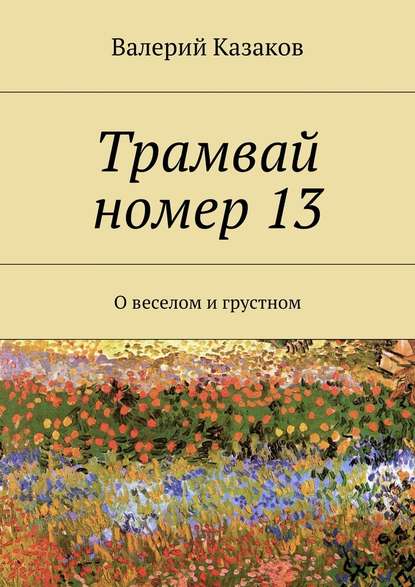По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трамвай номер 13. О веселом и грустном
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Наверное, рано ещё, – отозвался я.
– Тогда для чего мы здесь?
– Сам не знаю… Хотел показать тебе лес.
– Лес! – удивилась она. – Я этого не понимаю.
– Зелень, солнце и этот вот шум листвы, – уточнил я, чувствуя ресницами прикосновение теплого ветра.
– Ну и что? – снова повторила она. – Не понимаю. Лес мрачный, густой и страшный. Хочется поскорее от него избавиться.
– Здесь махристая зелень кругом.
– Это Набоков.
– Что?
– «Махристая зелень» – это из Набокова. Он так писал. Странно, длинно и непонятно, о чем… Я ненавижу его Лолиту и Машеньку тоже ненавижу. Писал о женщинах, но женщин не понимал.
– А кто понимал? – спросил я с улыбкой.
– Женщину может понять только женщина. Агата Кристи, Виржиния Вульф, Нэнси Като.
– А разве есть такие писательницы? – усомнился я.
– Есть… А ты думал, что все писатели мужчины?
– Странно, – произнес я, ни о чем не думая.
– Ничего странного, – отреагировала она, приняв это восклицание на свой счет. – Женская натура гораздо сложнее, чем мужская. Мужчины грубы и прямолинейны. Они думают, что любовь – это наслаждение, некое сонное блаженство, которому нет конца.
– А что же это, по-твоему?
– Это испытание на прочность, это притягательное клише, которым пользуются поэты и писатели, чтобы оправдать свою распущенность…
– Присядь со мной рядом, – попросил я.
Мне показалось, что если она сядет со мной рядом, она лучше меня узнает.
– Зачем? – спросила она.
– Чтобы понять, что земля теплая.
– Она сырая.
– Ты не присядешь?
– Нет, никогда. Ты только посмотри, сколько там всяких тварей. Посмотри. На каждой травинке свой жучок, своя гусеница.
Она даже присела на корточки, чтобы лучше рассмотреть этих мелких тварей.
– И все шевелятся. Фу!
– Дура ты, – с улыбкой отозвался я.
– Сам дурак, – весло ответила она…
Обратно мы шли по обочине сельской дороги. Эта обочина была пыльной, заросшей грубой белесой полынью и чахлым цикорием с приметами увядания. Но зато эта дорога вывела нас на окраину Финского залива. К огромным гладким валунам, на которые с шумом обрушивались коричневато-зелёные морские волны.
Над заливом стояла сизая дымка, сквозь которую смутно просматривались очертания дальних берегов. Я никогда не видел такого огромного пространства воды. Я нигде не встречал таких громадных, так тщательно отполированных валунов. Поэтому поспешил спуститься поближе к морю и сел на гладкий холодный камень возле морских волн так, чтобы мелкие брызги иногда долетали до меня, увлекаемые резким порывам ветра.
Дальняя кромка нашего берега отсюда показалась мне туманной, органично вплетенной в зеленовато-сизую перспективу залива.
Моя спутница спустилась с берега и села рядом. Что называется, снизошла. Её чудные волосы растрепал прохладный морской ветер, с запахом морских водорослей.
– Здесь холодно, – сказала она через какое-то время.
– Зато, какой простор! Посмотри.
– Просторно, но холодно, – отозвалась она.
Её излишняя изнеженность, выставляемая напоказ, начала меня раздражать. Даже шум морского прибоя её не волновал. Я уже не знал, как понимать эту её бесчувственность. Как назвать её невосприимчивость к этой поглощающей меня особой монополии звуков и запахов. Её душа всё ещё оставалась для меня тайной. Возможно, неясная, едва слышимая мелодия зарождающейся любви значила для неё гораздо больше, чем для меня. Возможно, я чего-то не понимал… Но почему тогда она не чувствовала восторга от того, что меня воодушевляло? Почему так легко не замечала то, что застигало меня врасплох своей оглушающей и восхитительной новизной?
– Море! – мечтательно пропел я.
– Холодно, – ответила она.
– Сесть на корабль и плыть…
– Куда? – не поняла она.
– Вдаль…
– Где-то там должен быть Кронштадт.
– Кронштадт, – оживился я. – Первая русская крепость, заложенная Петром для охраны северной столицы?
– Первый город, восставший против большевизма, – добавила Анна.
– Да, да… Кронштадт… Ленин, Троцкий, большевики. Страшное время…
– Время гибели той России, которая никогда больше не возродится, – уточнила Анна…
Обратно в Ленинград мы добирались вовсе не на корабле, а на обыкновенном пыльном автобусе, который почему-то сильно трясло. Как будто он мчался на всех парусах по морским волнам. Анна сидела рядом со мной и смотрела за окно. Её полное теплое бедро было рядом с моим бедром, и поэтому все мои чувства были сосредоточены именно там. Оно грело мне душу, оно наделяло меня несбыточными надеждами. В голову лезли разные бредни из разряда страстных мечтаний вперемежку с нелепыми сомнениями.
Очарование жаркого летнего дня постепенно сменялось прохладным блаженством вечера. Золото – серебром, серебро – медью. Медь – тусклым отблеском мебельного лака – на деревьях, на домах и заборах.
Когда мы въехали в город, там всё было уже темно-коричневым, охряным, затухающим. На черную стрелу дорожной ленты поочередно нанизывались то перекрестки, то темные арки мостов, то ажурные скверы. Над городом стояли низкие тучи с серым подбоем. Городские окраины запестрели охряными взмахами новостроек, которые были оторочены по периметру грудами серых кирпичей.