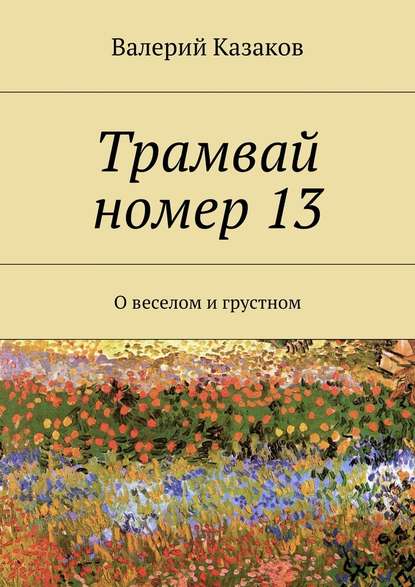По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трамвай номер 13. О веселом и грустном
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тогда… тогда мне с тобой не о чем говорить. Ты слепой, ты неотесанный болван, – почти прокричала Анна и пошла от меня прочь, размашисто виляя задом. На высоких каблуках это получалось у неё так соблазнительно, так дерзко, что я готов был согласиться с любым её доводом, только бы она не оставляла меня одного. Уходящая, она обольщала меня всей своей интеллигентной недоступностью, всем своим подчеркнуто городским пафосом. Всей своей особой своей утонченностью, которая сейчас, сзади, почему казалась мне наиболее рельефной…
Она была тонкой, как тростинка. Но эта тростинка задевала во мне столько неведомых струн, что поток чувств оглушал, ставил в тупик, в позу оробелого замешательства, к которому примешивалось незнакомое томление. Вот в ком подспудно дремала настоящая Даная. Вот кого следовало запечатлеть на просторном холсте истории…
На улице я догнал её. Она шла и молчала. Но её глаза, её губы каким-то странным образом все еще говорили со мной. Я это чувствовал, я это ощущал.
Вот её рука поднялась слегка, розоватые пальцы раздвинулись и сжались. Наверное, она что-то сказала мне мысленно, в чем-то меня упрекнула. Вот задрожали её ресницы, взлетели высоко и быстро опустились. Ветер пошевелил прядь русых волос на её голове, солнце слегка позолотило невесомые завитки на висках.
И тут я отчетливо осознал, что не слышу её шагов. Мне показалось, что она не шагает – летит. Она такая легкая, такая воздушная, безгрешная, что в задумчивости вполне может забыть о земном притяжении.
– Аня!
– Что?
– Не улетай.
– Тогда ты… тогда ты…
– Что?
– Не убивай меня своим непониманием, – еле слышно произнесла она.
И я почувствовал себя букашкой, погребенной под ворохом её знаний. Она была на целую голову выше меня, мудрее и значительнее. Она понимала Пикассо, она ценила Рембрандта. В её душе звучала возвышенная музыка мировой культуры.
Закуток
На заводе есть такие места, где человеку с улицы, человеку, далекому от производства, находиться неприлично. Там огромной кучей лежат массивные бруски железа, какие-то ржавые прутья, мотки проволоки и порожняя стеклотара. Иногда при случайном порыве ветра терпкий запах мочи доносится из дальнего угла закутка, напоминая о чем-то дурном, но привычном…
В закутке всегда медленно тянется время. Это заводской тупик. Свалка.
В закутке рабочие люди отдыхают после «комплексного» обеда, во время общего перекура или заходят сюда просто так, когда на душе скверно или пучит живот. Закуток хотя и завален ненужным железом, но из-за высокого забора тут и там в него свешиваются зеленые лапы лип, пронзают изгородь стрелы молоденьких кленов, топорщится по углам вездесущая узорчатая крапива.
На этот раз в закутке была черноглазая фрезеровщица Зоя – женщина лет двадцати пяти – тридцати, которая полулежала на обрезке доски и делала вид, что загорает. Недалеко от неё на деревянной катушке из под кабеля сидел рябой мужик Анатолий, дорабатывающий до пенсии последние месяцы. Зоя была в синей заводской спецовке, сильно засаленной на животе. На её голове был белый платок, на ногах – кроссовки. Зоя казалась мне олицетворением рабочей женщины, женщины – труженицы. Большая, широкоплечая, с короткой шеей и мощным задом. С лицом породистой крестьянки, на котором ярко алели большие, обильно накрашенные жирной помадой губы. В правой руке Зои тлела сигарета.
Карусельщик Анатолий плохо слышал, был хмур и никогда со мной не разговаривал. На этот раз он, видимо, что-то почувствовал и предупредительно отвернулся от нас. Между собой мужики говорили, что его жена сидит где-то в заводской бухгалтерии, и поэтому дядя Толя получает самую высокую в цехе зарплату.
– Эй, молодой, – бесцеремонно обратилась ко мне фрезеровщица Зоя, нахально стрельнув на меня темными, озорными глазами, – садись поближе.
Я от растерянности ничего не ответил.
– Ишь, какой стеснительный, – тут же продолжила она. – Садись рядом, говорю. Я тебе на колени голову положу. Устала.
Для чего-то я снова взглянул на Анатолия. Как он отреагирует на эту странную реплику? Но Анатолий смотрел в другую сторону, делая вид, что совершенно равнодушен к происходящему. Он привычно курил и стряхивал пепел себе под ноги.
– Садись, – снова повторила Зоя.
Я подошел и осторожно, с плохо скрываемым стеснением, сел рядом. Она легко приподнялась на локтях, подвинулась ко мне и положила свою голову мне на бедро. Потом прикрыла глаза коричневатыми веками и удовлетворенно выдохнула. На её лице появилось выражение, напоминающее улыбку.
– Вот так. Хорошо.
Её голова была тяжелой и теплой, как сентябрьская дыня. От волос исходил едва уловимый аромат духов и ещё какой-то странный кисловатый запах, которым пахнут перегретые на солнце листья чернотала где-нибудь у лесной реки.
– Как тебя зовут? – спросила она, слегка приподняв веки и наблюдая за мной в узкие щелки глаз.
– Андрей, – сухо ответил я.
– Сколько тебе?
– Двадцать, – соврал я.
Она замолчала, закрыла глаза. И снова на её лице появилась едва читаемая странная улыбка. Потом её голова слегка сдвинулась, съехала в ямку между моими бедрами, томительно пошевелилась там и пробудила во мне нечто совершенно невообразимое, ненужное в данный момент. Я не хотел, но вопреки всем запретам из меня стало прорастать то, чего я никому не хотел показывать, чего я так стыдился. То, от чего я готов был сквозь землю провалиться. Сейчас она могла ощутить это прорастающее из меня чувство всем своим тёплым затылком, кожей, волосами, оголенной шеей. Я слегка приподнял одну ногу, потом другую. Но это почему-то не помогло. Из меня нагло и упрямо выпирал мужчина.
В пылу борьбы с самим собой я не заметил, как на её лице снова появилась улыбка. Этой улыбкой она меня обидела и вдохновила одновременно, обожгла и отблагодарила. Сейчас она возбуждала во мне какое-то низменное, но приятное чувство. Она стала мне родной – эта женщина, пахнущая увядающим черноталом, мягкими водорослями и сухими, тонконогими полевыми цветами. Женщина в синей заводской спецовке, большая, тяжелая, лишенная романтического изящества.
– Приходи на танцы в субботу, – неожиданно сказала она, не открывая глаз.
Я видел только, как шевелятся её влажные губы.
– Куда?
– В Дом культуры железнодорожников. Куда же ещё. Там наша общага недалеко… Придешь?
– Не знаю, – ответил я неуверенно.
– Там весело бывает. Приходи, – попросила она.
– Может быть, в следующий раз… как-нибудь…
В это время Анатолий поднялся со своего сидения, прошел мимо нас, блеснув на солнце синей засаленной спецовкой, покрутил лысой головой туда-сюда и медленно раскрыл огромную дверь в первый цех, откуда донеслись привычные заводские шумы и запахи. И на секунду мне показалось счастьем то, что было со мной минуту назад. Потому что через какое-то время мне нужно будет возвращаться обратно, к своему ужасному долбежному станку марки «Гомель» и работать на нем до конца смены, протачивая канавки для шпонок на огромных, холодно блестящих железных шестернях.
– Тебе пора? – спросила она через минуту.
– Да.
– Ну, иди. Но в субботу приходи на танцы. Не забывай…
Меня утешает одна мысль, что когда-нибудь из шестерен, изготовленных мной на Центральном Ремонтном Заводе, умные люди соберут могучий чугунный паровоз, на котором вся Россия въедет в счастливое будущее. Из Азии – в Европу, на теплой железной спине паровоза, как на спине быка.
Вожделенная суббота
Всю неделю я был уверен, что в субботу никуда не пойду. Зачем? Для чего? Чтобы ближе познакомиться с Зоей фрезеровщицей? С женщиной в синей спецовке, от которой пахнет увядающим черноталом?
Это мне совершенно не нужно. У меня есть Аня, у меня есть представление о настоящей любви, которая меня пока что не разочаровала.
Но чем ближе подходила суббота, тем всё сильнее меня одолевал соблазн. Мне казалось, что Зоя другая, что с ней у меня будут какие-то особые отношения, не такие, как со всеми остальными девушками, которых я знал ранее.
…И вот суббота пришла. Пришла как-то совершенно неожиданно, когда оказалось, что Анна мне не звонит и не отвечает на мои звонки. Что дядя Леша смотрит на меня с нескрываемым равнодушием, не приглашает пить стакан, не пытается заговорить. Когда мне показалось, что моя жизнь течет однообразно и хмуро, как осенний день, занавешенный выцветшими облаками.
Ещё утром в субботу я был уверен, что никуда не пойду. Но после обеда почему-то стал часто посматривать на часы, нашел и начистил кремом свои новые ботинки, прогладил брюки. Мне казалось, что я это делаю просто так, на всякий случай. Подумаешь, фрезеровщица Зоя пригласила меня на танцы. Она пригласила, а я никуда не пойду, потому что ничего ей не обещал. Потому что мне от неё ничего не нужно. Она будет ждать, искать меня глазами, а я не появлюсь. Пусть не надеется. С какой стати я должен исполнять все её прихоти?