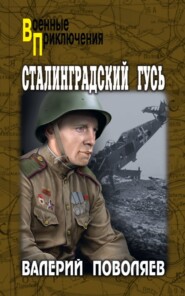По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чрезвычайные обстоятельства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он оторвал рукав гимнастерки, сунул его в карман. В рейдах не положено было оставлять что-либо на чужой территории, даже пепел от сигарет, даже окурки, консервные банки, бумажный мусор – все это они собирали и уносили с собой, поскольку в наших штабах считалось – по этой немудреной мелочи душманы со своими заморскими советниками могли многое определить… Впрочем, банки иногда зарывали в землю, стараясь упрятать их поглубже, чтобы ни одна собака не сумела отыскать. Жестянки эти носить ведь трудно, они громоздкие, а главное – очень уж сильно громыхают на ходу. Петраков притиснул к ране тампон, обжал его пальцами, чтобы резиновые края поплотнее прилипли к коже и не пропускали кровь.
Попробовал пошевелить пальцами раненой руки – пальцы шевелились, но вяло – не было в них прежней силы и цепкости – видать, пуля перебила что-то важное – нерв, сочленение, какую-нибудь жилку, артерию, нитку. Петраков протестующе помотал головой – не хотелось в это верить. Выглянул из-за камня. Убитый душман лежал в прежней позе, из открытого рта вытекала струйка крови и на ней уже сидели мухи, мелкие рыжеватые твари, которые живут в горах на большой высоте: выведена эта популяция, видать, из орлиного помета, потому и не боится заоблачных высей.
Кроме убитого душка, никого не было видно – преследователи уже знали, как могут стрелять эти двое, потому и избирали одну и ту же тактику – отпускали спецназовцев вперед, на безопасное расстояние и только потом поднимались.
Петраков сглотнул слюну – твердый неудобный комок, возникший в глотке, – и, развернувшись, перебежал к следующему камню: надо было догонять Леню. Метров через тридцать догнал. Костин, увидев руку капитана, болезненно сморщился:
– Нарушаешь инструкцию, командир!
Он был прав – Петраков не имел права уходить в прикрытие. Это – дело других. Даже если этих других осталась всего-навсего одна боевая единица – Леня Костин.
– Вперед! – вместе со скрипучим кашлем выбил из себя Петраков, оглянулся – не зашевелились ли там душки, но ничего, кроме пыльных, каких-то неряшливо изломанных камней, громоздящихся друг на друге, не увидел.
Боль в раненой руке усилилась. Когда сделалось совсем невмоготу, Петраков скомандовал Лене:
– Стой!
Тот, словно бы налетев на невидимый забор, резко остановился. Замер. Медленно повернул голову.
– Прикрой меня, – попросил его Петраков, Костин поспешно перекатился за спину капитана и, выставив перед собой ствол автомата, слился с камнем.
Петраков выдернул из нагрудного кармана шприц, заранее заряженный обезболивающим раствором и запаянный в плотный пластик. Прямо через ткань вогнал себе в бицепс иголку. Выдернул шприц, вновь сунул его в карман и прохрипел привычно:
– Вперед!
Рука начала стремительно каменеть, потяжелела, сделалась чужой. Ладно, хоть теперь не будет болеть.
Воздух сгустился, от него стало странно попахивать гнилью, солнце растворилось в небе, сделалось нестерпимо жарким, разлилось по всему своду. Петраков поглубже натянул на нос панаму, сдул натекшие на глаза капли пота:
– Вперед!
Минут через десять душманы обозначились вновь: сзади раздалась длинная автоматная очередь – видать, душок засек вдали промельк двух фигур и попробовал достать «шурави» из автомата, но пули на излете выдыхались, они басовито, будто шмели, гудели где-то рядом и вреда спецназовцам не причиняли.
Когда втягиваешься в бег, когда камни мелькают перед глазами, сливаясь в одну длинную пыльную, нескончаемую ленту, тянутся, тянутся – ни остановить их, ни сменить на что-то другое, когда в теле, кажется, не осталось уже ни капли жидкости, даже крови, и той не осталось, невольно сам делаешься таким же камнем – грязным, неряшливого мышиного с рыжиной цвета, бездушным. И ничего внутри уже нет – ни души, ни сердца, ни сожаления, ни сочувствия, ни боли… Если боль появляется, то один легкий укол ликвидирует ее.
Правда, только на время – боль потом все равно возникает, и то, чему положено у человека отболеть, чтобы человек возродился, стал самим собою – обязательно отболит. Отболевает то, что человеку уготовано судьбой и природой. Так что заглушенная боль еще аукнется.
Сзади снова раздалась очередь такая же далекая, как и предыдущая, Петраков даже оглядываться на нее не стал, хотя можно было бы для острастки огрызнуться тремя-четырьмя выстрелами в ответ. Можно было бы, но… Патронов жалко, их у него с Леней Костиным осталось уже совсем немного.
Проворно скатились в седловину, пробежали по ней, четко впечатывая каблуки ботинок в пружинистую, будто дорогой ковер, пыль. Петраков попробовал было на бегу зацепиться пальцами раненой руки за каменный выступ, притормозиться – слишком уж он набрал на спуске скоростенку, так и кости растрясти можно, но пальцы, вцепившиеся было в камень, вяло соскользнули с него…
Самое опасное сейчас – подъем на противоположную сторону седловины, там они будут находиться у душманов словно на ладони. Если бы у Петракова были люди, он сработал бы по-другому – выставил засаду, которая задержала бы душков, сам спокойно пересек седловину, а потом с другой стороны, с закраины, прикрыл бы ребят, находившихся в засаде. Но сейчас на это не было ни людей, ни времени, ни сил, ни патронов.
С другой стороны, если поднапрячься, то можно взбежать на противоположный склон седловины раньше, чем тут появятся душманы… Под ноги капитану попал камень – сам вылез из бархатистой противной пыли, будто гнилой зуб, Петраков споткнулся о него и чуть не закувыркался, сделал длинный, вкось прыжок, оттолкнулся одной кроссовкой от валуна и устоял на ногах.
– Вперед! – привычно прохрипел он. – Быстрее!
Они успели достигнуть верхней точки седловины, оскользаясь в пыльной, стреляющей электрическим искорьем мякоти, взбежали на нее и едва успели нырнуть за камни, как с противоположной стороны раздалась автоматная очередь. Пули, впиваясь в пыльный бок седловины, рождали гулкий звук, бухали, будто в бочку. Костин высунул из-за камня автомат и дал ответную очередь.
На противоположной стороне седловины раздался крик, из-за камней вывалился бородатый мулла в халате и зеленой чалме, кулем покатился вниз, распластался на склоне, в пыли.
– Вперед! – привычно подогнал Костина Петраков, выкашлял изо рта черную твердую слюну, – осталось совсем немного.
Покрутив головой и выбив из глаз муть, электрические брызги, пыль, дымную порошу – что там еще может рождаться в глазах, когда человеку плохо? – Петраков согнулся и побежал вперед по ребровине хребта, будто по срезу городской крыши где-нибудь на Преображенке или в Замоскворечье. Справа в рыжую воздушную бездонь уползал мшистый бок горы, по крутому склону медленно катились струйки земли, рождающие в груди невольное беспокойство, слева в такую же бездонь уползал противоположный бок горы. Что там, на дне ущелий, по правую и левую стороны хребта, – не видно.
До площадки, на которую за ними должны были прибыть «вертушки», оставалось идти совсем немного. Мест, где могут приземлиться вертолеты, здесь раз-два и обчелся, пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать и, надо полагать, все они у душманов на примете, все пристреляны, на всех сидят свои «глаза и уши» – бородатые неразговорчивые наблюдатели. Вполне возможно, группе еще придется воевать, и что ждет ее впереди – никто не знает. Петраков пробовал прикинуть на ходу, как будет действовать, но все эти прикидки – от лукавого, ясно одно – действовать он будет по обстоятельствам.
– Вперед! – прохрипел Петраков заведено, помотал на бегу головой, будто лошадь.
Впереди, на остром срезе камней вдруг столбиком вскинулась змея, качнулась в одну сторону, потом в другую – она словно бы не хотела пропускать людей дальше.
– Вот сучка! – нехорошо изумился Петраков. – Вот душманка!
Змея снова сделала качок в одну сторону, потом в другую. На груди у нее раздулся полосатый капюшон-слюнявчик. Кобра. Вообще-то кобры – благородные змеи, не то, что подленькие, помоечной плебейской закваски гюрзы; гюрза нападает исподтишка, внезапно, характер у нее – предательский, душманский – сегодня нашим, завтра вашим, а вот кобра – это совсем другой организм. Кобра никогда не нападает без предупреждения.
Кобра вновь метнулась в одну сторону, потом в другую, зашипела грозно.
– Уйди! – прохрипел ей Петраков просяще. – Не мешай нам!
Реакции никакой, словно кобра не понимала, о чем ее просит человек, а ведь она понимала, все хорошо понимала, – опять сделала резкий качок в сторону и в следующий миг напружинилась, готовясь к броску.
– Душманка! – Петракову не хотелось стрелять в эту красивую изящную змею, обладавшую отменной реакцией, – иногда кобра оказывалась быстрее пули, опережала выстрел. – Уйди!
Змея уйти не захотела, да и не успела – Леня Костин дал из-за спины Петракова короткую очередь, змея, складываясь, резко нырнула вниз и заскользила по пыльному крутому склону. На дно ущелья она не успеет шлепнуться – по дороге перехватит какой-нибудь хищный горный зверек, либо орел. Голодных душ в горах всегда бывает с избытком.
В ответ на Ленину очередь сзади также раздалась очередь – пули преследователей басовито вспороли воздух в стороне от спецназовцев.
До площадки оставалось совсем немного – менее трех километров.
– Вперед, Леня! – привычно скомандовал Петраков, захлебнулся горячим варевом – воздух попал ему в грудь, сделалось больно, Петраков, согнувшись на бегу, выбил из себя твердый комок, попробовал пошевелить перебитой рукой – рука не подчинилась ему. Хорошо хоть, что не обожгла болью.
Он перепрыгнул через длинную каменную плиту, на которой нежилось несколько крупных коричневых ящериц, взбил столб пыли и понесся дальше.
Хотелось пить. Во рту все горело. Пыль покрыла лицо, руки, одежду, она прилипла к зубам, к небу, на языке вообще лежала толстым слоем, будто была намазана, как вазелин. Слюна была коричневой, неприятно тягучей. Сзади снова раздалась автоматная очередь, следом – громкий гогот: душманы, осмелев, быстрой гибкой цепью понеслись за спецназовцами по излому хребта – только рыжая пыль взвилась в воздух столбом, накрыла азартный и злобный косяк преследователей.
– Халаты… – Костин выбил изо рта коричневый взболток, – халаты нас вновь настигают, командир!
– Посмотри, сколько времени… У меня рука не поднимается, часов не видно.
Время «че» еще не наступило, к вертолетчикам они успевали. Костин повалился за камень, выдернул из лифчика запасной рожок, положил его рядом с собою.
– Ты уходи, командир, – прокричал он Петракову, – уходи! Через десять минут я тебя догоню.
Легко сказать – уходи! А если Костина подстрелят – причем, подстрелят так, что он потеряет сознание и, беспомощного, беспамятного возьмут в плен? Сам Петраков, например, не боялся умереть, боялся раненым потерять сознание. Хотя самих ран, физической боли, пробитых пулями мышц тоже не боялся: сегодняшнее ранение у него пятнадцатое по счету. И орденов он имеет соответственно своим заслугам: два – Красного Знамени, один – Красной Звезды, еще есть ордена…
Он побежал вперед. Каждый шаг, каждый удар ноги о камень отзывался ударом в висках, там словно бы железом молотили о железо, удары оглушали его, в шее, в жилах, в ключицах сидела боль, колотилась внутри, словно бы собиралась выплеснуться, но выплеснуться не могла, сидела прочно. Слава Богу, раненая рука не болела – болталась тяжелым оковалухом, этаким мертвым бревнецом, но не болела…
Через пару минут сзади раздались выстрелы. Желтый густой воздух задрожал, он был похож на желе, которое можно резать ножом, что-то в нем начало перемещаться, пересыпаться, двигаться, в пробоины, оставленные пулями, также что-то потекло. Послышался тихий свистящий звук, он впивался в уши, мешал двигаться.
Попробовал пошевелить пальцами раненой руки – пальцы шевелились, но вяло – не было в них прежней силы и цепкости – видать, пуля перебила что-то важное – нерв, сочленение, какую-нибудь жилку, артерию, нитку. Петраков протестующе помотал головой – не хотелось в это верить. Выглянул из-за камня. Убитый душман лежал в прежней позе, из открытого рта вытекала струйка крови и на ней уже сидели мухи, мелкие рыжеватые твари, которые живут в горах на большой высоте: выведена эта популяция, видать, из орлиного помета, потому и не боится заоблачных высей.
Кроме убитого душка, никого не было видно – преследователи уже знали, как могут стрелять эти двое, потому и избирали одну и ту же тактику – отпускали спецназовцев вперед, на безопасное расстояние и только потом поднимались.
Петраков сглотнул слюну – твердый неудобный комок, возникший в глотке, – и, развернувшись, перебежал к следующему камню: надо было догонять Леню. Метров через тридцать догнал. Костин, увидев руку капитана, болезненно сморщился:
– Нарушаешь инструкцию, командир!
Он был прав – Петраков не имел права уходить в прикрытие. Это – дело других. Даже если этих других осталась всего-навсего одна боевая единица – Леня Костин.
– Вперед! – вместе со скрипучим кашлем выбил из себя Петраков, оглянулся – не зашевелились ли там душки, но ничего, кроме пыльных, каких-то неряшливо изломанных камней, громоздящихся друг на друге, не увидел.
Боль в раненой руке усилилась. Когда сделалось совсем невмоготу, Петраков скомандовал Лене:
– Стой!
Тот, словно бы налетев на невидимый забор, резко остановился. Замер. Медленно повернул голову.
– Прикрой меня, – попросил его Петраков, Костин поспешно перекатился за спину капитана и, выставив перед собой ствол автомата, слился с камнем.
Петраков выдернул из нагрудного кармана шприц, заранее заряженный обезболивающим раствором и запаянный в плотный пластик. Прямо через ткань вогнал себе в бицепс иголку. Выдернул шприц, вновь сунул его в карман и прохрипел привычно:
– Вперед!
Рука начала стремительно каменеть, потяжелела, сделалась чужой. Ладно, хоть теперь не будет болеть.
Воздух сгустился, от него стало странно попахивать гнилью, солнце растворилось в небе, сделалось нестерпимо жарким, разлилось по всему своду. Петраков поглубже натянул на нос панаму, сдул натекшие на глаза капли пота:
– Вперед!
Минут через десять душманы обозначились вновь: сзади раздалась длинная автоматная очередь – видать, душок засек вдали промельк двух фигур и попробовал достать «шурави» из автомата, но пули на излете выдыхались, они басовито, будто шмели, гудели где-то рядом и вреда спецназовцам не причиняли.
Когда втягиваешься в бег, когда камни мелькают перед глазами, сливаясь в одну длинную пыльную, нескончаемую ленту, тянутся, тянутся – ни остановить их, ни сменить на что-то другое, когда в теле, кажется, не осталось уже ни капли жидкости, даже крови, и той не осталось, невольно сам делаешься таким же камнем – грязным, неряшливого мышиного с рыжиной цвета, бездушным. И ничего внутри уже нет – ни души, ни сердца, ни сожаления, ни сочувствия, ни боли… Если боль появляется, то один легкий укол ликвидирует ее.
Правда, только на время – боль потом все равно возникает, и то, чему положено у человека отболеть, чтобы человек возродился, стал самим собою – обязательно отболит. Отболевает то, что человеку уготовано судьбой и природой. Так что заглушенная боль еще аукнется.
Сзади снова раздалась очередь такая же далекая, как и предыдущая, Петраков даже оглядываться на нее не стал, хотя можно было бы для острастки огрызнуться тремя-четырьмя выстрелами в ответ. Можно было бы, но… Патронов жалко, их у него с Леней Костиным осталось уже совсем немного.
Проворно скатились в седловину, пробежали по ней, четко впечатывая каблуки ботинок в пружинистую, будто дорогой ковер, пыль. Петраков попробовал было на бегу зацепиться пальцами раненой руки за каменный выступ, притормозиться – слишком уж он набрал на спуске скоростенку, так и кости растрясти можно, но пальцы, вцепившиеся было в камень, вяло соскользнули с него…
Самое опасное сейчас – подъем на противоположную сторону седловины, там они будут находиться у душманов словно на ладони. Если бы у Петракова были люди, он сработал бы по-другому – выставил засаду, которая задержала бы душков, сам спокойно пересек седловину, а потом с другой стороны, с закраины, прикрыл бы ребят, находившихся в засаде. Но сейчас на это не было ни людей, ни времени, ни сил, ни патронов.
С другой стороны, если поднапрячься, то можно взбежать на противоположный склон седловины раньше, чем тут появятся душманы… Под ноги капитану попал камень – сам вылез из бархатистой противной пыли, будто гнилой зуб, Петраков споткнулся о него и чуть не закувыркался, сделал длинный, вкось прыжок, оттолкнулся одной кроссовкой от валуна и устоял на ногах.
– Вперед! – привычно прохрипел он. – Быстрее!
Они успели достигнуть верхней точки седловины, оскользаясь в пыльной, стреляющей электрическим искорьем мякоти, взбежали на нее и едва успели нырнуть за камни, как с противоположной стороны раздалась автоматная очередь. Пули, впиваясь в пыльный бок седловины, рождали гулкий звук, бухали, будто в бочку. Костин высунул из-за камня автомат и дал ответную очередь.
На противоположной стороне седловины раздался крик, из-за камней вывалился бородатый мулла в халате и зеленой чалме, кулем покатился вниз, распластался на склоне, в пыли.
– Вперед! – привычно подогнал Костина Петраков, выкашлял изо рта черную твердую слюну, – осталось совсем немного.
Покрутив головой и выбив из глаз муть, электрические брызги, пыль, дымную порошу – что там еще может рождаться в глазах, когда человеку плохо? – Петраков согнулся и побежал вперед по ребровине хребта, будто по срезу городской крыши где-нибудь на Преображенке или в Замоскворечье. Справа в рыжую воздушную бездонь уползал мшистый бок горы, по крутому склону медленно катились струйки земли, рождающие в груди невольное беспокойство, слева в такую же бездонь уползал противоположный бок горы. Что там, на дне ущелий, по правую и левую стороны хребта, – не видно.
До площадки, на которую за ними должны были прибыть «вертушки», оставалось идти совсем немного. Мест, где могут приземлиться вертолеты, здесь раз-два и обчелся, пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать и, надо полагать, все они у душманов на примете, все пристреляны, на всех сидят свои «глаза и уши» – бородатые неразговорчивые наблюдатели. Вполне возможно, группе еще придется воевать, и что ждет ее впереди – никто не знает. Петраков пробовал прикинуть на ходу, как будет действовать, но все эти прикидки – от лукавого, ясно одно – действовать он будет по обстоятельствам.
– Вперед! – прохрипел Петраков заведено, помотал на бегу головой, будто лошадь.
Впереди, на остром срезе камней вдруг столбиком вскинулась змея, качнулась в одну сторону, потом в другую – она словно бы не хотела пропускать людей дальше.
– Вот сучка! – нехорошо изумился Петраков. – Вот душманка!
Змея снова сделала качок в одну сторону, потом в другую. На груди у нее раздулся полосатый капюшон-слюнявчик. Кобра. Вообще-то кобры – благородные змеи, не то, что подленькие, помоечной плебейской закваски гюрзы; гюрза нападает исподтишка, внезапно, характер у нее – предательский, душманский – сегодня нашим, завтра вашим, а вот кобра – это совсем другой организм. Кобра никогда не нападает без предупреждения.
Кобра вновь метнулась в одну сторону, потом в другую, зашипела грозно.
– Уйди! – прохрипел ей Петраков просяще. – Не мешай нам!
Реакции никакой, словно кобра не понимала, о чем ее просит человек, а ведь она понимала, все хорошо понимала, – опять сделала резкий качок в сторону и в следующий миг напружинилась, готовясь к броску.
– Душманка! – Петракову не хотелось стрелять в эту красивую изящную змею, обладавшую отменной реакцией, – иногда кобра оказывалась быстрее пули, опережала выстрел. – Уйди!
Змея уйти не захотела, да и не успела – Леня Костин дал из-за спины Петракова короткую очередь, змея, складываясь, резко нырнула вниз и заскользила по пыльному крутому склону. На дно ущелья она не успеет шлепнуться – по дороге перехватит какой-нибудь хищный горный зверек, либо орел. Голодных душ в горах всегда бывает с избытком.
В ответ на Ленину очередь сзади также раздалась очередь – пули преследователей басовито вспороли воздух в стороне от спецназовцев.
До площадки оставалось совсем немного – менее трех километров.
– Вперед, Леня! – привычно скомандовал Петраков, захлебнулся горячим варевом – воздух попал ему в грудь, сделалось больно, Петраков, согнувшись на бегу, выбил из себя твердый комок, попробовал пошевелить перебитой рукой – рука не подчинилась ему. Хорошо хоть, что не обожгла болью.
Он перепрыгнул через длинную каменную плиту, на которой нежилось несколько крупных коричневых ящериц, взбил столб пыли и понесся дальше.
Хотелось пить. Во рту все горело. Пыль покрыла лицо, руки, одежду, она прилипла к зубам, к небу, на языке вообще лежала толстым слоем, будто была намазана, как вазелин. Слюна была коричневой, неприятно тягучей. Сзади снова раздалась автоматная очередь, следом – громкий гогот: душманы, осмелев, быстрой гибкой цепью понеслись за спецназовцами по излому хребта – только рыжая пыль взвилась в воздух столбом, накрыла азартный и злобный косяк преследователей.
– Халаты… – Костин выбил изо рта коричневый взболток, – халаты нас вновь настигают, командир!
– Посмотри, сколько времени… У меня рука не поднимается, часов не видно.
Время «че» еще не наступило, к вертолетчикам они успевали. Костин повалился за камень, выдернул из лифчика запасной рожок, положил его рядом с собою.
– Ты уходи, командир, – прокричал он Петракову, – уходи! Через десять минут я тебя догоню.
Легко сказать – уходи! А если Костина подстрелят – причем, подстрелят так, что он потеряет сознание и, беспомощного, беспамятного возьмут в плен? Сам Петраков, например, не боялся умереть, боялся раненым потерять сознание. Хотя самих ран, физической боли, пробитых пулями мышц тоже не боялся: сегодняшнее ранение у него пятнадцатое по счету. И орденов он имеет соответственно своим заслугам: два – Красного Знамени, один – Красной Звезды, еще есть ордена…
Он побежал вперед. Каждый шаг, каждый удар ноги о камень отзывался ударом в висках, там словно бы железом молотили о железо, удары оглушали его, в шее, в жилах, в ключицах сидела боль, колотилась внутри, словно бы собиралась выплеснуться, но выплеснуться не могла, сидела прочно. Слава Богу, раненая рука не болела – болталась тяжелым оковалухом, этаким мертвым бревнецом, но не болела…
Через пару минут сзади раздались выстрелы. Желтый густой воздух задрожал, он был похож на желе, которое можно резать ножом, что-то в нем начало перемещаться, пересыпаться, двигаться, в пробоины, оставленные пулями, также что-то потекло. Послышался тихий свистящий звук, он впивался в уши, мешал двигаться.