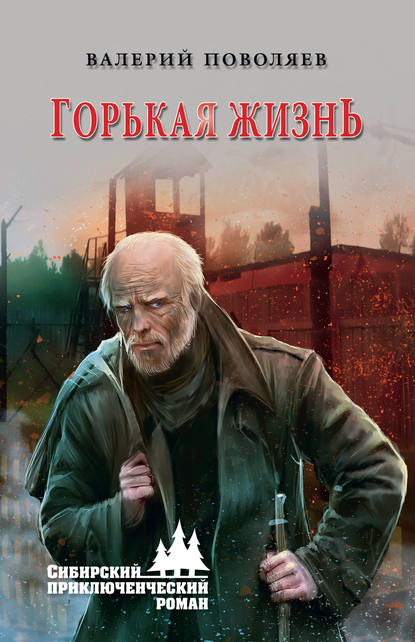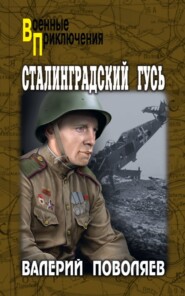По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Горькая жизнь
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Больше всего было жаль мать – она и так много хватила в пору блокады, заглянула даже на тот свет, но Всевышний распорядился вернуть ее назад.
Как она там, жива или нет, у кого узнать? Переписка Китаеву была запрещена. И еще один человечек находится в Ленинграде, о котором Китаеву хотелось что-нибудь узнать – Ирка, Ира, Иришка… Ирина Самсонова, если официально. Китаев познакомился с ней, когда получил на фронте отпуск и прикатил в Ленинград. Познакомился на набережной, напротив Эрмитажа – Ира сидела на парапете и зубрила тексты из какой-то мудреной книжки – готовилась поступать в технологический институт. Иногда вскидывала голову, задумчиво вглядывалась в свинцовую воду Невы, улыбалась чему-то своему, только ей ведомому и вновь углублялась в книгу. Китаев не знал, с какой стороны можно к ней подъехать – слишком уж девушка была погружена в процесс чтения, но все-таки изловчился, подъехал…
Наверное, орден ему помог – сиял на его гимнастерке так же призывно и лихо, как, наверное, сияют только звезды Героев Советского Союза. В результате Ира отложила книгу, и они пошли гулять по набережной Невы, затем заглянули в Летний сад. Там ели мороженое – вкус его Китаев ощущает до сих пор, хотя вон сколько времени прошло с той встречи – четыре с лишним года… Впрочем, на фронте он совсем забыл, что есть такая сладкая штука, как мороженое.
Несмотря на частые встречи с бравым солдатом с орденом на груди, отвлекавшего от наук абитуриентку, Ира Самсонова поступила в институт…
Где она сейчас, Ира Самсонова, тоненькая девочка с чистым лицом и большими серыми глазами, что сейчас поделывает и ждет ли его? Вряд ли ждет и вряд ли захочет связать свою судьбу с человеком и вообще с людьми, которых «кум», брезгливо отклячивая нижнюю губу, называет фашистами, берлинскими недобитками, гитлеровцами и так далее. Китаев стиснул зубы.
Слезная боль полоснула его по сердцу, но очень быстро прошла – Китаев научился справляться с такой болью.
Качаясь в колонне в такт движению, кося глаза на автомат Житнухина, Китаев отметил, что башмаки, славная обувка зековская, стучат по земле, как твердые подошвы ладных офицерских сапог, рождают в душе бравую мелодию – несмотря ни на что рождают, вот ведь как… У Китаева на глазах проступила влага. На ходу он стер ее грязным кулаком.
Обеденный привал «кум» сделал через три часа – усадил колонну на дорогу, велел отдыхать, сам же занялся продуктовым мешком – раздернул горловину, достал из неглубокого, но вместительного нутра кулек с пирожками.
Пирожки жена приготовила двух видов: с повидлом и капустой, внешне они ничем не отличались друг от друга, «кума» это разозлило и он обругал жену:
– Вот сука!
Наугад он выбрал пирожок с капустой, решил начать с него трапезу, но когда надкусил, то изо рта у «кума» потекла сладкая сливовая начинка, прилипла к подбородку.
Обманутый едок еще раз выругал жену:
– Вот с-сука! – посмотрел на надкушенный пирожок, поморщился недовольно и зашвырнул его в большой запыленный куст.
Сразу несколько зеков, сидевших на дороге, вскочили, чтобы кинуться за лакомой вещью. В то же мгновение, пресекая любую попытку выйти за пределы дороги, клацнули затворы нескольких автоматов.
– Наза-ад! – выкрикнул, наливаясь кровью, Житнухин. Лицо у него мгновенно сделалось свекольно-ярким. Житнухин вскинул перед собою автомат, осталось только надавить пальцем на спусковой крючок.
Вскочившие было зеки поспешно шлепнулись на дорогу, взбили облако пыли. «Кум» ухмыльнулся, достал из своей торбы второй пирожок. На этот раз он угадал – пирожок был начинен капустой. То самое, что он хотел…
Распахнул «кум» рот пошире и всадил в пирожок зубы. Сладкие пирожки – это еда на закуску, а вот пирожки с капустой да с луком, сдобренным мелко накрошенными куриными яйцами, – то самое, что надо. «Кум» не удержался, растянул набитый едой рот в улыбке, широко растянул, так что из него начала сыпаться еда… Влажная жеванина, да прямо на китель… «Некультурственно!»
Сидевшие в Гулаге по-разному называли таких людей, как «кум». Можно составить целый словарь (и наверняка такой словарь уже составлен где-нибудь в лагерных глубинах) – и «фюрерами», и «табунщиками», и «вертухаями», и «хаблом», и «утюгами», и «железными носами», и «браминами», и «мордюками», и «пупкарями», и «судаками», и «тремя сбоку», и «цилерщиками», и «кандюками»… Список можно продолжать долго. Конечно, всех прозвищ Китаев не знал, но как человек любопытный, наученный разведкой все запоминать, даже самые неприметные мелочи, знал очень многое.
Через пятнадцать минут «кум» насытился, вохровцы-охранники – тоже, и колонна голодных зеков была поднята на ноги.
– Потерпите, господа гитлеровцы, – подбодрил заключенных «кум». – Бог терпел и вам велел. Завтракать будете вечером, когда придем на место. Вперед!
Колонна, стеная, притопывая башмаками, плюясь, двинулась дальше.
На севере, от станции Чум, а еще точнее, – от Воркуты было начато строительство новой железной дороги, чтобы пустить ее на восток, к Салехарду, а затем еще дальше – к Надыму. Решение такое – вполне дальновидное, хозяйское, нужное для страны, было принято самим Сталиным.
На Северном Урале геологи разведали нешуточные запасы цветных металлов, в том числе и золота, и черного металла, как в ту пору называли железо, и угля. Во многих местах болота были покрыты радужными бензиновыми разводами – это означало, что откуда-то из-под земли, из-под болотной бездони, богато населенной нечистой силой, на поверхность просачивается нефть… Значит, здесь есть и нефть, ее только надо найти.
Ну а кроме нефти – несметь всего иного: марганец, хром, цинк, медь, свинец, бокситы, фосфориты, бариты. Все это было очень нужно измученной войной стране, хозяйство которой за годы с сорок первого по сорок пятый было опрокинуто и лежало сейчас на боку. Возникло огромное количество дыр, которые надо было спешно латать. На все это не всегда хватало времени, но не время было главным – не хватало материалов.
Чтобы подобраться к северным богатствам, нужно было построить толковую, очень качественную железную дорогу. Без нее ни хромиты, ни железную руду, ни цинк с медью не вывезти.
Вспомогательная железная дорога имелась, с трудом проложенная, среди болот и мерзлотных линз, – до Воркуты. В шахтерскую Воркуту можно было попасть прямо из Москвы, с Ярославского вокзала, но дороги этой было недостаточно даже для того, чтобы подступиться к месторождениям, не говоря уже о том, чтобы взять их.
Нужна была специальная ветка, которая уходила бы в сторону от главной воркутинской трассы на восток; если смотреть на карту, то вправо. Сталин так и указал это направление – вправо!
Нашел на карте одинокую белую точку, обозначавшую станцию, ткнул в нее торцом толстого красного карандаша и прочертил невидимую линию вдоль берега Северного Ледовитого океана.
– Ведем дорогу сюда, – сказал вождь.
Одинокой белой точкой оказалась станция Абезь. И хотя Сталин не настаивал, чтобы дорогу вели именно от Абези, начало свое она взяла на этой станции. Были созданы две гигантских зековских стройки: одна шла с запада на восток и имела номер 501, другая шла из-за Оби, с востока на запад и получила номер 503. Их так и называли: пятьсот первая стройка и пятьсот третья.
И Китаев, и Егорунин, и Христинин, и большинство из тех, кто находился рядом с ними, хватили всего под завязку в лагерях, рассредоточенных в окрестностях Абези. Иногда зеков без особой нужды перебрасывали из одного лагеря в другой, хотя были они возведены по кальке и ничем не различались. Разница, вполне возможно, была только в том, что в одном лагере «кумовья» подобрались подобрее, попокладистее, не обзывали честно воевавших фронтовиков фашистами и не пускали в ход кулаки и приклады, в другом же, наоборот, не стеснялись ни в выражениях, ни в действиях. Других отличий не было.
Каждый лагерь – это тридцать – тридцать пять наскоро, иногда даже временно, на месяц-два построенных бараков, но, как известно, ничего не бывает более постоянного, чем временно возведенные строения. Число зеков в каждом лагере – внушительное, часто – более пяти тысяч человек.
В бараке обычно стояли две печки, сваренные из железных бочек. Топили их так, что с потолка лился частый, как июльские ливни, дождь, очень вонючий, а углы барака, низы стенок бывали покрыты снежной махрой. Там даже стоять было нельзя – можно застыть, обратиться в лед, рубаха примерзала к спине, а во рту хрумкал лед.
Каждый лагерь, как и всякая тюрьма, имел свой «фирменный» запах, очень часто тяжелый, тошнотный, способный вышибить из глаз слезы. Длина у стандартного барака – немалая, пятьдесят метров, двух печек было явно недостаточно. В барак, заставленный двухъярусными нарами, способно набиться до пятисот человек, а иногда и больше…
В сырую пору, типичную для севера, люди в барак приходили мокрые, пропитанные дождем либо снегом насквозь, растапливали печки, пробовали сушиться, но ничего из этого не получалось – с потолка начинал лить искусственный дождь, а в углах скапливался мороз. Утром зеки в непросохшей одежде выскакивали из барака на утреннюю перекличку, а потом уходили на работу в лес.
Каждый день умирали люди, иногда по нескольку человек на барак. С мертвыми не церемонились, хватали за ноги, за руки и волокли к отдельному сараю, где трупы складывали в штабеля. Китаев, несмотря на то, что в блокаду видел сотни трупов, видел их и на фронте, к трупному сараю старался не подходить – его мутило.
Особенно плохо было, когда среди трупов оказывались женщины, иногда – совсем юные девчонки, лет восемнадцати, не больше, с посиневшими запавшими лицами, с заостренными носами. Одна такая девушка запомнилась особенно.
Она умудрилась сохранить в лагере свои волосы.
Все зечки волосы свои стригут коротко, чтобы вшам не было за что зацепиться, да и обходиться с короткими волосами проще – в суп не лезут. Туго повязывают на головы косынки, держат, как они говорят в таких случаях, «шевелюру в кулаке». Мертвая же девушка, лежавшая около трупного сарая, попала в лагерь, видать, недавно, волосы по-тюремному не остригла, сберегла либо просто не успела обрезать… И рассыпалась тугая золотистая грива широко, накрыла синие лица других покойников. У Китаева сердце защемило так сильно, что он чуть не заплакал. И сидят-то девчонки в северных лагерях ни за что, сроки получают, по свидетельству бывалых людей, «за колоски».
На каждом колхозном поле после уборки хлеба обязательно остаются несрезанные колоски – не попавшие под серп, под косу-литовку, под мотовило и режущий инструмент комбайна. Поскольку послевоенная пора разносолами не отличалась, то каждая пайка хлеба находилась на счету, учитывалась, люди устремлялись на убранные поля за колосками – не пропадать же несрезанному добру, из колосков пшеницы или ржи можно испечь буханку хлеба. Этих людей ловили – собирать колоски была запрещено, это – привилегия государства. Получали задержанные – в основном, молодые люди, девчонки, только что окончившие школу, – тюремный срок: от пяти до семи лет.
Если колосков набиралось много – например, мешок, – могли получить двенадцать лет. Могли даже дать пятнадцать лет – все зависело от судьи и прокурора.
Даже за опоздание на работу давали срок – пять лет.
Проклятое время! При всем том Китаев был уверен, что Сталин в жестокости этого времени не был виноват совершенно, виноваты другие люди, которые докладывали вождю лживые факты, правду скрывали, и Верховный Главнокомандующий был совершенно не в курсе того, что на самом деле происходило в правоохранительной системе.
Иногда зеки совершали из лагерей побеги… Женщины, например, никогда в них не участвовали. Да и мужчины долго сомневались, стоит затеваться или нет, скребли пальцами затылки, решая шекспировский вопрос: бежать или не бежать?
Зимой тут стоит мороз такой, что во рту смерзаются зубы, а летом нет никакого спасения от гнуса. Гнус – мелкая колючая мошка, способная человека сгрызть живьем, набивается ее в огромных пространствах столько, что всякий светлый день становится серым, воздух дрожит, шевелится от мошки, будто живой, по плотности он напоминает студень – страшнее гнуса в Приполярье нет ничего… Страшнее может быть только другая мошка, более зубастая.
Удачных побегов здесь практически не было, это – закон для северных широт. В южных зонах, где-нибудь в Таганроге или даже в городе Владимире, – сколько угодно, а тут – нет. Беглеца гнус либо загрызет до смерти и выпьет из него кровь, либо загонит в трясину, в грязную вонючую бездонь, и от человека не останется даже малых следов, либо волки схарчат его на закате одного из недобрых осенних дней и запьют болотной водицей – в общем, у всех беглецов, если они примут решение пожить еще немного на белом свете, останется одно – вернуться назад, в лагерь. А уж там как карта распределится на начальственном столе: при плохом раскладе расстреляют, при хорошем – за побег увеличат срок пребывания в лагере либо заставят на обед есть колючую проволоку. В общем, все будет зависеть от того, с какой ноги начальник встанет утром – с левой или с правой.
Автомобильных дорог здесь почти нет. Если есть, то очень короткие, дальше не пускают болота с их бездонной трясиной. Есть еще железная дорога, ведущая в Воркуту, но она одна – узкая, уязвимая, каждый метр ее находится под присмотром вохровских глаз, каждый сантиметр пристрелян из винтовок.
А женщин в суровых здешних лагерях сидит очень много, и большинство из них определили за колючую проволоку буквально ни за что. Встречаются такие, которые за кражу катушки ниток получили восемь лет, если не за нитки, то за метровый отрезок ситца, засунутый в сумку, чтобы крохотной дочке сшить платье – девчушку не во что было одеть. В результате – те же восемь лет.
Китаев видел таких женщин в лесу, на заготовках. Норма на двух обессилевших несчастных девчонок – пять кубометров. Та самая норма, которую не все мужики могут выполнить: из пяти кубов можно соорудить хороший дом.
Хочется помочь таким девчонкам, и многие мужики-зеки помогли бы им, а нельзя – мордастый вохровец, какой-нибудь Житнухин тут же огреет прикладом, врежет по спине так, что только кости захрумкают, затрещат, застонут, а потом еще долго будут помнить вохровский приклад. Так что помогать нельзя, можно только молиться за бедных женщин, и те, кто умеет молиться – молятся.
Как она там, жива или нет, у кого узнать? Переписка Китаеву была запрещена. И еще один человечек находится в Ленинграде, о котором Китаеву хотелось что-нибудь узнать – Ирка, Ира, Иришка… Ирина Самсонова, если официально. Китаев познакомился с ней, когда получил на фронте отпуск и прикатил в Ленинград. Познакомился на набережной, напротив Эрмитажа – Ира сидела на парапете и зубрила тексты из какой-то мудреной книжки – готовилась поступать в технологический институт. Иногда вскидывала голову, задумчиво вглядывалась в свинцовую воду Невы, улыбалась чему-то своему, только ей ведомому и вновь углублялась в книгу. Китаев не знал, с какой стороны можно к ней подъехать – слишком уж девушка была погружена в процесс чтения, но все-таки изловчился, подъехал…
Наверное, орден ему помог – сиял на его гимнастерке так же призывно и лихо, как, наверное, сияют только звезды Героев Советского Союза. В результате Ира отложила книгу, и они пошли гулять по набережной Невы, затем заглянули в Летний сад. Там ели мороженое – вкус его Китаев ощущает до сих пор, хотя вон сколько времени прошло с той встречи – четыре с лишним года… Впрочем, на фронте он совсем забыл, что есть такая сладкая штука, как мороженое.
Несмотря на частые встречи с бравым солдатом с орденом на груди, отвлекавшего от наук абитуриентку, Ира Самсонова поступила в институт…
Где она сейчас, Ира Самсонова, тоненькая девочка с чистым лицом и большими серыми глазами, что сейчас поделывает и ждет ли его? Вряд ли ждет и вряд ли захочет связать свою судьбу с человеком и вообще с людьми, которых «кум», брезгливо отклячивая нижнюю губу, называет фашистами, берлинскими недобитками, гитлеровцами и так далее. Китаев стиснул зубы.
Слезная боль полоснула его по сердцу, но очень быстро прошла – Китаев научился справляться с такой болью.
Качаясь в колонне в такт движению, кося глаза на автомат Житнухина, Китаев отметил, что башмаки, славная обувка зековская, стучат по земле, как твердые подошвы ладных офицерских сапог, рождают в душе бравую мелодию – несмотря ни на что рождают, вот ведь как… У Китаева на глазах проступила влага. На ходу он стер ее грязным кулаком.
Обеденный привал «кум» сделал через три часа – усадил колонну на дорогу, велел отдыхать, сам же занялся продуктовым мешком – раздернул горловину, достал из неглубокого, но вместительного нутра кулек с пирожками.
Пирожки жена приготовила двух видов: с повидлом и капустой, внешне они ничем не отличались друг от друга, «кума» это разозлило и он обругал жену:
– Вот сука!
Наугад он выбрал пирожок с капустой, решил начать с него трапезу, но когда надкусил, то изо рта у «кума» потекла сладкая сливовая начинка, прилипла к подбородку.
Обманутый едок еще раз выругал жену:
– Вот с-сука! – посмотрел на надкушенный пирожок, поморщился недовольно и зашвырнул его в большой запыленный куст.
Сразу несколько зеков, сидевших на дороге, вскочили, чтобы кинуться за лакомой вещью. В то же мгновение, пресекая любую попытку выйти за пределы дороги, клацнули затворы нескольких автоматов.
– Наза-ад! – выкрикнул, наливаясь кровью, Житнухин. Лицо у него мгновенно сделалось свекольно-ярким. Житнухин вскинул перед собою автомат, осталось только надавить пальцем на спусковой крючок.
Вскочившие было зеки поспешно шлепнулись на дорогу, взбили облако пыли. «Кум» ухмыльнулся, достал из своей торбы второй пирожок. На этот раз он угадал – пирожок был начинен капустой. То самое, что он хотел…
Распахнул «кум» рот пошире и всадил в пирожок зубы. Сладкие пирожки – это еда на закуску, а вот пирожки с капустой да с луком, сдобренным мелко накрошенными куриными яйцами, – то самое, что надо. «Кум» не удержался, растянул набитый едой рот в улыбке, широко растянул, так что из него начала сыпаться еда… Влажная жеванина, да прямо на китель… «Некультурственно!»
Сидевшие в Гулаге по-разному называли таких людей, как «кум». Можно составить целый словарь (и наверняка такой словарь уже составлен где-нибудь в лагерных глубинах) – и «фюрерами», и «табунщиками», и «вертухаями», и «хаблом», и «утюгами», и «железными носами», и «браминами», и «мордюками», и «пупкарями», и «судаками», и «тремя сбоку», и «цилерщиками», и «кандюками»… Список можно продолжать долго. Конечно, всех прозвищ Китаев не знал, но как человек любопытный, наученный разведкой все запоминать, даже самые неприметные мелочи, знал очень многое.
Через пятнадцать минут «кум» насытился, вохровцы-охранники – тоже, и колонна голодных зеков была поднята на ноги.
– Потерпите, господа гитлеровцы, – подбодрил заключенных «кум». – Бог терпел и вам велел. Завтракать будете вечером, когда придем на место. Вперед!
Колонна, стеная, притопывая башмаками, плюясь, двинулась дальше.
На севере, от станции Чум, а еще точнее, – от Воркуты было начато строительство новой железной дороги, чтобы пустить ее на восток, к Салехарду, а затем еще дальше – к Надыму. Решение такое – вполне дальновидное, хозяйское, нужное для страны, было принято самим Сталиным.
На Северном Урале геологи разведали нешуточные запасы цветных металлов, в том числе и золота, и черного металла, как в ту пору называли железо, и угля. Во многих местах болота были покрыты радужными бензиновыми разводами – это означало, что откуда-то из-под земли, из-под болотной бездони, богато населенной нечистой силой, на поверхность просачивается нефть… Значит, здесь есть и нефть, ее только надо найти.
Ну а кроме нефти – несметь всего иного: марганец, хром, цинк, медь, свинец, бокситы, фосфориты, бариты. Все это было очень нужно измученной войной стране, хозяйство которой за годы с сорок первого по сорок пятый было опрокинуто и лежало сейчас на боку. Возникло огромное количество дыр, которые надо было спешно латать. На все это не всегда хватало времени, но не время было главным – не хватало материалов.
Чтобы подобраться к северным богатствам, нужно было построить толковую, очень качественную железную дорогу. Без нее ни хромиты, ни железную руду, ни цинк с медью не вывезти.
Вспомогательная железная дорога имелась, с трудом проложенная, среди болот и мерзлотных линз, – до Воркуты. В шахтерскую Воркуту можно было попасть прямо из Москвы, с Ярославского вокзала, но дороги этой было недостаточно даже для того, чтобы подступиться к месторождениям, не говоря уже о том, чтобы взять их.
Нужна была специальная ветка, которая уходила бы в сторону от главной воркутинской трассы на восток; если смотреть на карту, то вправо. Сталин так и указал это направление – вправо!
Нашел на карте одинокую белую точку, обозначавшую станцию, ткнул в нее торцом толстого красного карандаша и прочертил невидимую линию вдоль берега Северного Ледовитого океана.
– Ведем дорогу сюда, – сказал вождь.
Одинокой белой точкой оказалась станция Абезь. И хотя Сталин не настаивал, чтобы дорогу вели именно от Абези, начало свое она взяла на этой станции. Были созданы две гигантских зековских стройки: одна шла с запада на восток и имела номер 501, другая шла из-за Оби, с востока на запад и получила номер 503. Их так и называли: пятьсот первая стройка и пятьсот третья.
И Китаев, и Егорунин, и Христинин, и большинство из тех, кто находился рядом с ними, хватили всего под завязку в лагерях, рассредоточенных в окрестностях Абези. Иногда зеков без особой нужды перебрасывали из одного лагеря в другой, хотя были они возведены по кальке и ничем не различались. Разница, вполне возможно, была только в том, что в одном лагере «кумовья» подобрались подобрее, попокладистее, не обзывали честно воевавших фронтовиков фашистами и не пускали в ход кулаки и приклады, в другом же, наоборот, не стеснялись ни в выражениях, ни в действиях. Других отличий не было.
Каждый лагерь – это тридцать – тридцать пять наскоро, иногда даже временно, на месяц-два построенных бараков, но, как известно, ничего не бывает более постоянного, чем временно возведенные строения. Число зеков в каждом лагере – внушительное, часто – более пяти тысяч человек.
В бараке обычно стояли две печки, сваренные из железных бочек. Топили их так, что с потолка лился частый, как июльские ливни, дождь, очень вонючий, а углы барака, низы стенок бывали покрыты снежной махрой. Там даже стоять было нельзя – можно застыть, обратиться в лед, рубаха примерзала к спине, а во рту хрумкал лед.
Каждый лагерь, как и всякая тюрьма, имел свой «фирменный» запах, очень часто тяжелый, тошнотный, способный вышибить из глаз слезы. Длина у стандартного барака – немалая, пятьдесят метров, двух печек было явно недостаточно. В барак, заставленный двухъярусными нарами, способно набиться до пятисот человек, а иногда и больше…
В сырую пору, типичную для севера, люди в барак приходили мокрые, пропитанные дождем либо снегом насквозь, растапливали печки, пробовали сушиться, но ничего из этого не получалось – с потолка начинал лить искусственный дождь, а в углах скапливался мороз. Утром зеки в непросохшей одежде выскакивали из барака на утреннюю перекличку, а потом уходили на работу в лес.
Каждый день умирали люди, иногда по нескольку человек на барак. С мертвыми не церемонились, хватали за ноги, за руки и волокли к отдельному сараю, где трупы складывали в штабеля. Китаев, несмотря на то, что в блокаду видел сотни трупов, видел их и на фронте, к трупному сараю старался не подходить – его мутило.
Особенно плохо было, когда среди трупов оказывались женщины, иногда – совсем юные девчонки, лет восемнадцати, не больше, с посиневшими запавшими лицами, с заостренными носами. Одна такая девушка запомнилась особенно.
Она умудрилась сохранить в лагере свои волосы.
Все зечки волосы свои стригут коротко, чтобы вшам не было за что зацепиться, да и обходиться с короткими волосами проще – в суп не лезут. Туго повязывают на головы косынки, держат, как они говорят в таких случаях, «шевелюру в кулаке». Мертвая же девушка, лежавшая около трупного сарая, попала в лагерь, видать, недавно, волосы по-тюремному не остригла, сберегла либо просто не успела обрезать… И рассыпалась тугая золотистая грива широко, накрыла синие лица других покойников. У Китаева сердце защемило так сильно, что он чуть не заплакал. И сидят-то девчонки в северных лагерях ни за что, сроки получают, по свидетельству бывалых людей, «за колоски».
На каждом колхозном поле после уборки хлеба обязательно остаются несрезанные колоски – не попавшие под серп, под косу-литовку, под мотовило и режущий инструмент комбайна. Поскольку послевоенная пора разносолами не отличалась, то каждая пайка хлеба находилась на счету, учитывалась, люди устремлялись на убранные поля за колосками – не пропадать же несрезанному добру, из колосков пшеницы или ржи можно испечь буханку хлеба. Этих людей ловили – собирать колоски была запрещено, это – привилегия государства. Получали задержанные – в основном, молодые люди, девчонки, только что окончившие школу, – тюремный срок: от пяти до семи лет.
Если колосков набиралось много – например, мешок, – могли получить двенадцать лет. Могли даже дать пятнадцать лет – все зависело от судьи и прокурора.
Даже за опоздание на работу давали срок – пять лет.
Проклятое время! При всем том Китаев был уверен, что Сталин в жестокости этого времени не был виноват совершенно, виноваты другие люди, которые докладывали вождю лживые факты, правду скрывали, и Верховный Главнокомандующий был совершенно не в курсе того, что на самом деле происходило в правоохранительной системе.
Иногда зеки совершали из лагерей побеги… Женщины, например, никогда в них не участвовали. Да и мужчины долго сомневались, стоит затеваться или нет, скребли пальцами затылки, решая шекспировский вопрос: бежать или не бежать?
Зимой тут стоит мороз такой, что во рту смерзаются зубы, а летом нет никакого спасения от гнуса. Гнус – мелкая колючая мошка, способная человека сгрызть живьем, набивается ее в огромных пространствах столько, что всякий светлый день становится серым, воздух дрожит, шевелится от мошки, будто живой, по плотности он напоминает студень – страшнее гнуса в Приполярье нет ничего… Страшнее может быть только другая мошка, более зубастая.
Удачных побегов здесь практически не было, это – закон для северных широт. В южных зонах, где-нибудь в Таганроге или даже в городе Владимире, – сколько угодно, а тут – нет. Беглеца гнус либо загрызет до смерти и выпьет из него кровь, либо загонит в трясину, в грязную вонючую бездонь, и от человека не останется даже малых следов, либо волки схарчат его на закате одного из недобрых осенних дней и запьют болотной водицей – в общем, у всех беглецов, если они примут решение пожить еще немного на белом свете, останется одно – вернуться назад, в лагерь. А уж там как карта распределится на начальственном столе: при плохом раскладе расстреляют, при хорошем – за побег увеличат срок пребывания в лагере либо заставят на обед есть колючую проволоку. В общем, все будет зависеть от того, с какой ноги начальник встанет утром – с левой или с правой.
Автомобильных дорог здесь почти нет. Если есть, то очень короткие, дальше не пускают болота с их бездонной трясиной. Есть еще железная дорога, ведущая в Воркуту, но она одна – узкая, уязвимая, каждый метр ее находится под присмотром вохровских глаз, каждый сантиметр пристрелян из винтовок.
А женщин в суровых здешних лагерях сидит очень много, и большинство из них определили за колючую проволоку буквально ни за что. Встречаются такие, которые за кражу катушки ниток получили восемь лет, если не за нитки, то за метровый отрезок ситца, засунутый в сумку, чтобы крохотной дочке сшить платье – девчушку не во что было одеть. В результате – те же восемь лет.
Китаев видел таких женщин в лесу, на заготовках. Норма на двух обессилевших несчастных девчонок – пять кубометров. Та самая норма, которую не все мужики могут выполнить: из пяти кубов можно соорудить хороший дом.
Хочется помочь таким девчонкам, и многие мужики-зеки помогли бы им, а нельзя – мордастый вохровец, какой-нибудь Житнухин тут же огреет прикладом, врежет по спине так, что только кости захрумкают, затрещат, застонут, а потом еще долго будут помнить вохровский приклад. Так что помогать нельзя, можно только молиться за бедных женщин, и те, кто умеет молиться – молятся.