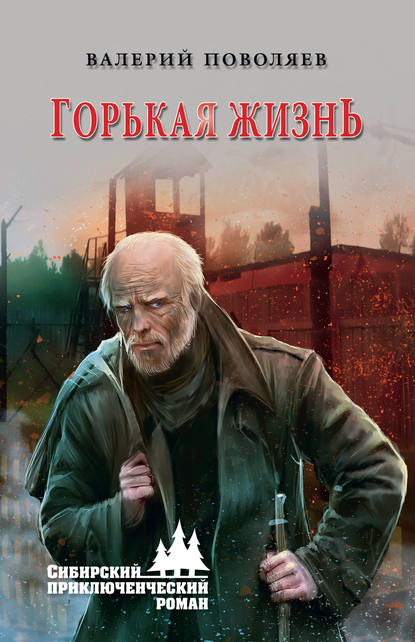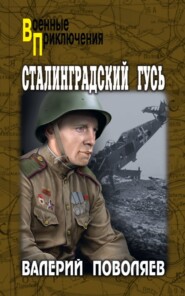По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Горькая жизнь
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хотя земля здешняя – проклятая. Молись не молись – все едино: молитвы не помогут, слишком сильное наложено проклятие.
За день колонна голодных зеков смогла отшагать восемнадцать километров. Ни одного человека не было потеряно, и «кум» этим обстоятельством был доволен. На ночь будущих строителей железной дороги определили в загон, сооруженный из колючей проволоки, по углам загона поставили дежурных пулеметчиков: «кум» посчитал, что у зеков может возникнуть соблазн убежать – ветер воли вскружит любую, даже дубовую голову, вскипятит любые мозги – слишком уж велика тяга у людей к свободе. Особенно у зеков четвертого барака, «политиков», прошедших фронт, знающих, чем пахнет кровь, – звери эти, как считал «кум», умеют убивать «венцы природы» одним пальцем и при случае умением этим могут воспользоваться.
Здесь, в загоне, колонну и покормили – привезли несколько бачков холодной «шрапнели» – перловой каши, сваренной еще два дня назад, а в мешках – хлеб. Каждому выдали по двести пятьдесят граммов хлеба. Мало, очень мало, но «кум» бодрым, каким-то заливающимся, будто у весенней птицы голосом пообещал, что утром будет новый подвоз еды, каждый получит свое сполна, в том числе и то, что недодали.
Следом за колонной фашистов, как стало известно из лагерного «радио», шли еще три колонны, сформированные из уголовников, – они отстали от колонны «кума» и были определены на ночевку в другие проволочные загоны. Соответственно у них осела и большая часть еды – уголовники получили по полной пайке.
Один из «политиков» – Китаев слышал, что в прошлом он командовал полком и воевал под Прагой даже после девятого мая: эсэсовские части сопротивлялись до конца месяца, – подошел к «куму» и спросил:
– Добавка будет, гражданин начальник? Не то после целого дня голодухи нам не выдержать…
– Будет добавка, – пообещал «кум», – обязательно будет, – похлопал рукой по кобуре тяжелого пистолета, висевшего у него на поясе. – Девять граммов каждому, кто захочет наесться от пуза. – «Кум» оскорбительно захохотал, собственная шутка ему показалась удачной. В следующий миг увидев, что бывший комполка не уходит и, возможно, будет требовать чего-нибудь еще, прохрипел яростно:
– Пошел вон отсюда, фашист!
Зек, пристально глядя на «кума», только головой покачал укоризненно – был он старше младшего лейтенанта лет на двадцать, голова его уже стала белой от седины; «куму» такая непочтительность не понравилась и он без размаха, коротко и умело, ударил бывшего комполка кулаком в живот, в самый низ груди – солнечное сплетение всегда было у человека очень уязвимой, болезненной точкой.
Комполка охнул, согнулся едва ли не пополам, втыкаясь лицом в собственные колени, показал «куму» незащищенную шею, и тот не удержался от соблазна, всадил кулак в эту шею. Комполка ткнулся седой головой в землю.
– Еще кто-нибудь хочет добавки? – зычным напрягшимся голосом поинтересовался «кум», выпрямился горделиво, будто историческая личность, взобравшаяся на пьедестал памятника.
Зеки – вчерашние фронтовики, сидя на земле, мрачно смотрели на «кума», сплевывали себе под ноги. Егорунин попробовал дернуться, вскочить, но сидевший рядом с ним Китаев ухватил за полу телогрейки, осадил.
– Ты чего, сдурел? – просипел он едва слышно. – Тебя сейчас же насадят на автоматную очередь. Как мясо на шампур.
– Верно, – Егорунин повесил голову, желваки на его щеках напряглись, сделались железными.
Комполка тем временем оторвал голову от земли, сплюнул кровь, натекшую в рот.
– А тебе, фашист, чего надо было, а? Ты чего, против ветра ссать решил? Чего поднялся-то? – «кум», сопровождаемый Житнухиным, подошел к Егорунину, встал в стойку, чтобы удобнее было бить. – А? – глаза у «кума» сделались белыми, ничего хорошего это не предвещало. – А?
– Камень под задницу попал, вот и пришлось приподняться, – прохрипел в ответ Егорунин.
– Фашист – он и есть фашист, ничто его не перевоспитает, – «кум» оттянул правую ногу и ударил Егорунина; увидев, что зек пытается прикрыть бока локтями, чтобы от ударов не пострадали ребра, разозлился и ударил бывшего старлея еще раз. – Гитлер капут!
Вскоре на проволочный загон, освещенный по углам кострами, чтобы были видны заключенные, опустился нездоровый холодный сон. Даже охранникам, привыкшим ко всякому, искренне ненавидевшим зеков, иногда делалось не по себе. Люди лежали на влажной земле, лишь кое-где прикрытой ветками, травой, положив под голову свои жалкие манатки, дергались в воющем комарином мареве, в тучах гнуса, вскрикивали, просили помощи, звали в атаку, стонали, выли протяжно, задушенно, просыпались и, усталые, выжатые до основания, отупевшие, тут же засыпали вновь.
Страшно становилось охранникам, ведь перед ними лежали фронтовики – опытные, умеющие бить врагов, обладающие приемами рукопашных схваток, которые могли скрутить вохровцев в несколько минут, поотнимать у них автоматы и, связав одной веревкой, расстелить рядком на жидкой, придавленной непогодой траве.
Вохровцы, зная, что с ними могут сделать фронтовики, не выпускали из рук оружия, жались друг к другу и тревожно поглядывали на стонущих, хрипящих, вскрикивающих, обессиленных людей. В глазах их был страх – они боялись зеков.
Утром колонна двинулась дальше – на восток, в прохладное розовое пространство, рябое от гнуса и комаров. Спасением от этих гадов был лишь встречный ветер, но он был слабым и часто, едва возникнув, угасал.
Колонне предстояло пройти еще восемнадцать километров. Там ее ожидал новый загон, который, в отличие от первого, надо было обустраивать – туда уже и лес подвезли, и две армейские кухни на автомобильных колесах, и сторожевые вышки установили. А вот что касается крыши над головой, то ее зеки должны были соорудить сами.
– По своему вкусу и способностям, – ухмылялся, трясясь в неудобном седле, «кум». – И чем быстрее вы, фашисты, это сделаете, тем меньше будете ночевать под открытым небом.
У лагерного начальства для будущих строителей сталинской железной дороги не нашлось даже старых рваных палаток, списанных из воинских частей, чтобы хоть на первых порах прикрыться от дождя и снега, – а снег, между прочим, здесь может запросто выпасть в середине лета, – от лютых, прошибающих до костей ветров и печного жара, способного опуститься на землю на следующий день после летнего снега.
Надо было держаться, жить и думать о завтрашнем дне, о том, как дотянуть до него, как сохранить себя на жалкой пайке хлеба в триста граммов и супе из ячневой крупы, заправленном несвежей рыбой.
Китаеву на память пришел лагерный сарай с мертвецами. Зимой к этому неказистому помещению подгоняли трактор с санями, замерзшие до каменной твердости тела складывали в сани – получалась приличная гора, – вывозили эту гору в карьер, там тела заваливал землей бульдозер – вечные квартиры здесь научились сооружать быстрее квартир временных.
Один из нарядчиков четвертого барака подсчитал, что в неделю трактор вывозил из лагеря, а могильщик-бульдозер закапывал около сотни человек. Люди, бывшие еще вчера живыми, имевшие имя и фамилию, родичей и свою судьбу, мечты и профессию, оказывались никем в безымянных могилах. Никто никогда уже не отыщет их. Так что жить надо было хотя бы ради того, чтобы не оказаться в безымянной могиле, чтобы на воле увидеть и обнять мать, своего брата, пропавшего на войне. Китаев не верил, что он погиб, считал, что старший брат жив. Выпить бы стопку водки за то, чтобы страшное былое никогда не повторилось. Китаев ощущал болезненно, как у него внутри, в глубине грудной клетки замирало, грозя в любую минуту остановиться, сердце и делалось трудно дышать.
Уставшая голодная колонна не могла даже стоять – очутившись за колючей проволокой, люди попадали на землю. Когда «кум» подал команду для переклички, один так и остался лежать на земле – тощий, с проваленным ртом, остроносый человек, одетый в рваную телогрейку.
«Кум» постоял около него несколько секунд, ухмыльнулся:
– Слабак! – Изогнувшись, постучал по сапогу плеткой, которую не снимал с руки – плетка ему нравилась, и, махнув ладонью, пошел пересчитывать зеков.
Так в лагере, в который определили не только четвертый барак, по и еще пять бараков, появился первый мертвец.
Мертвецов этих будет еще много, они начнут появляться в лагере каждый день, иногда по нескольку человек – слишком тяжела, непосильна оказалась стройка железной пороги, которой в будущем, по мнению вождя, предстояло состязаться с Северным морским путем. Слишком увязвимы оказались люди – их добивали болезни, холод, голод, охранники, время.
Строили дорогу не только «политики», строили и уголовники. Никто из тех, кто находился в северных лагерях и слышал когда-либо название главного поселения тех мест – Абезь, – не миновал этой географической точки, не остался в стороне от великой стройки – не дано было…
Лагерь, к которому был приписан четвертый барак, именовался почти по-комсомольски гордо – Лаггородок. Когда Китаев ранее слышал слово «городок», перед ним обязательно возникало небольшое уютное поселение, цветы в палисадниках, вишни и яблони за невысокими заборами, патефон, стоявший на подоконнике какого-нибудь дома. Музыка из распахнутого окна льется на всю улицу, люди слышат ее и довольно улыбаются, поскольку «легко на сердце от песни веселой», а воздух… воздух пропитан запахами свежего варенья, малосольных огурцов и жареной картошки… Вот это и есть городок.
А что имели они? Колючую проволоку, бараки, собранные из щитов, непролазную болотную грязь, в которой бесследно тонули плетеные маты, удвоенное количество пулеметов на вышках – на прежнем месте их было много меньше. Востроглазые фронтовики, привыкшие засекать всякие мелочи, немедленно отметили это для себя… Вдруг пригодится?
Свою часть Лаггородка колонна «кума» построила быстро. Правда, не без потерь – «политики» недосчитались восемнадцати человек.
Для умерших была вырыта большая яма – общая могила, одна на всех, – в сырую, с обваливающимися краями яму эту могло войти не менее пятисот покойников… Значит, предстояли еще потери.
Все дни, пока возводили бараки, Китаев пробовал в мыслях написать письмо матери. Но едва в мозгу возникали слова «Здравствуй, моя дорогая мама», как в висках возникал звон и на глаза наворачивались слезы. Чтобы глаза были сухими, надо было срочно стирать из памяти первые слова письма. Тогда и дышать делалось легче, и из височных впадин вытряхивался звон. Ну что за напасть и как с нею бороться?
Ночью из недостроенного лагеря пытался бежать один зек. Бдительный и расторопный охранник Житнухин задержал его и приволок в Лаггородок. Приволок едва живого – избитый зек уже не держался на ногах и плевался кровью.
Куда потом подевали этого зека, никто не знал, но зато другое стало известно всем: через неделю Житнухин получил на погоны две лычки – стал младшим сержантом.
– Пройдет еще немного времени, и этот человек станет «кумом», – пообещал Егорунин и растянул губы в невеселой улыбке.
– А образование? – Китаев вопросительно поскреб пальцами трескучий, в серой щетине подбородок. – Для того чтобы быть «кумом», надо наверняка чего-нибудь окончить… Хотя бы девять классов. У него же, как пить дать, ничего, кроме начального образования, нет.
– А что образование? – Егорунин вновь невесело усмехнулся. – Образование в этой среде определяется размером кулака. Чем больше кулак – тем выше образование…
– И тем круче интеллект, совершенно верно, – поддержал Егорунина Христинин, закашлялся – в здешней сырости все хвори, все кашли вылезают наружу, даже те, которые были давно залечены. – Самым образованным человеком на зоне считается «кум», который ударом кулака может сшибить с ног корову.
Китаев невольно рассмеялся – их «кум» с тощими лягушачьими мышцами и зеленым лицом для этой роли не годился – силенок у него хватало лишь на то, чтобы съесть две тарелки макарон и пяток котлет. Ах, котлеты, котлеты – домашние, мамины, тающие во рту… Вкус их остался далеко отсюда, в Ленинграде, в доблокадном времени и вряд ли уже когда вернется к Китаеву. Да и жива ли мама, Китаев не знал, и узнать не дано. Он ощутил, как у него нервно дернулось лицо, напряглись мышцы. Лицо дернулось вновь, на этот раз сильнее, плечи встряхнулись словно бы сами по себе, со швов телогрейки на землю посыпались крупные серые вши.
Вши в северных краях водятся жирные, неповоротливые, с картинными белыми лапками и темными пятнышками на крохотной голове. Когда их давишь, во все стороны летит противная жижка, может даже в глаза попасть, отмывать потом приходится.
Иногда ночью, когда вши кусаются особенно сильно, они возникают во сне – крупные, сочные, вызывающие тошноту и боль. Понятно даже несмышленому человеку: сколько Китаев ни будет жить, столько будет помнить лагерных вшей… Причем северные вши отличаются от южных. Южные не ту стать имеют – тощие, проворные, с одежды, если зацепятся, ни за что не соскользнут – удержатся, даже если грохнет девятибальное землетрясение… Северные вши не такие, хотя и те и другие кусаются одинаково люто.
Китаев отгреб сорвавшихся с телогрейки вшей в сторону, поставил на них ногу, подвигал подошвой, давя это вредное зубастое пшено. Поморщился от того, что глотку ему сдавили чьи-то невидимые пальцы. Китаева от этого сжима чуть не вывернуло наизнанку. Он прижал пальцы ко рту и присел на корточки. Подождал, когда пройдет тошнота.
Через несколько секунд его накрыла жесткая, четко очерченная тень. Китаев поднял голову: над ним стоял Житнухин. С автоматом, висящим на груди, будто у изваяния, только что сошедшего с памятника.
За день колонна голодных зеков смогла отшагать восемнадцать километров. Ни одного человека не было потеряно, и «кум» этим обстоятельством был доволен. На ночь будущих строителей железной дороги определили в загон, сооруженный из колючей проволоки, по углам загона поставили дежурных пулеметчиков: «кум» посчитал, что у зеков может возникнуть соблазн убежать – ветер воли вскружит любую, даже дубовую голову, вскипятит любые мозги – слишком уж велика тяга у людей к свободе. Особенно у зеков четвертого барака, «политиков», прошедших фронт, знающих, чем пахнет кровь, – звери эти, как считал «кум», умеют убивать «венцы природы» одним пальцем и при случае умением этим могут воспользоваться.
Здесь, в загоне, колонну и покормили – привезли несколько бачков холодной «шрапнели» – перловой каши, сваренной еще два дня назад, а в мешках – хлеб. Каждому выдали по двести пятьдесят граммов хлеба. Мало, очень мало, но «кум» бодрым, каким-то заливающимся, будто у весенней птицы голосом пообещал, что утром будет новый подвоз еды, каждый получит свое сполна, в том числе и то, что недодали.
Следом за колонной фашистов, как стало известно из лагерного «радио», шли еще три колонны, сформированные из уголовников, – они отстали от колонны «кума» и были определены на ночевку в другие проволочные загоны. Соответственно у них осела и большая часть еды – уголовники получили по полной пайке.
Один из «политиков» – Китаев слышал, что в прошлом он командовал полком и воевал под Прагой даже после девятого мая: эсэсовские части сопротивлялись до конца месяца, – подошел к «куму» и спросил:
– Добавка будет, гражданин начальник? Не то после целого дня голодухи нам не выдержать…
– Будет добавка, – пообещал «кум», – обязательно будет, – похлопал рукой по кобуре тяжелого пистолета, висевшего у него на поясе. – Девять граммов каждому, кто захочет наесться от пуза. – «Кум» оскорбительно захохотал, собственная шутка ему показалась удачной. В следующий миг увидев, что бывший комполка не уходит и, возможно, будет требовать чего-нибудь еще, прохрипел яростно:
– Пошел вон отсюда, фашист!
Зек, пристально глядя на «кума», только головой покачал укоризненно – был он старше младшего лейтенанта лет на двадцать, голова его уже стала белой от седины; «куму» такая непочтительность не понравилась и он без размаха, коротко и умело, ударил бывшего комполка кулаком в живот, в самый низ груди – солнечное сплетение всегда было у человека очень уязвимой, болезненной точкой.
Комполка охнул, согнулся едва ли не пополам, втыкаясь лицом в собственные колени, показал «куму» незащищенную шею, и тот не удержался от соблазна, всадил кулак в эту шею. Комполка ткнулся седой головой в землю.
– Еще кто-нибудь хочет добавки? – зычным напрягшимся голосом поинтересовался «кум», выпрямился горделиво, будто историческая личность, взобравшаяся на пьедестал памятника.
Зеки – вчерашние фронтовики, сидя на земле, мрачно смотрели на «кума», сплевывали себе под ноги. Егорунин попробовал дернуться, вскочить, но сидевший рядом с ним Китаев ухватил за полу телогрейки, осадил.
– Ты чего, сдурел? – просипел он едва слышно. – Тебя сейчас же насадят на автоматную очередь. Как мясо на шампур.
– Верно, – Егорунин повесил голову, желваки на его щеках напряглись, сделались железными.
Комполка тем временем оторвал голову от земли, сплюнул кровь, натекшую в рот.
– А тебе, фашист, чего надо было, а? Ты чего, против ветра ссать решил? Чего поднялся-то? – «кум», сопровождаемый Житнухиным, подошел к Егорунину, встал в стойку, чтобы удобнее было бить. – А? – глаза у «кума» сделались белыми, ничего хорошего это не предвещало. – А?
– Камень под задницу попал, вот и пришлось приподняться, – прохрипел в ответ Егорунин.
– Фашист – он и есть фашист, ничто его не перевоспитает, – «кум» оттянул правую ногу и ударил Егорунина; увидев, что зек пытается прикрыть бока локтями, чтобы от ударов не пострадали ребра, разозлился и ударил бывшего старлея еще раз. – Гитлер капут!
Вскоре на проволочный загон, освещенный по углам кострами, чтобы были видны заключенные, опустился нездоровый холодный сон. Даже охранникам, привыкшим ко всякому, искренне ненавидевшим зеков, иногда делалось не по себе. Люди лежали на влажной земле, лишь кое-где прикрытой ветками, травой, положив под голову свои жалкие манатки, дергались в воющем комарином мареве, в тучах гнуса, вскрикивали, просили помощи, звали в атаку, стонали, выли протяжно, задушенно, просыпались и, усталые, выжатые до основания, отупевшие, тут же засыпали вновь.
Страшно становилось охранникам, ведь перед ними лежали фронтовики – опытные, умеющие бить врагов, обладающие приемами рукопашных схваток, которые могли скрутить вохровцев в несколько минут, поотнимать у них автоматы и, связав одной веревкой, расстелить рядком на жидкой, придавленной непогодой траве.
Вохровцы, зная, что с ними могут сделать фронтовики, не выпускали из рук оружия, жались друг к другу и тревожно поглядывали на стонущих, хрипящих, вскрикивающих, обессиленных людей. В глазах их был страх – они боялись зеков.
Утром колонна двинулась дальше – на восток, в прохладное розовое пространство, рябое от гнуса и комаров. Спасением от этих гадов был лишь встречный ветер, но он был слабым и часто, едва возникнув, угасал.
Колонне предстояло пройти еще восемнадцать километров. Там ее ожидал новый загон, который, в отличие от первого, надо было обустраивать – туда уже и лес подвезли, и две армейские кухни на автомобильных колесах, и сторожевые вышки установили. А вот что касается крыши над головой, то ее зеки должны были соорудить сами.
– По своему вкусу и способностям, – ухмылялся, трясясь в неудобном седле, «кум». – И чем быстрее вы, фашисты, это сделаете, тем меньше будете ночевать под открытым небом.
У лагерного начальства для будущих строителей сталинской железной дороги не нашлось даже старых рваных палаток, списанных из воинских частей, чтобы хоть на первых порах прикрыться от дождя и снега, – а снег, между прочим, здесь может запросто выпасть в середине лета, – от лютых, прошибающих до костей ветров и печного жара, способного опуститься на землю на следующий день после летнего снега.
Надо было держаться, жить и думать о завтрашнем дне, о том, как дотянуть до него, как сохранить себя на жалкой пайке хлеба в триста граммов и супе из ячневой крупы, заправленном несвежей рыбой.
Китаеву на память пришел лагерный сарай с мертвецами. Зимой к этому неказистому помещению подгоняли трактор с санями, замерзшие до каменной твердости тела складывали в сани – получалась приличная гора, – вывозили эту гору в карьер, там тела заваливал землей бульдозер – вечные квартиры здесь научились сооружать быстрее квартир временных.
Один из нарядчиков четвертого барака подсчитал, что в неделю трактор вывозил из лагеря, а могильщик-бульдозер закапывал около сотни человек. Люди, бывшие еще вчера живыми, имевшие имя и фамилию, родичей и свою судьбу, мечты и профессию, оказывались никем в безымянных могилах. Никто никогда уже не отыщет их. Так что жить надо было хотя бы ради того, чтобы не оказаться в безымянной могиле, чтобы на воле увидеть и обнять мать, своего брата, пропавшего на войне. Китаев не верил, что он погиб, считал, что старший брат жив. Выпить бы стопку водки за то, чтобы страшное былое никогда не повторилось. Китаев ощущал болезненно, как у него внутри, в глубине грудной клетки замирало, грозя в любую минуту остановиться, сердце и делалось трудно дышать.
Уставшая голодная колонна не могла даже стоять – очутившись за колючей проволокой, люди попадали на землю. Когда «кум» подал команду для переклички, один так и остался лежать на земле – тощий, с проваленным ртом, остроносый человек, одетый в рваную телогрейку.
«Кум» постоял около него несколько секунд, ухмыльнулся:
– Слабак! – Изогнувшись, постучал по сапогу плеткой, которую не снимал с руки – плетка ему нравилась, и, махнув ладонью, пошел пересчитывать зеков.
Так в лагере, в который определили не только четвертый барак, по и еще пять бараков, появился первый мертвец.
Мертвецов этих будет еще много, они начнут появляться в лагере каждый день, иногда по нескольку человек – слишком тяжела, непосильна оказалась стройка железной пороги, которой в будущем, по мнению вождя, предстояло состязаться с Северным морским путем. Слишком увязвимы оказались люди – их добивали болезни, холод, голод, охранники, время.
Строили дорогу не только «политики», строили и уголовники. Никто из тех, кто находился в северных лагерях и слышал когда-либо название главного поселения тех мест – Абезь, – не миновал этой географической точки, не остался в стороне от великой стройки – не дано было…
Лагерь, к которому был приписан четвертый барак, именовался почти по-комсомольски гордо – Лаггородок. Когда Китаев ранее слышал слово «городок», перед ним обязательно возникало небольшое уютное поселение, цветы в палисадниках, вишни и яблони за невысокими заборами, патефон, стоявший на подоконнике какого-нибудь дома. Музыка из распахнутого окна льется на всю улицу, люди слышат ее и довольно улыбаются, поскольку «легко на сердце от песни веселой», а воздух… воздух пропитан запахами свежего варенья, малосольных огурцов и жареной картошки… Вот это и есть городок.
А что имели они? Колючую проволоку, бараки, собранные из щитов, непролазную болотную грязь, в которой бесследно тонули плетеные маты, удвоенное количество пулеметов на вышках – на прежнем месте их было много меньше. Востроглазые фронтовики, привыкшие засекать всякие мелочи, немедленно отметили это для себя… Вдруг пригодится?
Свою часть Лаггородка колонна «кума» построила быстро. Правда, не без потерь – «политики» недосчитались восемнадцати человек.
Для умерших была вырыта большая яма – общая могила, одна на всех, – в сырую, с обваливающимися краями яму эту могло войти не менее пятисот покойников… Значит, предстояли еще потери.
Все дни, пока возводили бараки, Китаев пробовал в мыслях написать письмо матери. Но едва в мозгу возникали слова «Здравствуй, моя дорогая мама», как в висках возникал звон и на глаза наворачивались слезы. Чтобы глаза были сухими, надо было срочно стирать из памяти первые слова письма. Тогда и дышать делалось легче, и из височных впадин вытряхивался звон. Ну что за напасть и как с нею бороться?
Ночью из недостроенного лагеря пытался бежать один зек. Бдительный и расторопный охранник Житнухин задержал его и приволок в Лаггородок. Приволок едва живого – избитый зек уже не держался на ногах и плевался кровью.
Куда потом подевали этого зека, никто не знал, но зато другое стало известно всем: через неделю Житнухин получил на погоны две лычки – стал младшим сержантом.
– Пройдет еще немного времени, и этот человек станет «кумом», – пообещал Егорунин и растянул губы в невеселой улыбке.
– А образование? – Китаев вопросительно поскреб пальцами трескучий, в серой щетине подбородок. – Для того чтобы быть «кумом», надо наверняка чего-нибудь окончить… Хотя бы девять классов. У него же, как пить дать, ничего, кроме начального образования, нет.
– А что образование? – Егорунин вновь невесело усмехнулся. – Образование в этой среде определяется размером кулака. Чем больше кулак – тем выше образование…
– И тем круче интеллект, совершенно верно, – поддержал Егорунина Христинин, закашлялся – в здешней сырости все хвори, все кашли вылезают наружу, даже те, которые были давно залечены. – Самым образованным человеком на зоне считается «кум», который ударом кулака может сшибить с ног корову.
Китаев невольно рассмеялся – их «кум» с тощими лягушачьими мышцами и зеленым лицом для этой роли не годился – силенок у него хватало лишь на то, чтобы съесть две тарелки макарон и пяток котлет. Ах, котлеты, котлеты – домашние, мамины, тающие во рту… Вкус их остался далеко отсюда, в Ленинграде, в доблокадном времени и вряд ли уже когда вернется к Китаеву. Да и жива ли мама, Китаев не знал, и узнать не дано. Он ощутил, как у него нервно дернулось лицо, напряглись мышцы. Лицо дернулось вновь, на этот раз сильнее, плечи встряхнулись словно бы сами по себе, со швов телогрейки на землю посыпались крупные серые вши.
Вши в северных краях водятся жирные, неповоротливые, с картинными белыми лапками и темными пятнышками на крохотной голове. Когда их давишь, во все стороны летит противная жижка, может даже в глаза попасть, отмывать потом приходится.
Иногда ночью, когда вши кусаются особенно сильно, они возникают во сне – крупные, сочные, вызывающие тошноту и боль. Понятно даже несмышленому человеку: сколько Китаев ни будет жить, столько будет помнить лагерных вшей… Причем северные вши отличаются от южных. Южные не ту стать имеют – тощие, проворные, с одежды, если зацепятся, ни за что не соскользнут – удержатся, даже если грохнет девятибальное землетрясение… Северные вши не такие, хотя и те и другие кусаются одинаково люто.
Китаев отгреб сорвавшихся с телогрейки вшей в сторону, поставил на них ногу, подвигал подошвой, давя это вредное зубастое пшено. Поморщился от того, что глотку ему сдавили чьи-то невидимые пальцы. Китаева от этого сжима чуть не вывернуло наизнанку. Он прижал пальцы ко рту и присел на корточки. Подождал, когда пройдет тошнота.
Через несколько секунд его накрыла жесткая, четко очерченная тень. Китаев поднял голову: над ним стоял Житнухин. С автоматом, висящим на груди, будто у изваяния, только что сошедшего с памятника.