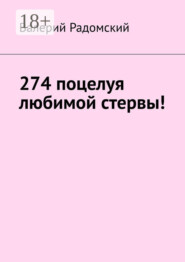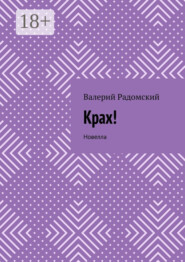По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я – душа Станислаф! Книга вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я – душа Станислаф! Книга вторая
Валерий Радомский
«…Человеку неимоверно трудно осознать, что единственной непреодолимой силой в этом мире является смерть. И он, и его родные и близкие – существа смертные. Поэтому проблематика зла – есть прежде всего проблема смерти. Но как понять, по какому такому закону смерть, т.е. зло, выбирает себе жертву? Почему его добычей становится 16-летний мальчик? И где искать справедливость в этом изначально несправедливом решении то ли судьбы, то ли Творца, то ли Дьявола» – литературный редактор Владимир Карпий
Я – душа Станислаф!
Книга вторая
Валерий Радомский
© Валерий Радомский, 2019
ISBN 978-5-0050-1066-7 (т. 2)
ISBN 978-5-4496-1634-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВАЛЕРИЙ РАДОМСКИЙ
…Я – ДУША СТАНИСЛАФ!
Роман
КНИГА ВТОРАЯ
Глава первая. Знамение Господа: кесарь!
…Староверы – бороды длинные, рыжевато-коричневые и седые, и грубые чёрные платки, расцвеченные глазами, – кто, ещё молясь, а кто, не оплакав Катю и Савелия Фроловича Знака до полного смирения в душе, возвращались с поселенческого кладбища.
Первый летний месяц, июнь, был совсем близко, в двух календарных днях, как и посёлок – чуть ли не в двух шагах. Но солнце забралось высоко – не достать сырой прохладе земли, которой отдали умерших. О земле и говорили иные: откуда явились на свет божий, туда и вернулись. Жаль, что Катю Господь призвал к себе так рано, да у старика Савелия на это лето были свои, отцовские, планы: сыновья, старший и средний, ещё не женаты. «А давно пора, – так всем и говорил с прошлой осени, – …пора!».
У своих дворов семьи, молча, стали расходиться по хозяйским делам.
Фёдору незачем было больше торопиться и не к кому. Он стоял между двумя могилами, жены Насти – заголубевшей прострелами сон-травы, и дочки – только-только наброшенной. Здесь он посадит, может, даже завтра эту же, бархатистую и приятную цветками, траву, чтобы ничто, кроме Господа, не потревожило сна Катеньки. Его борода не просохла от слёз и казалась длиннее, разбавив густой чёрный цвет воронёным блеском. Глаза глубоко запали, будто прятались от света, да и как иначе: если белый свет не мил!
Зла на соседа Фёдор не держал – его Господь наказал тоже, хотя старик и не желал Катеньке смерти. Это понятно: стрелял он не в неё. Только откуда у Господа такая звериная жестокость? Только лишь потому, что дети его?.. Но ведь – дети, а не исчадие ада! Или исчадие ада – то самое, что ткнуло его днями ранее лицом в землю, у ручья, и сотворило с соседом немыслимое вчера, оно и не на небесах вовсе?!..
Фёдор стоял, разрываемый с двух сторон, невысказанной, потому и давящей теперь, болью сердца, и не мог, не хотел запретить себе думать об этом. Особенно, сейчас, когда эта боль в нём задавала насущные, но каверзные вопросы не Господу, а ему: мужу, двумя годами ранее схоронившему жену молодой и безгрешной, и отцу, чья дочь ослепла после этого, а теперь и не дышит вовсе. И как ответить самому себе, если вверил свой разум Господу, и что ответить, если сам видел исчадие ада, блаженно дремавшим на коленях у Катеньки?!
А исчадие ада подбежал тем временем к Фёдору со стороны могилы его дочери, и сел на задние лапы, склонив голову. Так скорбят люди!.. И Фёдор ничему не удивился: ни появлению, рядом с ним, чёрного волка, помеченного серебром шерсти на морде, двумя рваными полосками ниже правого уха, и пулей Савелия Фроловича на боку, ни тому, как Шаман подбегал, западая сильно на переднюю правую лапу. Их взгляды лишь коснулись, но для того, чтобы заявить каждый о себе немым присутствием. И оба они не напугали друг друга, и не мешали друг другу. Когти Шаман спрятал в землю, но уши – подняты, а клыки зачехлены лишь молчанием.
Так, молча и без единого звука, не понимая того, но ощущая, они друг другу прощали. Шаман – Фёдору, за недавнее, у ручья, намерение его убить, а Фёдор – Шаману, за божью кару соседу: неизлечимая хворь преследовала того в годах, однако месть волчьей мордой заманила и, не пугая, загрызла. И хворь, и старика Савелия Знака.
В поселение староверов они возвращались вместе, и оба – домой. На просеке, вдоль заборов, стояли бородатые мужчины – кто с ружьём, кто с вилами или лопатой, – из глубин дворов на них глазел суеверный ужас женщин и детей. В рослом, сильном и вызывающе спокойном и красивом волке абсолютно все видели знамение Господа. Каждый истолковывал его по-своему, и про себя, однако так, как смотрел на них зверь – видел всех и видел каждого, так мог смотреть или земной демон, а тайга для таких – дом родной, или её, тайги, истинный кесарь. Каменный взгляд Шамана разбивал страх перед ним, и также, зримо, подчинял их эмоции, оттого на неподвижных лицах зарождался рассвет ещё одного божьего проведения…
У дома Кати Шаман пронзительно горестно взвыл – Фёдор, теребя броду, смотрел вопрошающе, как уходит в тайгу волк его былой безмятежности. Кто же ты, божья тварь, если Господь не позволил тебе стать собакой Кати? С этим он и вошёл в дом. Притянул за собою дверь, а она не закрылась… Знамение? Не иначе, как Господь открыл дверь! И Фёдор снова ступил на крыльцо. Осмотрелся вокруг, присмотрелся вдаль: сыновья Савелия Знака, все трое с ружьями, наперевес, юркнули в березняк. Хотел было перекреститься, да не стал это делать – кесарю кесарево, а Богу Богово!
Ручей на перекатах то ли смеялся – не понятно, над чем, то ли шептался – непонятно, с кем, а Шамана донимала боль, и та, что незримой цепью удерживала его здесь, в двадцати прыжках от Катиного двора – ещё вчера в нём визжала от безудержного счастья преданная собака, слюнявя добродушной девчонке ласковые пальчики и нежные щёки. За это её и сразила пуля, и не дура – словеса это человечьи, и тайга им этих слов не прощает тоже.
Отверстия от пули навылет больше не кровоточили, и Шаману лишь требовалось подольше отлежаться. Он знал, где может укрыться от вокруг рыскающих глаз, и кто постережёт нужный ему покой. Путь всё же не близкий, а чьи-то новые запахи следом за ним зашли в тайгу и теперь кружат недалеко.
Изгибы ручья, свалы и валежники увели его от поселения староверов, но не от сыновей Савелия Знака – раненый Шаман не мог уйти быстро и далеко. И уходить ему далеко от воды было совсем не желательно. Он не питался мясом, потому никогда и не охотился. Вода, озера или ручья, давала ему жизненную энергию таёжного волка. Если он этого и не знал, то об этом знала вода, и не жалела себя для него. Потому даже в этом незнании была его сила терпения и выносливости, но вместе с тем эта же сила усложнила теперешнее положение. Уйти от ручья далеко – умереть, а не уйти от него, значит, выдать себя не сейчас, так со временем. И эту дилемму нужно было решить, как можно быстрее – два ружейных выстрела, сухих звуком, уже подробили хрусталь ручья, и они не последние.
Вечерело, когда Шаман остановился, чтобы напиться. Место для этого было подходящее – безопасное: ручей оброс с обеих сторон колючим барбарисом. Ветвистый и розовый, кустарник всё еще тянулся к небу, но вширь разросся – можно лишь подойти. Отсюда он и нападет…
…И спустя полчаса трое староверов, распаренные влажным теплом и изрядно уставшие от маневров осторожности и скрытости, подошли к барбарису с двух сторон. Окликнув друг друга, прошли полосу кустарника и прострелили его, отойдя на безопасное расстояние. Дробь срубила тонкие ветви, а звук трёх выстрелов прокатился по тайге эхом, всполошив где-то совсем рядом больших птиц. Прислушались, подождали – Шаман выполз из-под корней; прислушался, подождал – пора: его разбег был коротким, прыжок мучительным, но верным.
…Череп старовера под верхними клыками Шамана треснул, как сухая ветка, а нижние клыки сломали ему подбородок. Ободранные израненные руки и, особенно, такие же пальцы пытались что-то сказать судорожной болезненной дрожью, перед этим выронив ружьё. Но братья ушли вперёд и слышали только трескотню сорок, задрав головы вверх и созерцая веерообразный полёт чёрно-белых птиц, не ведая о том, что зло умеет летать на крыльях ненависти, а вольным полётом завораживать, намеренно отвлекая. Ненависть братьев подгоняла и торопила их, а тем временем смерть принимала в свои объятия родного им человека…
Шаман снова залёг в барбарисе. Ему не нужно было гнаться за кем-то, как гнались за ним – братья вернулись и очень скоро. Их встревоженные голоса побеспокоили тайгу, и торопливых шорохов и пугающего треска добавилось. Сумерки ждали всего этого, и ночной охоты – тоже, гораздо раньше звёзд на небе: тайга пахла свежей кровью…
По следам крови староверы нашли своего брата. И то, что осталось от его головы, заставило их опустить ружья и пасть на колени. Наконец, они пришли к знамению Господа, хотя не его они искали. И что теперь: что сказать матери, детям Макара и его жене перед Богом? Оба брата не желали, потому не решались, смотреть друг другу в глаза – взгляд каждого заблудился в ярости, а она вдруг схлынула и пролилась покаянными слезами. А страх – тут как тут, а ужас заполз гадюкой под взмокшие рубахи. И молитва не помогала…
Ну, вот и она – рысь заметила Шамана раньше и вышла из-за укрытия, чтобы он её увидел. Увидел – опять залегла за упавшим стволом сосны. В двух прыжках от неё братья в скорбной оторопи мастерили что-то похожее на носилки. Молчали, тягостно и покорно, будто их здесь нет и не было. Да рядом в чернеющей от заката крови лежал мёртвый брат, и порванное на стоны и горестные вздохи дыхание выдавало их присутствие. А Шаман уже стоял за их парующими суетящимися спинами, широко раскинув лапы и низко опустив голову. Его каменный взгляд нельзя было не прочувствовать – братьев будто кто-то толкнул в плечи. Они встали оба и одновременно. И ни один, ни другой не осмелились потянуться к ружьям, прислонённым к желтоватому стволу сосны. Такого же цвета пятнистая рысь, прижимаясь к земле, на гибких и упругих ногах подходила к ним спереди.
Кривой луч солнца, прощаясь до рассвета, заглянул в глаза братьям мрачной ясностью их положения, и они, наконец-то, взглянули друг на друга. Осмысленно и сочувственно!..
…Из тайги братья выходили березняком, ранним утром. Их лица были темны, как и бороды, а взгляды затравленными испугом и болью. Правая рука обеих была согнута в локте и прижата к груди. Носилки с окоченевшим телом брата Макара удерживали их левые руки и ремни их ружей на плечах. Обе руки, правые, прокусил Шаман. Насквозь – клыками. Будто знал, что ими братья нажимали на спусковой крючок, когда стреляли по нему.
От Автора.
Макара, младшего сына старовера Савелия Знака, похоронят рядом с отцом. Небеса не станут безмолвствовать – прольются густым дребезжащим дождём, а тучи перекрасят полдень в промозглый тоскливый вечер. Возлагая на себя крест, братья прочувствуют сверлящую душу боль и она, терзая волю, будет жалить их всякий раз, как только два пальца правой руки будут возложены ими себе на лоб. (Бога нельзя убить, но его убивают в себе верой в непогрешимость…). Их ружья изрезанная морщинами прожитых лет старушка-мать отнесёт туда же, куда и карабин Знака-старшего: в кладовую под замком. Там они и поржавеют, без должного ухода и ненадобности.
Лето Шаман встретит в компании рыси и её рысёнка. Рысёнок выжил, но клыки воина Лиса, поиздевавшиеся над ним днями ранее, обездвижат его задние лапы и лишь передними он сможет волочь по тайге своё беленькое жалкое тельце. Впервые Шаман погонится за прыгучим ушастым зайцем, не сразу догонит его, но с этой минуты для рысёнка он станет всем: и его кормильцем, и его защитником. Даже от его матери, взрослой рыси.
Взойдут десять Лун, а на десятый рассвет новый кесарь тайги, в ком привнесённая самой же тайгой боль отшлифует его клыки и когти до смертоносного жала, понесёт белый пушистый комочек в зубах, трезвоня далеко слышным писком – иду на вы…, но не один! Мать-рысь последует за ним, стремительно перебегая с места на место, отдыхая в засадах, и перебегая снова. И птицы над ними не разбросят крылья в свободном полёте на протяжение всего пути к Кедрам – хвоя сосен и елей будет протяжно шипеть, а листва осин и лиственниц зловеще рычать…
…Придавив горлицу лапами, Лис передними зубами расправлял ей крылья и, изловчившись, выдёргивал палевые перья, одно за другим. Чуть придушенная птица не сопротивлялась, и это только злило вожака. Но не больше, чем неопределённость с белой волчицей, не ушедшей в тайгу со своим братом, чёрным волком, чей взгляд сдерживал в нём ярость, будто она упиралась в камень. И от этого ненависть к нему сжигала изнутри. Пришлый волк снова укоротил цепь стаи, и в ней лязгающих зубами звеньев на два стало меньше. А эта живая цепь из быстрых и резких безжалостных лап, и бесчувственных клыков – не только самый драгоценный скарб стаи. Это – цепь власти Лиса и порядка на его территории. Власть ещё у него, и надолго, да шесть смертей воинов за три месяца – это непорядок!
Вдавив лапой сизую головку горлицы в землю и не дождавшись агонии отлетавшей своё пернатой жизни, вожак, задрав хвост, как можно выше, подбежал к своим воинам – к пятерым, кто отдыхал невдалеке. Другие с утра ещё заползли в логово, к своим волчицам и волчатам – будут нужны, тогда и прибегут на зов. Призывая следовать за ним, зловеще лязгнув зубами, он повёл волков за собой, на бегу стряхивая с желтоватых резцов пасти застрявшие в них перья горлицы.
(Лис не торопился проведать белую волчицу, но и всё это время, после неудачной атаки на рысь и её заморыша, выжидал момент: вернётся ли её брат. Не вернулся, и сегодняшний погожий день и был тем самым выжидаемым моментом. Лаз в логово волчицы воины нашли, только из него веяло и запахом не из тайги, потому Лис и не позволил никому туда проникнуть. И сам тоже не стал этого делать – чудовище из озера многому его научило).
…Со стороны тайги волки обложили собой подход к утёсу – залегли в прыжке друг от друга под её сумрачным пологом, вжимаясь в зелёный ковёр мхов, в местах, где проросли черника и брусника. И мышь не проскочит, а белая волчица уж точно – не мышь!
Лис укрылся за воинами, из неглубокого прогиба покрова ему хорошо был виден утёс со стороны озера. Боковой ветер вскоре принёс и раскидал повсюду запах волчицы, но волнение воинов вожак вмиг пресёк. В этот раз её судьбу нужно наконец-то решить, или пленив, или убив. И потерять кого-либо еще из воинов было нельзя – стая обмельчала, ошеломлена дерзостью пришлых волков и даже напугана.
Лис не потерял контроль над территорией стаи, но за последнее время ронял периодически свой авторитет среди высокоранговых волков. Есть в этом и его вина – чужаки пришли не убивать, а ему до сих пор не удалось убить их. И, тем более, на его территории. Не помогла и коварная хитрость: жуткая смерть большого и сильного человека на утёсе, весной. Лис видел, тогда, как оттуда, спустя два заката, уносили ноги трое охотников, хотя до этого и стреляли в брата белой волчицы. А должны были убить, так как за вырванное у большого человека горло и отгрызенную руку иного исхода, вроде, не должно было быть. Но что-то не так сделал Лис, или кедрачи как-то прознали всё же, что пришлый волк здесь не при чём – человека загрыз ведь он. И ружьё его тоже утопил он, сбросив с утёса в озеро.
С уходом Шамана Марта загрустила. Тревожность от пещеры отгоняла Игла, охраняя её покой и ночной сон своей острой и длинной костяной мордой. Торчащая из воды, она в любой момент могла наколоть на себя любого, кто бы или что бы не приблизилось к белой волчице. А ещё лунообразный хвост, и такой же серебристый по ночам – отшвырнёт им только, как лису, что недавно заползла в пещеру через лаз, а скальная порода стен сама убьёт, переломав все до единой косточки, как и ей тогда.
Непредсказуемо опасная и сильная рыбина, но с Мартой добреет и даже не кажется такой большой. Правда, поднырнув в пещеру днём, долго в ней не задерживается. Струсит со своей пики окуня или щуку перед её мордой, а взглядом здоровенных тёмно-синих глаз не иначе как подвинет к ней ближе да, заодно, и на лапы поставит – ешь. Только не голодна она уже давно. С тех самых пор, как проводила и простилась навсегда с братом – не голодна и резвиться не хочется. Поэтому и в тайгу, размять лапы и потренировать когти, выбегала после этого два раза, всего-то. Игла хорошая и заботливая, но спокойно с ней лишь до той поры, пока молчит тайга. А закурлычет, заурчит, или уж, как залает тайга – всё одно и тоже: ждёт Шамана. А вдруг брат вернётся!
Пробравшись сквозь частокол кривых берёз и раскидистых и пахучих от цветения кустарников, Марта уныло спустилась к озеру. Здесь с Шаманом им было весело. А сейчас весело желтеющему берегу и запыхавшимся от бега волнам: волна догоняет – берег убегает, убегает волна – за ней гонится берег. Так же и они с братом, еще не так давно: он убегает – она догоняет…, а охотился, только играя. По-настоящему охотиться не хотел, ни на кого – лакал воду, часто и помногу, и ему её хватало, чтобы не измазаться чьей-то кровью.
Марта пробовала не убивать – пять лун только пила воду из озера и ручья, а потом клыки заныли и саму себя стала драть когтями от этого. Зачем они тогда вообще, клыки и когти, если заяц под каждым кустом. Да и человек тогда совсем озвереет и погонит из тайги – ему скучно станет жить!
Волчица лакала воду из озера и готовила себя к тому, что сейчас, где-то совсем рядом, Игла легонько проколет рябившую поверхность, а затем так ударит по ней своим большущим хвостом, что ей не нужно будет после этого и плавать. Рыбине нравилось так делать, а Марта пугалась лишь поначалу. Ну, давай, где ты – покажись… Но Иглы нигде не было видно, только волны и берег щекотали лапы, а ветер приглаживал шерсть.
Валерий Радомский
«…Человеку неимоверно трудно осознать, что единственной непреодолимой силой в этом мире является смерть. И он, и его родные и близкие – существа смертные. Поэтому проблематика зла – есть прежде всего проблема смерти. Но как понять, по какому такому закону смерть, т.е. зло, выбирает себе жертву? Почему его добычей становится 16-летний мальчик? И где искать справедливость в этом изначально несправедливом решении то ли судьбы, то ли Творца, то ли Дьявола» – литературный редактор Владимир Карпий
Я – душа Станислаф!
Книга вторая
Валерий Радомский
© Валерий Радомский, 2019
ISBN 978-5-0050-1066-7 (т. 2)
ISBN 978-5-4496-1634-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВАЛЕРИЙ РАДОМСКИЙ
…Я – ДУША СТАНИСЛАФ!
Роман
КНИГА ВТОРАЯ
Глава первая. Знамение Господа: кесарь!
…Староверы – бороды длинные, рыжевато-коричневые и седые, и грубые чёрные платки, расцвеченные глазами, – кто, ещё молясь, а кто, не оплакав Катю и Савелия Фроловича Знака до полного смирения в душе, возвращались с поселенческого кладбища.
Первый летний месяц, июнь, был совсем близко, в двух календарных днях, как и посёлок – чуть ли не в двух шагах. Но солнце забралось высоко – не достать сырой прохладе земли, которой отдали умерших. О земле и говорили иные: откуда явились на свет божий, туда и вернулись. Жаль, что Катю Господь призвал к себе так рано, да у старика Савелия на это лето были свои, отцовские, планы: сыновья, старший и средний, ещё не женаты. «А давно пора, – так всем и говорил с прошлой осени, – …пора!».
У своих дворов семьи, молча, стали расходиться по хозяйским делам.
Фёдору незачем было больше торопиться и не к кому. Он стоял между двумя могилами, жены Насти – заголубевшей прострелами сон-травы, и дочки – только-только наброшенной. Здесь он посадит, может, даже завтра эту же, бархатистую и приятную цветками, траву, чтобы ничто, кроме Господа, не потревожило сна Катеньки. Его борода не просохла от слёз и казалась длиннее, разбавив густой чёрный цвет воронёным блеском. Глаза глубоко запали, будто прятались от света, да и как иначе: если белый свет не мил!
Зла на соседа Фёдор не держал – его Господь наказал тоже, хотя старик и не желал Катеньке смерти. Это понятно: стрелял он не в неё. Только откуда у Господа такая звериная жестокость? Только лишь потому, что дети его?.. Но ведь – дети, а не исчадие ада! Или исчадие ада – то самое, что ткнуло его днями ранее лицом в землю, у ручья, и сотворило с соседом немыслимое вчера, оно и не на небесах вовсе?!..
Фёдор стоял, разрываемый с двух сторон, невысказанной, потому и давящей теперь, болью сердца, и не мог, не хотел запретить себе думать об этом. Особенно, сейчас, когда эта боль в нём задавала насущные, но каверзные вопросы не Господу, а ему: мужу, двумя годами ранее схоронившему жену молодой и безгрешной, и отцу, чья дочь ослепла после этого, а теперь и не дышит вовсе. И как ответить самому себе, если вверил свой разум Господу, и что ответить, если сам видел исчадие ада, блаженно дремавшим на коленях у Катеньки?!
А исчадие ада подбежал тем временем к Фёдору со стороны могилы его дочери, и сел на задние лапы, склонив голову. Так скорбят люди!.. И Фёдор ничему не удивился: ни появлению, рядом с ним, чёрного волка, помеченного серебром шерсти на морде, двумя рваными полосками ниже правого уха, и пулей Савелия Фроловича на боку, ни тому, как Шаман подбегал, западая сильно на переднюю правую лапу. Их взгляды лишь коснулись, но для того, чтобы заявить каждый о себе немым присутствием. И оба они не напугали друг друга, и не мешали друг другу. Когти Шаман спрятал в землю, но уши – подняты, а клыки зачехлены лишь молчанием.
Так, молча и без единого звука, не понимая того, но ощущая, они друг другу прощали. Шаман – Фёдору, за недавнее, у ручья, намерение его убить, а Фёдор – Шаману, за божью кару соседу: неизлечимая хворь преследовала того в годах, однако месть волчьей мордой заманила и, не пугая, загрызла. И хворь, и старика Савелия Знака.
В поселение староверов они возвращались вместе, и оба – домой. На просеке, вдоль заборов, стояли бородатые мужчины – кто с ружьём, кто с вилами или лопатой, – из глубин дворов на них глазел суеверный ужас женщин и детей. В рослом, сильном и вызывающе спокойном и красивом волке абсолютно все видели знамение Господа. Каждый истолковывал его по-своему, и про себя, однако так, как смотрел на них зверь – видел всех и видел каждого, так мог смотреть или земной демон, а тайга для таких – дом родной, или её, тайги, истинный кесарь. Каменный взгляд Шамана разбивал страх перед ним, и также, зримо, подчинял их эмоции, оттого на неподвижных лицах зарождался рассвет ещё одного божьего проведения…
У дома Кати Шаман пронзительно горестно взвыл – Фёдор, теребя броду, смотрел вопрошающе, как уходит в тайгу волк его былой безмятежности. Кто же ты, божья тварь, если Господь не позволил тебе стать собакой Кати? С этим он и вошёл в дом. Притянул за собою дверь, а она не закрылась… Знамение? Не иначе, как Господь открыл дверь! И Фёдор снова ступил на крыльцо. Осмотрелся вокруг, присмотрелся вдаль: сыновья Савелия Знака, все трое с ружьями, наперевес, юркнули в березняк. Хотел было перекреститься, да не стал это делать – кесарю кесарево, а Богу Богово!
Ручей на перекатах то ли смеялся – не понятно, над чем, то ли шептался – непонятно, с кем, а Шамана донимала боль, и та, что незримой цепью удерживала его здесь, в двадцати прыжках от Катиного двора – ещё вчера в нём визжала от безудержного счастья преданная собака, слюнявя добродушной девчонке ласковые пальчики и нежные щёки. За это её и сразила пуля, и не дура – словеса это человечьи, и тайга им этих слов не прощает тоже.
Отверстия от пули навылет больше не кровоточили, и Шаману лишь требовалось подольше отлежаться. Он знал, где может укрыться от вокруг рыскающих глаз, и кто постережёт нужный ему покой. Путь всё же не близкий, а чьи-то новые запахи следом за ним зашли в тайгу и теперь кружат недалеко.
Изгибы ручья, свалы и валежники увели его от поселения староверов, но не от сыновей Савелия Знака – раненый Шаман не мог уйти быстро и далеко. И уходить ему далеко от воды было совсем не желательно. Он не питался мясом, потому никогда и не охотился. Вода, озера или ручья, давала ему жизненную энергию таёжного волка. Если он этого и не знал, то об этом знала вода, и не жалела себя для него. Потому даже в этом незнании была его сила терпения и выносливости, но вместе с тем эта же сила усложнила теперешнее положение. Уйти от ручья далеко – умереть, а не уйти от него, значит, выдать себя не сейчас, так со временем. И эту дилемму нужно было решить, как можно быстрее – два ружейных выстрела, сухих звуком, уже подробили хрусталь ручья, и они не последние.
Вечерело, когда Шаман остановился, чтобы напиться. Место для этого было подходящее – безопасное: ручей оброс с обеих сторон колючим барбарисом. Ветвистый и розовый, кустарник всё еще тянулся к небу, но вширь разросся – можно лишь подойти. Отсюда он и нападет…
…И спустя полчаса трое староверов, распаренные влажным теплом и изрядно уставшие от маневров осторожности и скрытости, подошли к барбарису с двух сторон. Окликнув друг друга, прошли полосу кустарника и прострелили его, отойдя на безопасное расстояние. Дробь срубила тонкие ветви, а звук трёх выстрелов прокатился по тайге эхом, всполошив где-то совсем рядом больших птиц. Прислушались, подождали – Шаман выполз из-под корней; прислушался, подождал – пора: его разбег был коротким, прыжок мучительным, но верным.
…Череп старовера под верхними клыками Шамана треснул, как сухая ветка, а нижние клыки сломали ему подбородок. Ободранные израненные руки и, особенно, такие же пальцы пытались что-то сказать судорожной болезненной дрожью, перед этим выронив ружьё. Но братья ушли вперёд и слышали только трескотню сорок, задрав головы вверх и созерцая веерообразный полёт чёрно-белых птиц, не ведая о том, что зло умеет летать на крыльях ненависти, а вольным полётом завораживать, намеренно отвлекая. Ненависть братьев подгоняла и торопила их, а тем временем смерть принимала в свои объятия родного им человека…
Шаман снова залёг в барбарисе. Ему не нужно было гнаться за кем-то, как гнались за ним – братья вернулись и очень скоро. Их встревоженные голоса побеспокоили тайгу, и торопливых шорохов и пугающего треска добавилось. Сумерки ждали всего этого, и ночной охоты – тоже, гораздо раньше звёзд на небе: тайга пахла свежей кровью…
По следам крови староверы нашли своего брата. И то, что осталось от его головы, заставило их опустить ружья и пасть на колени. Наконец, они пришли к знамению Господа, хотя не его они искали. И что теперь: что сказать матери, детям Макара и его жене перед Богом? Оба брата не желали, потому не решались, смотреть друг другу в глаза – взгляд каждого заблудился в ярости, а она вдруг схлынула и пролилась покаянными слезами. А страх – тут как тут, а ужас заполз гадюкой под взмокшие рубахи. И молитва не помогала…
Ну, вот и она – рысь заметила Шамана раньше и вышла из-за укрытия, чтобы он её увидел. Увидел – опять залегла за упавшим стволом сосны. В двух прыжках от неё братья в скорбной оторопи мастерили что-то похожее на носилки. Молчали, тягостно и покорно, будто их здесь нет и не было. Да рядом в чернеющей от заката крови лежал мёртвый брат, и порванное на стоны и горестные вздохи дыхание выдавало их присутствие. А Шаман уже стоял за их парующими суетящимися спинами, широко раскинув лапы и низко опустив голову. Его каменный взгляд нельзя было не прочувствовать – братьев будто кто-то толкнул в плечи. Они встали оба и одновременно. И ни один, ни другой не осмелились потянуться к ружьям, прислонённым к желтоватому стволу сосны. Такого же цвета пятнистая рысь, прижимаясь к земле, на гибких и упругих ногах подходила к ним спереди.
Кривой луч солнца, прощаясь до рассвета, заглянул в глаза братьям мрачной ясностью их положения, и они, наконец-то, взглянули друг на друга. Осмысленно и сочувственно!..
…Из тайги братья выходили березняком, ранним утром. Их лица были темны, как и бороды, а взгляды затравленными испугом и болью. Правая рука обеих была согнута в локте и прижата к груди. Носилки с окоченевшим телом брата Макара удерживали их левые руки и ремни их ружей на плечах. Обе руки, правые, прокусил Шаман. Насквозь – клыками. Будто знал, что ими братья нажимали на спусковой крючок, когда стреляли по нему.
От Автора.
Макара, младшего сына старовера Савелия Знака, похоронят рядом с отцом. Небеса не станут безмолвствовать – прольются густым дребезжащим дождём, а тучи перекрасят полдень в промозглый тоскливый вечер. Возлагая на себя крест, братья прочувствуют сверлящую душу боль и она, терзая волю, будет жалить их всякий раз, как только два пальца правой руки будут возложены ими себе на лоб. (Бога нельзя убить, но его убивают в себе верой в непогрешимость…). Их ружья изрезанная морщинами прожитых лет старушка-мать отнесёт туда же, куда и карабин Знака-старшего: в кладовую под замком. Там они и поржавеют, без должного ухода и ненадобности.
Лето Шаман встретит в компании рыси и её рысёнка. Рысёнок выжил, но клыки воина Лиса, поиздевавшиеся над ним днями ранее, обездвижат его задние лапы и лишь передними он сможет волочь по тайге своё беленькое жалкое тельце. Впервые Шаман погонится за прыгучим ушастым зайцем, не сразу догонит его, но с этой минуты для рысёнка он станет всем: и его кормильцем, и его защитником. Даже от его матери, взрослой рыси.
Взойдут десять Лун, а на десятый рассвет новый кесарь тайги, в ком привнесённая самой же тайгой боль отшлифует его клыки и когти до смертоносного жала, понесёт белый пушистый комочек в зубах, трезвоня далеко слышным писком – иду на вы…, но не один! Мать-рысь последует за ним, стремительно перебегая с места на место, отдыхая в засадах, и перебегая снова. И птицы над ними не разбросят крылья в свободном полёте на протяжение всего пути к Кедрам – хвоя сосен и елей будет протяжно шипеть, а листва осин и лиственниц зловеще рычать…
…Придавив горлицу лапами, Лис передними зубами расправлял ей крылья и, изловчившись, выдёргивал палевые перья, одно за другим. Чуть придушенная птица не сопротивлялась, и это только злило вожака. Но не больше, чем неопределённость с белой волчицей, не ушедшей в тайгу со своим братом, чёрным волком, чей взгляд сдерживал в нём ярость, будто она упиралась в камень. И от этого ненависть к нему сжигала изнутри. Пришлый волк снова укоротил цепь стаи, и в ней лязгающих зубами звеньев на два стало меньше. А эта живая цепь из быстрых и резких безжалостных лап, и бесчувственных клыков – не только самый драгоценный скарб стаи. Это – цепь власти Лиса и порядка на его территории. Власть ещё у него, и надолго, да шесть смертей воинов за три месяца – это непорядок!
Вдавив лапой сизую головку горлицы в землю и не дождавшись агонии отлетавшей своё пернатой жизни, вожак, задрав хвост, как можно выше, подбежал к своим воинам – к пятерым, кто отдыхал невдалеке. Другие с утра ещё заползли в логово, к своим волчицам и волчатам – будут нужны, тогда и прибегут на зов. Призывая следовать за ним, зловеще лязгнув зубами, он повёл волков за собой, на бегу стряхивая с желтоватых резцов пасти застрявшие в них перья горлицы.
(Лис не торопился проведать белую волчицу, но и всё это время, после неудачной атаки на рысь и её заморыша, выжидал момент: вернётся ли её брат. Не вернулся, и сегодняшний погожий день и был тем самым выжидаемым моментом. Лаз в логово волчицы воины нашли, только из него веяло и запахом не из тайги, потому Лис и не позволил никому туда проникнуть. И сам тоже не стал этого делать – чудовище из озера многому его научило).
…Со стороны тайги волки обложили собой подход к утёсу – залегли в прыжке друг от друга под её сумрачным пологом, вжимаясь в зелёный ковёр мхов, в местах, где проросли черника и брусника. И мышь не проскочит, а белая волчица уж точно – не мышь!
Лис укрылся за воинами, из неглубокого прогиба покрова ему хорошо был виден утёс со стороны озера. Боковой ветер вскоре принёс и раскидал повсюду запах волчицы, но волнение воинов вожак вмиг пресёк. В этот раз её судьбу нужно наконец-то решить, или пленив, или убив. И потерять кого-либо еще из воинов было нельзя – стая обмельчала, ошеломлена дерзостью пришлых волков и даже напугана.
Лис не потерял контроль над территорией стаи, но за последнее время ронял периодически свой авторитет среди высокоранговых волков. Есть в этом и его вина – чужаки пришли не убивать, а ему до сих пор не удалось убить их. И, тем более, на его территории. Не помогла и коварная хитрость: жуткая смерть большого и сильного человека на утёсе, весной. Лис видел, тогда, как оттуда, спустя два заката, уносили ноги трое охотников, хотя до этого и стреляли в брата белой волчицы. А должны были убить, так как за вырванное у большого человека горло и отгрызенную руку иного исхода, вроде, не должно было быть. Но что-то не так сделал Лис, или кедрачи как-то прознали всё же, что пришлый волк здесь не при чём – человека загрыз ведь он. И ружьё его тоже утопил он, сбросив с утёса в озеро.
С уходом Шамана Марта загрустила. Тревожность от пещеры отгоняла Игла, охраняя её покой и ночной сон своей острой и длинной костяной мордой. Торчащая из воды, она в любой момент могла наколоть на себя любого, кто бы или что бы не приблизилось к белой волчице. А ещё лунообразный хвост, и такой же серебристый по ночам – отшвырнёт им только, как лису, что недавно заползла в пещеру через лаз, а скальная порода стен сама убьёт, переломав все до единой косточки, как и ей тогда.
Непредсказуемо опасная и сильная рыбина, но с Мартой добреет и даже не кажется такой большой. Правда, поднырнув в пещеру днём, долго в ней не задерживается. Струсит со своей пики окуня или щуку перед её мордой, а взглядом здоровенных тёмно-синих глаз не иначе как подвинет к ней ближе да, заодно, и на лапы поставит – ешь. Только не голодна она уже давно. С тех самых пор, как проводила и простилась навсегда с братом – не голодна и резвиться не хочется. Поэтому и в тайгу, размять лапы и потренировать когти, выбегала после этого два раза, всего-то. Игла хорошая и заботливая, но спокойно с ней лишь до той поры, пока молчит тайга. А закурлычет, заурчит, или уж, как залает тайга – всё одно и тоже: ждёт Шамана. А вдруг брат вернётся!
Пробравшись сквозь частокол кривых берёз и раскидистых и пахучих от цветения кустарников, Марта уныло спустилась к озеру. Здесь с Шаманом им было весело. А сейчас весело желтеющему берегу и запыхавшимся от бега волнам: волна догоняет – берег убегает, убегает волна – за ней гонится берег. Так же и они с братом, еще не так давно: он убегает – она догоняет…, а охотился, только играя. По-настоящему охотиться не хотел, ни на кого – лакал воду, часто и помногу, и ему её хватало, чтобы не измазаться чьей-то кровью.
Марта пробовала не убивать – пять лун только пила воду из озера и ручья, а потом клыки заныли и саму себя стала драть когтями от этого. Зачем они тогда вообще, клыки и когти, если заяц под каждым кустом. Да и человек тогда совсем озвереет и погонит из тайги – ему скучно станет жить!
Волчица лакала воду из озера и готовила себя к тому, что сейчас, где-то совсем рядом, Игла легонько проколет рябившую поверхность, а затем так ударит по ней своим большущим хвостом, что ей не нужно будет после этого и плавать. Рыбине нравилось так делать, а Марта пугалась лишь поначалу. Ну, давай, где ты – покажись… Но Иглы нигде не было видно, только волны и берег щекотали лапы, а ветер приглаживал шерсть.