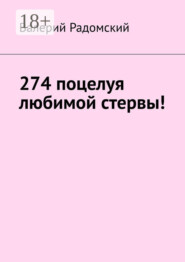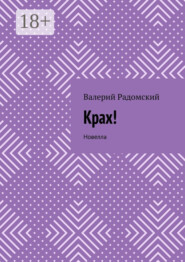По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фантазии укушенного сладостью. Новеллы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но ты уходишь вдаль —
Слёзы на глазах…
Поздно понял, что любовь
Потерпела крах! Потерпела крах!»…
Да, простенькие слова, констатирующие, что (он) поздно понял…, что (она) ушла со слезами на глазах…, да «крах любви!» – это не ссора, не расставание, о чём я уже сказал, и ничто иное, кроме как – безвозвратность растаявших последним мартовским снегом чувств, которые с собою, когда-то, привели счастье. Может, по-настоящему счастлив был только один, может, и одно на двоих выпало счастье. Тогда: крах, действительно – безнадёга. Самая, что ни на есть, трагедия любви! Пожалуй, «крах» – на этом слове и держался слушательский интерес к песне неизвестного мне (до сих пор!) автора: трагедия любви – этого хочется избежать, не допустив такого, каждому и в любом возрасте.
Моё пение не добавило праздничного настроение никому. Но исполнение понравилось – аплодировали бешено, правда не сразу… А мою Светлану было не узнать лицом: она перехватила взгляд Тани на мне и как быстро выяснилось – узрела в подруге соперницу. Виду не подала, да в словах и жестах холодком от неё повеяло здорово. Ревность она ведь горячая только изнутри нас.
До танцев – когда позволенная близость партнёрши о многом говорит за неё саму – не дошло. Саша с Дашей, Володя с Машей-Марией, прочувствовав друг друга и без танцев – всем им стало горячо до желания уединиться, – вскоре откланялись нам, четверым, чуть ли не хором прокричав от калитки: «Нас не ждите!».
Мы вернулись в дом прекрасно всё понимающие и, даже не присев за стол, стоя, выпили за ребят: чтобы им было мягко-мягко и сладко-сладко!.. Светлана после этого сразу же без сантиментов спросила Таню: «Где! Куда нам!?..». Таня указала на диван, сообщив ей тоже без обиняков, где взять простыню и подушки. Прошла к входной двери, закрыла на ключ изнутри, оставив его в замочной скважине и чуточку повернув, чтобы – береженого бог бережёт! – с улицы, если вдруг – чем чёрт не шутит! – вернутся родители и попытаются открыть дверь своими ключами. А сама при этом – само спокойствие, и такая же, спокойная уверенность, подняла её деревянными ступенями лестницы к себе, …под крышу дома своего. Юрка, не обращая на нас внимания, заглянул ей под платьице снизу и от увиденного-подсмотревшего зажмурился блаженно, жарко растирая при этом ладошки. Налил себе водки – выпил в один глоток, и – за Таней.
…Меня разбудила упавшая на пол вилка.
– Ой, прости, – извинился «Прохор» из-за стола, зычно икнув, и неуклюже замахал в мою сторону обеими руками: спи, спи!.. Нагнулся, чтобы поднять, что так звякнуло – грохнулся со стула, а встать – я помог ему это сделать. Натянув на себя лишь брюки, подсел к нему и подпёр его своим плечом, чтобы он не брякнулся снова, хоть и на ковёр. В это время Света продолжала спать, лёжа на боку, а к нам – спиной, прикрытая по плечи простынёй – ни дребезжащий звон, ни наши с Юркой голоса не потревожили в ней приятной истомы. Да и спала она крепко всегда после того, когда отдавалась мне, не сдерживая в себе всё то, что в минуты близости доказывало ей – желанна и любима (так ей казалось, что любима, а скорее – хотелось и того и другого).
Я спросил Юрку, почему так сильно ужрался, и мой вопрос, что называется …в бровь!
– Не дала… Не нравлюсь я ей, хотя хорошая она, …Таня!
И ответил так, будто и не пил вовсе. Правда, когда стал шептать мне на ухо, что понимает – девчонка ждёт своего принца под алыми парусами, а он – всего-то токарь машзавода…, мне едва удавалось его удержать в равновесии. А ещё тощий, как и я сам, потому и гнуло его то к столу с закусками, то буквально швыряло от стола.
– А всё ты, всё ты!.. – выдал он неожиданно, не презрительно и не обидчиво – раздосадовано.
И пояснил, хоть и здорово пьяный, всё равно подыскивая слова в паузах, чтобы не унизиться самому и меня не выставить виноватым:
– Всё ей рассказал: когда и как познакомились с тобой, в какой школе учились, как учились…
Делая вид, что слушаю «Прохора», я лишь тогда вспомнил цвет глаз Тани: зелёно-карие. Что бездонные – это я отметил сразу, ещё до того, как взял в руки гитару, а вот их цвет лишь зафиксировался в памяти.
Юрке не повезло: жаль, что Первомай для него начался с водки и ею же заканчивался. А мне, разве, не отказывали… Подумал об этом, и это же сказал вслух – и Юрке от этих слов, вроде, стало легче.
– Как ты там говоришь? Ну, козырная твоя фраза! …Ага – он сам вспомнил: «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. …Карету мне! Карету!».
Зная упрямый и нетерпеливый нрав «Прохора», удерживать его я не стал – довёл до двери и вывел на улицу. Вечер, обступивший дом со всех сторон, только-только приблизился к окнам сумерками и они ещё поблёскивали. В сумерки он и ушёл. Но перед тем посоветовал мне, по-дружески, подняться к Тане:
– Хорошая она, куда твоей Светке до неё!
Я был в том возрасте, когда близость с девушкой, а особенно с женщиной, познавшей мужскую любовную страсть, или пусть и не прочувствовавшей её на себе, непременно окрыляет мужское начало в молодом мужчине. И этим будто бы подталкивает тебя, с каждым новым любовным романом, к откровению с собой, что ты уже можешь желать девушку или женщину открыто, не дожидаясь от неё ни намёков, что желает того же, ни чего-то ещё в этом роде. Если она свободна, конечно. Хотя я уже тогда умозаключал (для себя пока что!), что высокая нравственность и такая же, высокая, моральность, грубо говоря, в постельных делах – удача лишь тех, кто полюбил одну, или полюбила одного, раз и навсегда! Я слышал, что такое бывает – любовь до гроба, да думалось, возвращаясь в дом, а как узнать – единственный ты и навсегда любимый для кого-то, если не прочувствовать это на себе? Или той же самой Тане не предоставить возможность определиться именно с этим: её ли «принц» приплыл к ней из бытия ожиданий или не её всё же «всадник», загнав не одну лошадь, прискакал к ней, единственной. И такой, благоприятный для этого момент, предоставившемся случаем как бы сам собой настал для меня. И для неё ведь тоже!
…Она только глубже прикрылась, увидев меня босого, без рубахи, но в брюках. Была ли удивлена, – да нет: одной рукой поправила края простыни, чтобы её постель со стороны от открытых дверей на ажурный балкончик, сработанный, похоже, тем же мастером, что и калитка, выглядела белоснежной и свежо.
– «Закрой глаза – увидишь парус, вишнёвый так цветут сады», – заговорил я к ней стихотворными строками, родившимися в моей голове под впечатлением от вида калитки; не увидев рядом с кроватью на что могу сесть – сел перед ней на зелёный (и оказалось, что очень мягкий), будто весенняя травка палас и, скрестив ноги, я продолжил, спросив серьёзно: – …Закрыла?
Ответом был её и насмешливый, и любопытный в то же время взгляд: поиграем в воображение? Я кивнул, убеждённо.
– …Видишь: это ты стоишь на берегу.
Таня тут же закрыла глаза.
– Воображая, и часто – признался я ей, – так зову свою мечту… Она становится ближе ко мне. И это правда. …Вишнёвые паруса видишь?
– Ну, вижу, – отозвалась Таня, и не просто отозвалась – с интересом.
– Глаза не открывай! – строго предупредил её я. – Тот, кто приплыл к тебе под этими парусами, подходит к тебе – его лицо видишь только ты – и берёт твои ладони в свои. …Таня, руки твои где?
Таня робко и даже настороженно вынула из-под простыни свои ухоженные ручонки, развернув их ладонями кверху.
– Что ты чувствуешь сейчас…, – на её ладони я положил свои, к этому времени стоя уже на коленях и склонившись над ней, – тебе неприятно: его ладони тяжёлые и холодные? Чужие тебе?
– Нет! Они не такие! – торопливо возразила Таня.
– В них сила и надёжность?
– Не знаю. …Приятно от их прикосновения. И жарко очень.
– Это твой мужчина, Таня, твой! Сейчас ты прочувствуешь на себе его губы – губы не молчаливы в отличие от рук. Они разговаривают сладкой влажностью или сухой терпкостью.
Осторожно и легонько я стал целовать уголки Таниных губ – она открыла глаза, но что-то в ней самой сомкнуло ресницы снова. Её русая головка, соскользнув с подушки, приподняла ей подбородок и губы произвольно приоткрылись. Вдохнув глубоко и с наслаждением, её ладони коснулись моей спины, а затем пальчики мягким гребнем вошли в мои волосы. И она позволила целовать её всю, приподняв ноги в коленях и так стягивая с самой себя простынь. …Опомнилась – замерла, когда ей стало больно. Я уже знал, почему бывает больно – извинился тут же: откуда мне было знать, что она ещё девственница; приподнялся на локтях, чтобы всё это закончить, но гребень её пальчиков стал жёстким и притянул мои губы к её губам, заговорившими со мной сладкой влажностью. Этим она дала мне понять, что её девичьи грёзы, позвав мечту, стали явью, и её чувств тоже, а майский вечер, потушивший солнце, станет последним, девичьим, и первым в качестве уже женщины…
Завтракали не так весело, как вчера праздновали. Воспользовавшись разговором Светы по телефону со своей мамой, Таня тихонько и осторожно спросила меня:
– Мы ещё увидимся?
– 4 мая у меня день рождения, но обычно мы «гудим» всем двором по этому поводу сразу после Первомая. Сегодня начнём – к обеду меня уже будут ждать в апельсиновой роще (объяснять, что апельсиновая роща – это абрикосовая посадка рядом с городскими прудами, я не стал: сказал так по привычке). Но 5 мая я ложусь в больницу, возле кинотеатра «Украина»…
Таня закивала головкой – знает, где это.
– У меня язва, с Армии. Водкой только и спасаюсь. Направление мне выписали ещё до праздников – кровоточить начала. Надо ложиться.
– И ты ещё в шахте работаешь?
Таня обхватила руками голову, тряся ею, будто знала, каково это – рана в желудке да к тому же и кровоточит. На это я лишь пожал плечами, и продолжил:
– …На первом этаже находится челюстно-лицевое отделение, а вот на втором – терапия, там меня и найдёшь. Запомни, или лучше запиши, мою фамилию…
Таня улыбнулась кротко, но явственно смеясь глазами.
– Мой Радомский! Мой Радомский! …Светка о тебе только так всем и говорит: «Мой!..». Давно твою фамилию знаю.
И смех в её глазах исчез, будто и не было его вовсе – обернулась на голос Светланы, а та всё ещё продолжала успокаивать маму и клялась, что скоро будет дома. Таня кусала то верхнюю губу, то нижнюю: злилась, наверное. Потом обронила вряд ли невзначай: «Твой и …мой!».
– — —
В отделении терапии меня знали как облупленного: за два года, что я легко отгулял, но тяжело отработал после срочной службы в ГСВГ (Группа Советских войск в Германии), это был мой четвёртый вояж …за здоровьем, хотя бы до осени, когда нездоровье снова примчится, и обязательно. Запомнили почему? А как не запомнить больного, неизменно с гитарой, как со своим собственным лекарством. Всегда – за спиной, на зелёном в белых узорах ремне, и красивая такая – явно заграничная, или гитара – рядышком с ним, да – хоть где: всё равно рядышком.