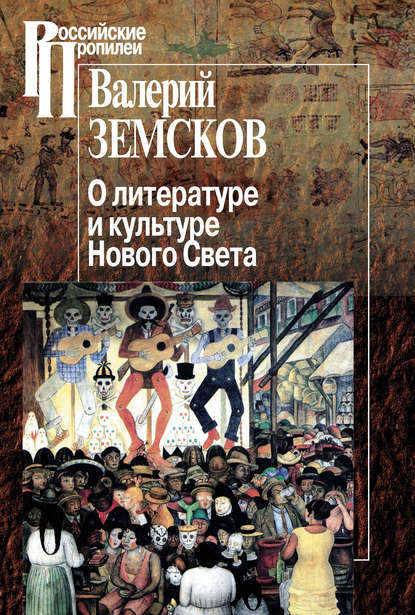По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О литературе и культуре Нового Света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Диктатор предстает в полный рост из суммы свидетельств, и итог им подводит коллективное «мы» – голос народа. Это «мы» – не только субъект повествования, но и другой его герой. То есть перед нами – роман с двумя героями. Один из них – умерший диктатор без имени и древнее доисторического животного; другой – анонимы «мы», хором рассказывающие его историю и размышляющие о ней. Эти два героя («я» – знак отдельной личности, индивидуума, «мы» – знак коллектива, народа) противостоят на протяжении всего романа (им соответствуют оппозиции «двух берегов жизни» – дворца и города). Таким образом, ясно, что история о бессмертном диктаторе, властелине мира, кружащем в вечном порочном времени, не знающем движения, оказывается народным мифом. Он создан теми, кто был не рядом с ним (рядом с собой он признавал лишь матушку Бендисьон Альварадо), а под ним, всеми, кто с разных точек зрения, с разных позиций (а голоса противоречат друг другу, сталкиваются) рассказывает миф о диктаторе.
Кто-то из них видел женственную холеную руку в шелковой перчатке из-за занавески допотопного вагона, кто-то – растопыренную корявую пятерню, кто-то – бравого генерала, выступающего с экрана телевизора, кто-то – маразматического старика, проезжавшего в лимузине, кто-то – оборотня с кривыми когтями, кто-то – доисторическое животное, оставляющее огромные следы на дорожке сада и звериный запах. Теперь ясно, насколько оправданна форма повествования (в оригинале – поток речи с минимальным использованием разбивок и знаков препинания); ясны и причины алогизма сцеплений и подхватов рассказа, нестыковки деталей, фактов, причины множественности облика диктатора. Теперь понятно, сколь оправданно кружение времени, смешение примет всех времен и синхронность размещения символов разных эпох. Ведь это синхрония мифа, мифологическое вечное время, не знающее исторического развития.
Перед нами миф, выстроенный по всем законам мифомышления, более того, миф как бы в натуре, литературно необработанный. Неоднородный, многослойный, он запечатлел в различных своих слоях характерность психологии, социального поведения, мировосприятия целых общественных групп, составляющих народ, – простых темных крестьян, горожан, чиновников, военных, клира, приближенных диктатора, случайных людей из различных слоев. Благодаря этой множественности точек зрения – а мы слышим голоса целых общественных групп – перед нами возникает редкая по насыщенности картина исторического и социального бытия. Психология народа, тип его социального поведения, отношение к неправой власти и самый механизм возникновения мифа открываются с исчерпывающей полнотой в этой коллективной исповеди. В этом «потоке сознания» народа звучат анекдоты о генерале, хвастающем шпорами, которые якобы достались ему по наследству от Великого Адмирала, о неграмотном мужлане – диктаторе-скотопромышленнике, скабрёзные истории о гареме и любовных похождениях страдающего грыжей президента, кошмарные слухи о домах пыток, о массовых убийствах, невероятные сплетни и подхалимские «правдивые» свидетельства городской черни о «Генерале Вселенной», который вертит сутками, как хочет; и наконец, небылицы наивных крестьян об отце-защитнике, патриархе, который поворачивает вспять реки, приказывает деревьям плодоносить и излечивает младенцев, прокаженных и паралитиков. Все голоса сливаются в единый голос всех времен, в единый фантасмагорический миф.
Итак, снова миф. Чтобы понять его природу и масштаб, нужно обратить внимание на ситуацию, в которой он воссоздается голосом народа. Происходит это у трупа диктатора. Типичная для художественного мышления Гарсиа Маркеса тема смерти и организации повествования «вокруг трупа» повторены и в новом романе, определив весь его сюжетно-композиционный строй. Роман начинается с того, что народ, узнав о смерти диктатора, проникает во дворец, собирается вокруг его трупа и начинает судить и рядить об его жизни, а значит, об истории страны и своей истории; каждая последующая часть романа повторяет ту же сцену: народ толпится у трупа диктатора.
При этом повествование построено не на внутренних монологах героев-одиночек, а на речевой полифонии, исповеди народа перед трупом многоликого оборотня – олицетворения эпохи. Размах обретают и смерть тирана, и исповедь народа.
Гарсиа Маркес несколько раз дает нам ключ: то отмечает, что диктатор лежал «на банкетном столе», т. е. не просто на столе, на который кладут покойников, а на праздничном столе; то пишет прямо: на «банкетном столе истории», т. е. праздничном, карнавальном столе всенародной истории.
В «Похоронах Великой Мамы» похороны диктаторши обернулись всенародным карнавалом, возвещавшим о наступлении новой эпохи. В «Сто лет одиночества» гибель рода одиноких чревата новыми пространствами уже иной народной истории. Но там основной структурный принцип художественного мира писателя, его фантастической действительности – лобовое столкновение жизни и смерти, на полюсах которых происходит взрыв трагикомического смеха, нужно было еще угадать, разглядеть. В «Осени патриарха» этот принцип заложен в саму основу произведения. Перед нами снова похоронный карнавал, трагедия в обличье комедии, или комедия в обличье трагедии. Трагикомическая травестийная атмосфера пронизывает всю стихию романа, а смеховое жало направлено прежде всего на главных героев романа – диктатора и народ.
Чтобы понять идейно-художественный размах этой новой трагикомедии, следует вдуматься: народ, рассказывающий хором коллективный миф у трупа поверженного смертью тирана, – что это? Это травестия античной трагедии, схема которой воплощена в самом строе романа. Как и в «Сто лет одиночества», обращение к античной культуре, к мифологии, к классической трагедии здесь – средство максимального укрупнения художественно-философской мысли. Поняв общую ситуацию, можно понять логику множества травестийных символов и мотивов биографии диктатора, самый его образ.
Вот, например, деталь, возвращающая нас к излюбленной писателем «трилогии» Софокла о царе, точнее, тиране Эдипе: у Эдипа «колченогого» ноги были изуродованы отцом, у диктатора Гарсиа Маркеса огромные раздавленные ступни, которые он с трудом волочит по покоям дворца, населенного коровами.
Вот другой эпизод. Однажды диктатору приснился страшный сон: заговорщики убивают его ножами для разделки туш, и последний удар наносит ему тот, кто во сне был его сыном. Диктатор умирает, истекая кровью из двадцати трех ран. Наутро министр здравоохранения, листая пухлый том, скажет ему, что такая смерть уже известна в истории человечества, а затем речь пойдет уже о реальном нападении заговорщиков на национальный сенат, где они надеялись убить президента-диктатора. Сенат, двадцать три раны, сын, убивающий отца-тирана… Конечно, это фарсовая парафраза истории убийства Цезаря, которому в сенате было нанесено двадцать три кинжальных раны, а среди убийц был Брут – согласно народной молве, незаконный сын диктатора.
После выхода романа писатель назвал некоторые источники его мифологических и легендарных мотивов. Помимо сочинений о латиноамериканских и иных современных диктаторах, он читал Плутарха, Светония, «Комментарии» Цезаря, другие сочинения античных историков, а также роман «Мартовские иды» американца Торнтона Уайлдера, названный им «лучшим пособием для разгадки тайны власти».
Действительно, сравнив две книги, можно установить немало перекличек и совпадений в трактовке образа диктатора, в деталях биографии, в типе поведения, в характере взаимоотношений диктатора с народом, которые определяются мифологическим постулатом божественного происхождения «отца родины», обожествляемого подданными. Но то, что в античной мифологии непререкаемая истина, то, что у Торнтона Уайлдера – серьезно-философская тема, в «Осени патриарха», как и в «Сто лет одиночества», – предмет травестии, которая пародирует в кривом зеркале трагикомического смеха сакрально-серьезную «истину» и одновременно восстанавливает истину подлинную. Народ, толпящийся у трупа диктатора, хором рассказывает миф, но одновременно этот миф осмеивается, а тем самым разоблачается. Народ осмеивает и самого себя как Создателя этого мифа о шарлатанских «чудесах» жизни патриарха. Осмеяние – разоблачение мифа происходит на каждой странице одновременно с его воссозданием. Писатель достигает этого путем сталкивания различных оценок и интерпретации одного и того же случая, события, сюжета, разбрасывая их по роману, иногда на значительном отдалении. Причем, как и в «Сто лет одиночества», отношение у Гарсиа Маркеса к источникам, как мифологическим, так и историко-литературным, совершенно вольное, все почерпнутые мотивы свободно сочетаются и преобразуются в карнавализованной стихии романа. При этом основной источник пародирования для Гарсиа Маркеса, воссоздающего мир Латинской Америки, где господствует католическая религия, – христианская мифология. Народное сознание в литературном карнавале, устроенном в новом романе, – так же, как и в карнавале жизненном – не признает никаких авторитетов и едва ли не площадным смехом богохульно пародирует новозаветные сюжеты, темы Бога, Христа, Богоматери.
Так, скажем, согласно официальной мифологии, основанной на исконных мифологических мотивах, Цезарь имел божественное происхождение: мать зачала его от удара молнии, а появился он на свет через ухо или через рот. Иными словами, у божественного диктатора нет отца, ибо он сам – воплощение божественной силы. Таков и диктатор у Гарсиа Маркеса, выступающий в роли укротителя изначального хаоса, устроителя мира, культурного героя – благодетеля народа: у него не было отца, а матушка Бендисьон Альварадо (Благословенная Заря!) зачала его непорочно. Эта официальная версия внушается темному народу, а народ верит и в то же время не верит в нее. Разоблачающий глас народа утверждает, что зачатие патриарха произошло самым натуральным образом в темной комнатке придорожного кабака, и неизвестно от кого, ибо мать его была провинциальной шлюхой.
Народу внушается, что диктатор, как Христос, страдает за него и воскресает через три дня после смерти, а молва разоблачает: все три дня после смерти двойника генерал, затаившись, как зверь, – реальный сюжет, известный в латиноамериканской истории! – ожидал реакции народа на весть о своей смерти, чтобы расправиться с неугодными.
В другом эпизоде пародируются библейские мотивы мифа о Ноевом ковчеге: «творец рассвета», как именует пропаганда диктатора, разъезжает во время наводнения по залитой водой столице в ладье, выкрашенной в цвета национального флага, и осеняет все вокруг крестным знамением, приказывая (после окончания наводнения!) небесам – очиститься, а водам – опуститься. Разыгрывается спектакль и со смертью матушки новоявленного Христа. Она умирает от дурной болезни, а народу демонстрируется простыня, на которой чудесным образом воплотился нерукотворный образ скончавшейся официальной Девы. А согласно молве, настырный папский посланец обнаружил, что «нерукотворный» образ намалеван обычными красками…
Вслед за этим писатель травестирует имевшие реальную основу в истории Латинской Америки сюжеты о войне диктатора с Ватиканом. Добиваясь канонизации матушки как национальной покровительницы (в свое время добивалась канонизации местных святых латиноамериканская церковь), диктатор возит по стране, демонстрируя темному народу, «неукротимому стаду быков», которое сметет с пути всякого, кто поставит под сомнение божественность происхождения диктатора, – сначала тело, обложенное льдом, а потом – и всем это известно – мумию-куклу, набитую трухой.
Пародийный образ диктатора-Христа сливается с травестированным образом Цезаря. Как Цезарь в сочинениях античных историков и в «Мартовских идах» – «Хозяин погоды» и «Владыка мира», диктатор в «Осени патриарха», естественно, в травестийной версии – «Генерал Вселенной» и «Генералиссимус Времени» (на вопрос, который час, ему всегда отвечают: какой прикажете). Как и Цезарь, он – «Отец родины», и не только в переносном, но и в буквальном смысле. У Цезаря были сотни незаконных детей, у патриарха – рождающиеся от него недоноски бродят по всей стране.
Одинаково их отношение к женщине. Цезарь между делами или после обеда хладнокровно потребляет попавшуюся ему под руку девочку-рабыню. У диктатора – фантасмагорический гарем, наподобие солдатской казармы, откуда он, не разбираясь, вытаскивает ту или иную наложницу. Вот здесь, в сфере интимных человеческих отношений, – как всегда у Гарсиа Маркеса – кроются корни, начала и концы всей и всякой – индивидуальной и народной истории. Если для Уайлдера отношение к женщине – это одна из характеристик в ряду других, то для Гарсиа Маркеса – это ядро всей его художественной философии неправого мира. И как всегда у Гарсиа Маркеса, «тезисы» его художественной философии излагаются с помощью травестийной «петушиной» образности, которая выявляет трагическое зерно индивидуалистического типа человека и творимой им истории и одновременно снимает драматизм смеховым началом.
Петушиные мотивы разбросаны по всему роману. Словно ненароком, сообщается, что диктатор – любитель петушиных боев, завсегдатай гальеры и отчаянный игрок. Его соперники, конечно же, изо всех сил стараются, чтобы его петух победил – иначе хоть кончай жизнь самоубийством, что и делает один из персонажей. В другом эпизоде вакханалию очередного избиения народа, которую развязывает диктатор, предваряет сцена петушиного боя в гальере. Увидев, как мрачный и хищный петух, забив своего соперника, клюет его голову, диктатор ощущает надвигающуюся опасность покушения и устраивает народу кровавую баню.
Как петух, хлопочет этот патриархальный хозяин в своем президентском хозяйстве, гоняет, как кур, своих подчиненных; как наипервейший петух, генерал забивает насмерть всех своих соперников и, подобно тому, как петух топчет своих наседок, он насилует всю страну. Не случайно в эпизоде, где генерал-патриарх проплывает в «Ноевом ковчеге» по залитой водой столице, вода усеяна тушками мертвых кур. Некоторых петухов диктатор боится: объявив амнистию, он разрешает вернуться в страну всем, кроме интеллектуалов, которые, как говорит генерал, хуже политиков, ибо у них, как у породистых петухов, постоянный жар в перьевых стержнях. А покорный народ, одураченный пропагандой и одурманенный мифом, созданным самим же народом, послушно после каждого избиения, собираясь под президентским балконом, славит первого петуха: «Да здравствует настоящий мужчина!» Точнее перевести, используя слово, которым в оригинале назван диктатор, – «мачо»: «Да здравствует первейший самец!» Распространенный же символ «мачо» и «мачизма» как самоутверждения грубым насилием – это петух…
В связи с этим особое символическое значение имеет исполненная глубокого смысла деталь: диктатор на левом сапоге носит золотую шпору, подаренную ему Колумбом! Петушиная шпора, перешедшая в наследство от того, чье открытие стало прологом кровавой бойни, устроенной в Америке европейскими завоевателями, и установления колониальной системы, поработившей на века коренное население континента, символизирует не только дурную вечность установившегося на открытых землях неправого мира, но и самые его основы. Петушиная шпора – знак нехватки истинно человеческого в человеке (и в народе) эпохи «предыстории». А самое яркое и полное выражение эта тема вновь находит в сфере наиболее сущностных человеческих отношений (продолжение рода) и самой яркой форме истинной гуманистичности, каковой является в философии Гарсиа Маркеса любовь.
У Торнтона Уайлдера отсутствие любви для Цезаря – естественное, хотя смутно тревожное состояние; для диктатора Гарсиа Маркеса отсутствие любви значит много больше. Ведь он предстает не только в мифологизированном облике оборотня-петуха со шпорой и кривыми, словно ястребиными, когтями, но и в облике простого человека, в его самой ранимой, самой интимной человеческой сущности.
Не снимая генеральской формы, с саблей на боку и в сапогах со шпорой диктатор силой берет женщин, как петух, «топчет» их в своем курятнике. Однако он не только петух, но и человек, и потому, топча своих куриц, каждый раз ощущает невыносимую тоску и едва не плачет. Всего-то малость для генерала – отношения с женщиной! А оказывается, это главное. Он плачет потому, что лишен приобщенности к высшему в человеческих отношениях. Здесь диктатор предстает не только как воплощение неправого миропорядка, но и его жертва, страдающая и бьющаяся в скорлупе одиночества, подобно одиноким Буэндиа. Он страдает от неумения выйти за пределы своего ограниченного «я» и приобщиться к смутно ощущаемому им высокому началу. Иными словами, в тиране плачет загубленный человек, а вернее, существо, еще не ставшее вполне человеком, но устремленное к идеалу. Поэтому не удивляют парадоксальные слова Гарсиа Маркеса о том, что во многом он наделил диктатора своими личностными чертами. Среди регистров смеха Гарсиа Маркеса здесь звучит и лирический, гоголевский смех сквозь слезы…
Дважды тирана, от которого рождаются одни недоноски, настигает любовь, и дважды он терпит жестокое поражение. Королева красоты карнавала Мануэла Санчес, в честь которой «Генерал Вселенной» объявил прохождение кометы и полное затмение, бесследно исчезла (подобно вознесшейся Ремедиос Прекрасной), оставив старика наедине со своей похотью. Во второй раз диктатор влюбился в монашку Летисию Насарено, от которой исходит родной ему звериный запах. Видимо, не случайно возлюбленную диктатора звали Летисия (летисиа – лисица, и именно так звали мать Наполеона – Цезаря Нового времени!), и не случайно она монашка, значит, отказавшаяся от земной любви, неспособная к ней. И действительно любовь двух существ, неспособных к любви, превратилась в пошлую историю с сомнительным финалом. От Летисии-лисицы (игровое значение имени выявляется тем, что она наматывает на себя – в тропиках! – лисьи воротники!) родился сын Эммануэль – «имя, которым другие боги называют Бога», как сообщает автор, или, согласно библейским текстам, одно из имен Христа. Но однажды и мать, и сын погибли страшной смертью, и зеленщицы на базаре шептались, что такого не произошло бы без согласия генерала. И в самом деле, ведь «божественный» Эммануэль мог стать Брутом или свалить отца с помощью матери, которая со своей многочисленной родней постепенно завладевала браздами правления, а затем объявить, что отца у него (как и у его родителя) не было. Недаром ведь он «Эммануэль»…
Так и не дано генералу познать любовь. Влюбившись, он держит руку на сердце (другое пародирование христианской символики), но от этого она только разбухает. Генералу с распухшей рукой противопоставлен образ «вечного народа», также держащего руку на сердце и знающего, что такое любовь. С тоской диктатор чувствует: когда его уже не станет, все так же будет играть волынка на свадьбе простых людей…
Нет, Гарсиа Маркес не идеализирует народ эпохи «предыстории человечества». О нем он уже все сказал в «Сто лет одиночества». А уж какая там идеализация в этом новом мифе, созданном самим народом?! Народ предстает в разнообразных обликах, в том числе в образе «стада быков», фанатично преданного «отцу родины», слепо верящего в него и в то же время ненавидящего своего мучителя. Бессильный против мифа, созданного им самим, народ безысходно кружит в «спертом воздухе застоявшегося времени». Диктатор знает секрет дурной вечности и раскрывает его: «Это люди, лишенные истории». К такому же выводу приходит и народ, размышляющий в исторический понедельник у трупа диктатора, лежащего на банкетном столе: «Мы не знали никакой другой истории своей родины, кроме той, которая была историей его самого, не знали иного отечества, кроме того, которое он сотворил по своему образу и подобию». Это голос уже иного «мы». Ведь народное «мы», предстающее отнюдь не монолитным на всем протяжении романа, имеет свою диалектику. Одно «мы» принадлежит порочному времени диктаторства – это «мы» робких анонимов, опутанных суевериями и мифами, другое – критическое, бунтующее, размышляющее. Воплощенное сначала в сознании автора, оно начинает судить не только диктатора, но и самого себя и постепенно объективироваться. В финале – это судящий «глас народа», сливающийся с голосом автора.
Взаимоотношения диктаторского, индивидуалистического «я» и коллективистского народного «мы», осознающего суть диктаторства, свое положение и роль в его истории, – этих двух «берегов жизни», двух форм сознания и бытия, развивающихся в противоположных направлениях, – и составляют внутреннюю основу романа. А авторская точка зрения – она везде, даже в голосе диктатора. Страдальческая усмешка, саркастическая гримаса, понимающая улыбка, наконец, смех «сквозь слезы» адресуются автором в равной мере и диктатору, и народу как двум неразделимым частям единого феномена. С позиций диктатора, активного творца своей истории, очевидны и темнота, и наивность простого народа, лишенного собственной истории, и подлость подхалимствующей и хихикающей черни. Временами и автор смотрит на толпу у трона словно со стороны богоравного плута, единственного, кто имеет право быть и является личностью. Но оценивается мир с иной точки зрения – с позиций народного идеала и нового народного коллективизма, и потому смех автора – это смех народа и над самим собой, над своей историей. Народ, знающий любовь, выступает источником и хранителем светло-радостного живого начала, противостоящего холоду одиночества и рожденного из теплоты идеала новой родовой жизни в гармоническом единстве с природой – чудесным бытием, фантастической действительностью, которая, как и в «Сто лет одиночества», хранит прообраз иного времени, противостоящего времени мифа и одиночества.
Здесь внутренне синонимичному ряду «индивидуализм – одиночество – насилие – порочное, круговое время мифа», как и в «Сто лет одиночества», противостоит ряд «народный коллективизм – солидарность – братское единение и любовь – динамичное время истории». Эта антиномия воплощается снова путем искусного сочетания двух враждебных концепций времени – кружащего времени мифа и прогрессивно движущегося времени истории. Ведь одновременно с эффектом кружения времени писатель создает ощущение его движения, причем главным образом не за счет применения символов времени, которые, как уже отмечалось, напротив, служат для создания эффекта его неподвижности на всех этапах. Этот эффект возникает благодаря противоречащей идее бессмертия диктатора – идее его смертности. Как положено в мифе, предании, гадалка, провинциальная Кассандра-провидица, нагадала по гладкой ладони тирана (знак бессмертия) предел его жизни. Его знают и диктатор и народ. Древнего тирана стерег рок, а главный и самый опасный враг современного деспота – время. Тиран отгоняет его, ссорится с ним, приказывает менять календари, часам бить два раза вместо двенадцати. В ослеплении власти он верит в свое бессмертие, шикает на тень смерти, но все время получает напоминание о том, что есть иная вечность, иная сила.
Трижды диктатор испытал чувство унижения. Один раз, когда, наблюдая прохождение кометы, пришедшей из бездны космоса, «Генерал Вселенной» сознает ничтожество и фальшь своего богоподобного положения. Другой раз, когда он видит триумф великого поэта рубежа XIX – XX вв. Рубена Дарио, выдающегося никарагуанца, единственной, кроме Великого Адмирала, исторической личности в романе. В третий раз диктатор испытал унижение, выйдя на «главный балкон отечества», перед которым после очередного избиения собрался народ, чтобы славить своего патриарха. А тиран почувствовал страх и понял, что «никогда не отважится бестрепетно встать в полный рост перед бездной, имя которой – народ», или, как говорится в другом эпизоде, перед народом – «необъятным в своей непостижимости океаном». Все образы-символы «космос – комета – поэт – бездна-море – народ» взаимосвязаны между собой внутренней логикой, они – идеальные знаки иного, будущего времени, противостоящего времени дурного мифа, насилия, одиночества и индивидуализма.
Особое место в этом ряду занимает ключевой образ романа – море. Оно символизирует не только социально-политическую ситуацию зависимой Латинской Америки, но и более глубокие смысловые значения. Как и в рассказах цикла «Невероятная и грустная история наивной Эрендиры…», море – вечная вольная, великолепная в своей красоте и мощи стихия, воплощающая мощь и красоту вселенной, – противостоит тяжкой статике времени вечного насилия, дурного сна народа, закованного в цепи мифа неправого мира. Диктатор знает цену морю. Он – родом из континентальной части страны. И однажды признался, что затеял все войны и боролся за президентское кресло только для того, чтобы увидеть море и завладеть им. Потому он так долго и жестоко торгуется с иностранными послами, прежде чем продать море, которое одновременно есть и сама сущность родины – народа, и, более того, – дух жизни, сила живого бытия.
Человеческое олицетворение вольной стихии «вселенной – моря – народа» – поэт. Он – наиболее полный выразитель океана-народа, глас вселенной, времени, иного мира и времени, носитель идеала красоты и вольности, разлитой в природе и народной жизни. Поэтому оппозиция «диктатор – поэт» приобретает особое смысловое значение. Возможно, она восходит к роману Торнтона Уайлдера «Мартовские иды», где опустошенному Цезарю противостоит знаменитый древнеримский поэт Катулл, безнадежно влюбленный в Клодию, своего рода женский вариант извращенного тирана. Безоглядная любовь Катулла питает его жизнь и поэзию, воплощает творческое начало бытия, связь поэта с вечными силами жизни. Потому Цезаря влечет к Катуллу, который жил, как и Софокл, так, «словно Альпы всегда перед ним, тут». Потому-то так влечет и диктатора Гарсиа Маркеса к Рубену Дарио, поэту, который, противопоставив в свое время идеал красоты, утонченную духовность бездуховности мира, которым правит олигархия, стал символом творческих сил и таланта пробуждающейся к новой исторической жизни Латинской Америки. Поэт, поэзия в конечном счете – это единственная равная в своей мощи сила, противостоящая неправому миру, и самый опасный его враг. Потому так беспомощны Цезарь перед Катуллом, а патриарх перед Рубеном Дарио…
Тут важно и то, что образно-стилистические элементы поэзии Дарио стали компонентом художественной системы романа Гарсиа Маркеса. Как пояснял писатель, его «книга обыгрывает язык Рубена Дарио… сделано это было умышленно… я стал думать, какой поэт был типичным для эпохи великих диктаторов, которые правили, подобно феодалам периода упадка, и таким великим поэтом, вне сомнений, был Рубен Дарио». На некоторые эпизоды, где в травестийную канву романа вводятся цитаты из поэзии Рубена Дарио, указал сам писатель, другие – установили исследователи. Среди цитируемых, например, широко известный «Триумфальный марш», предвещающий новое будущее Латинской Америки, но главное – использование общих принципов искусства Дарио с типичными для него элементом повышенной эстетизации действительности, поисками изобильного, резкого, неожиданного, даже экстравагантного образа, тонкой звуковой и цветовой нюансировкой. Все это характерно для стилевой изобильности и плотной поэтической насыщенности «Осени патриарха». Сама «фантастическая действительность», символизируемая в «Осени патриарха» бесконечной поэзией моря, океана-народа, во многом создана на основе переработки поэтики Рубена Дарио.
Как и в «Сто лет одиночества», вольная действительность, противостоящая дурной статике мифа, народная жизнь, хранящая в себе идеал будущего – мерило, которым мерится неправый мир и отвергается его дурная бесконечность. Диктатор чувствует и знает – это ему нагадала провинциальная Кассандра – настанет день его смерти.
Символ иного времени, пробивающегося сквозь застывшую массу мифа, – такая исполненная сарказма и юмора деталь, как светящий корабельный фонарь; диктатор, завершив вечерний обход дворца, вешает его на крюк у комнаты, где спит, на случай возможного бегства. На вершине власти, богоравный, он оказывается обычным человеком, да еще напуганным, по-своему глубоко несчастным и страдающим. Даже в минуты наибольшего подъема он находится будто в медленной агонии. Уродство, грыжа, гниение, маразм, утрата памяти, которыми он отмечен с самого начала, когда впервые вошел в президентский дворец, также – символы неуклонно делающего свое дело времени. В многозначном контексте произведения его болезни обретают символический смысл, связывая воедино социальное и собственно человеческое. Гниение диктатора – знак гниения неправого миропорядка и одновременно гниения исторического типа человека, порожденного этим миропорядком. На вершине самовластия, возведенного в последнюю степень индивидуализма, тиран, противопоставивший себя людям, миру, всеобщей жизни, начинает расплачиваться за это психозом страха, неутихающим страданием абсолютного одиночества и творческим бесплодием. С вершины гипертрофии «я» начинается обратный путь – путь утраты того, что свойственно человеку как человеку, деградация личности, возвращение ее к животному началу.
Есть и другая сторона в этом процессе одичания: индивидуум на вершине индивидуализма утрачивает индивидуальность, а это означает распад человека, превращение его в ничто. Дважды в романе заходит речь об имени диктатора. Первый раз, на вершине власти, он отказался от имени (я – это я!), так и неизвестно, действительно ли имя (Сакариас) было его. Во второй раз он вспомнил свое имя, не называя его, когда за ним пришла смерть. Теперь уже смерть зачеркивает имя диктатора, называя «Генерала Вселенной» древнегреческим именем Никанор, – так, как она называла тысячу лет назад античных тиранов, приходя по их душу. Никанор – это значит «видящий победу», в этом случае не свою, а победу смерти, а это значит победу времени, истории, жизни.
Важно и то, как умирает диктатор. Здесь все пронизано мотивами, суммирующими идейные смыслы романа. Убийство тирана происходит именно так, как однажды ему приснилось во сне с сюжетом смерти Цезаря, двадцать три окна дворца, в которые он видит город, лишенный моря, но дышащий жарким дыханием непостижимого народа-океана, – это двадцать три кинжальных удара, нанесенных диктатору жизнью, историей, временем, народом.
Как и в «Сто лет одиночества», тиран, потомок полковника Аурелиано Буэндиа, взглянув в зеркало смерти, перед гибелью понял свой тайный порок – неспособность к любви, вместо нее одинокая страсть к власти. Но изменить ничего нельзя, и ему остается только, вцепившись в лоскутья паруса (ладья Харона!), нестись в небытие.
Старик умер в затасканной одежонке, но в «исторический понедельник» робко проникшие в его дворец анонимы нашли его в генеральской форме с золотой шпорой на сапоге – в той позе, в какой он должен умереть согласно преданию. Такова сила мифа.
И здесь важна еще одна тема – тема посмертных отношений народа с диктатором. Диктатор предстал после смерти в генеральском величии потому, что над народом довлеет инерция порочного времени и он, не проснувшись от «тысячелетней спячки», все еще верит в миф. Это народ обрядил диктатора в форму и в растерянности толпится вокруг «банкетного стола истории», ожидая, воскреснет старик или нет. Более того, народ скорбит «неподдельной скорбью». Беспрекословно подставлявшие себя под клюв петуха анонимы теперь не знают, как жить без него: иными словами, люди, не имевшие другой истории, кроме той, что творил диктатор, не умеют ее делать. Миф, созданный народом на основе тех басен, что внушались ему диктатором и его пропагандой, липкой массой стискивает сознание народа. Вот опасная сторона мифотворчества «Блакаманов от политики», продавцов фальшивых чудес, которые могут направить мощную силу сознания и воображения народа в роковую для него сторону.
Но в финале народ предстает все-таки иным. Боготворивший диктатора, «любивший его с неиссякаемой страстью» и ненавидевший его, народ находит свой «берег жизни». «Бессчетное время вечности» кончилось, а значит, кончилось время мифа, и время теперь должно пойти вперед.
Смысл этого финала станет ясен, если понять, почему смерть назвала латиноамериканского диктатора так, как называла древнегреческих тиранов. Заложив в образ диктатора черты древнего тирана, писатель тем самым предельно раздвинул временные и смысловые рамки своего произведения. Мысль писателя вышла за пределы Латинской Америки и за ее возраст в глубь истории мира, к его «началам». Вот почему на «банкетном столе истории» перед народом, который пробудился после «тысячелетней спячки», лежит существо «древнее доисторического животного». С его смертью умирает измеряемая веками доисторическая эпоха «предыстории» человечества и начинается его подлинная история, творимая на основах народного коллективизма, но коллективизма нового, не того, что объединял людей в стадо быков.
Возможно, образы «Осени патриарха» утратили ту «дымку» поэтической загадочности, что придавала особую прелесть образам «Ста лет одиночества», но зато здесь художник выиграл в ясности философской мысли и мощи художественного обобщения. В «Осени патриарха» коренная для Гарсиа Маркеса идея необходимости для человечества прощания с прошлым – «предысторией» – и вступления в принципиально новую социально-духовную эпоху подлинной истории и новой гуманистичности приобрела окончательную ясность. В сравнении со «Сто лет одиночества» прибавился и новый мотив – мысль об опасности, таящейся в самом народе-мифотворце, предупреждение против опасности мифов, душащих народную жизнь, историю…
Роман «Осень патриарха» – порождение зрелого сознания художника. Именно в этот период Гарсиа Маркес стал все больше времени уделять общественной деятельности, участвовать в кампаниях солидарности с кубинской революцией, с чилийским народом, ставшим жертвой контрреволюционного переворота 1973 г., выступать с политической публицистикой о борьбе народов Вьетнама, Анголы, о подвигах никарагуанских революционеров, боровшихся с диктатурой Сомосы, а затем сальвадорских патриотов. В 1970-х годах Гарсиа Маркес – виднейшая фигура патриотического движения латиноамериканской творческой интеллигенции за демократию и суверенитет.
Глубокий смысл кроется в ярком жесте Гарсиа Маркеса – принесенной им своего рода публичной клятве не публиковать художественных произведений и все время уделять политической журналистике до тех пор, пока не падет чилийский диктатор Пиночет. И действительно, с 1975 г., когда вышел роман «Осень патриарха», до 1981 г. новых художественных произведений Гарсиа Маркеса в печати не появлялось. Открытый вызов, брошенный диктатору писателем, приобретшим к тому времени уже мировую славу, по-своему воспроизводил в жизни тот сюжет, что разыгрался в «Осени патриарха» между тираном и Рубеном Дарио – неоднократно возникавший универсальный сюжет мировой истории и литературы: противостояние тирана-царя и поэта-мудреца. Две фигуры, максимально воплощающие враждебные начала жизни – антигуманизм и гуманизм. В интервью журналу чилийской эмиграции «Араукария» Гарсиа Маркес рассказал, что однажды совсем близко увидел своего противника Пиночета в исполненной символического смысла континентальной дуэли. «Я не испытывал к нему ненависти, и это меня обрадовало, – говорил писатель, – у меня было только чувство жалости». Той самой, что испытывал поэт к загубленному человеку, плакавшему в одиноком патриархе, а вернее не к человеку, а существу, еще не ставшему вполне человеком…
Впоследствии, в 1981 г., на состоявшейся в Гаване Первой встрече представителей интеллигенции в защиту суверенитета Латинской Америки чилийская делегация во главе с политическим деятелем и писателем Володей Тейтельбоймом выступила с просьбой о прекращении «забастовки» Гарсиа Маркеса, ибо публикация его новых художественных произведений станет эффективным вкладом в борьбу с тиранией. С этим суждением прямо перекликаются слова самого писателя, сказанные им вскоре в одном из интервью: «Те, кто нападает на меня как на политического деятеля, мало что понимают в литературе. Им следовало бы осознать, что я более опасен как писатель, нежели как политик».
Образец «опасного» творчества Гарсиа Маркеса – повесть «История одной смерти, о которой знали заранее» (1981). В ее основе – мало что сама по себе значащая история любви с убийством в колумбийском городке Сукре, где когда-то жили родители Гарсиа Маркеса и куда он приезжал к ним на каникулы. После выхода повести журналисты побывали в Сукре (он послужил прототипом городка и в повести «Полковнику никто не пишет» и романе «Недобрый час») и убедились в том, что в ней точно воспроизведены топография городка и история, которая произошла там в 1951 г.
Имена и фамилии персонажей писатель изменил, но все в повести происходит именно так, как было. Справлялась свадьба, но в первую брачную ночь Боярдо Сан-Роман вернул в родительский дом Анхелу, которая оказалась не невинной. Анхела указала на Сантьяго Насара как на «автора» того «чуда», что произошло с ней, и ее братья, Пабло и Педро Викарио, пошли его искать, чтобы убить. Его друзья, возвращаясь со свадьбы, потеряли Сантьяго из виду, и тот остался без защиты. Обычно открытая, дверь его дома, где он пытался укрыться, оказалась запертой. Убийство воспроизведено точно. При этом Сантьяго не понимал, за что его убивают (умирая, он сказал Гарсиа Маркесу, что не виновен). После убийства зачем-то производилось вскрытие трупа.
«Произошла эта история, – по словам Гарсиа Маркеса, – незадолго до того, как я понял, что станет делом моей жизни, и я почувствовал тогда такую острую потребность рассказать об этом, что, возможно, это событие и определило раз и навсегда мое писательское призвание». Тридцать лет образ убитого друга жил в памяти писателя, так и эдак обдумывавшего эту историю. Сложилась она окончательно в сознании уже зрелого писателя – на почве концепции фантастической действительности. В новой повести она претерпела дальнейшую и столь существенную эволюцию, что возникает вопрос, можно ли теперь ее определить понятием «фантастической действительности». Ведь в повести нет ни фантастики, ни неизменно сопутствующего ей травестийно-смехового начала. И тем не менее родовая глубинная связь между мирами предшествующих произведений и новой повестью налицо. Именно поэтому столь органичны здесь герои со знакомыми фамилиями Игуаран, Буэндиа, с которыми в родственных связях находится и участвующий в действии под своим именем и фамилией автор. Фантастика и смех не исчезли, но ушли на периферию писательского сознания, отбрасывая блики, или, пользуясь определением М. М. Бахтина, «рефлексы» на трагедию, что и определяет принципиальную многотоновость, тончайшую нюансировку художественного целого.
Перед нами случай, когда карнавализованное по своей природе сознание переносит акценты с фантастически-смехового на жизненно-серьезный план жизни, но сохраняет главный свой принцип: лобовое столкновение жизни и смерти, замыкание их полюсов, в результате все бытие оказывается просвеченным словно мгновенно вспыхнувшим мощным источником света до глубинных его оснований. Перед нами снова повествование, построенное вокруг смерти, убийства, и снова труп провоцирует самоизъяснение жизни перед лицом смерти, и снова герой, исповедующийся у трупа, – это весь народ, а коллективная исповедь народа вновь порождает речевую полифонию. Это значит, что писатель вновь обратился к поэтике античной трагедии, к главному ее принципу – всенародности действия и речевого самовыражения (хор в античной трагедии – хор народных голосов в повести). Но, в отличие от «Осени патриарха», началом, провоцирующим народ на исповедь, выступает автор, сам Гарсиа Маркес, он говорит от первого лица и берет на себя роль дирижера хорового народного гласа.
Гарсиа Маркес построил новое произведение, использовав метод обнажения приема, а именно – конструкции своей творческой истории. Так же, как в каждый приезд в Сукре, писатель в книге расспрашивает о роковом дне родственников, друзей, жителей городка, участников событий, выясняет детали, указывает момент вступления в хоровую полифонию того или иного персонажа со своими воспоминаниями и дополняет хоровую версию своими сомнениями, размышлениями, воссоздавая ход событий. Коллективная исповедь – это одновременно и расследование, которое ведет автор, не только как дирижер хора, но и как следователь, реконструирующий картину убийства с расстояния в тридцать лет. Главная его цель – восстановление «разбившегося зеркала памяти» народа, а следовательно, установление истины и виновников трагического происшествия. В критике отмечали (и это действительно следует из названия произведения, в оригинале «Crоnica de una muerte anunciada», в буквальном переводе – «Хроника объявленной смерти»), что повесть содержит элементы газетной уголовной хроники. Но как в заглавии элемент газетной хроники сочетается с философско-поэтическим планом (заголовок можно перевести: «Хроника возвещенной смерти»), так же и образ автора-хроникера соединяется с образом взволнованного (так, словно расследование ведется не через тридцать лет, а по следам событий) лирического героя-поэта, осмысливающего события в универсальных категориях художественной философии.
Кто-то из них видел женственную холеную руку в шелковой перчатке из-за занавески допотопного вагона, кто-то – растопыренную корявую пятерню, кто-то – бравого генерала, выступающего с экрана телевизора, кто-то – маразматического старика, проезжавшего в лимузине, кто-то – оборотня с кривыми когтями, кто-то – доисторическое животное, оставляющее огромные следы на дорожке сада и звериный запах. Теперь ясно, насколько оправданна форма повествования (в оригинале – поток речи с минимальным использованием разбивок и знаков препинания); ясны и причины алогизма сцеплений и подхватов рассказа, нестыковки деталей, фактов, причины множественности облика диктатора. Теперь понятно, сколь оправданно кружение времени, смешение примет всех времен и синхронность размещения символов разных эпох. Ведь это синхрония мифа, мифологическое вечное время, не знающее исторического развития.
Перед нами миф, выстроенный по всем законам мифомышления, более того, миф как бы в натуре, литературно необработанный. Неоднородный, многослойный, он запечатлел в различных своих слоях характерность психологии, социального поведения, мировосприятия целых общественных групп, составляющих народ, – простых темных крестьян, горожан, чиновников, военных, клира, приближенных диктатора, случайных людей из различных слоев. Благодаря этой множественности точек зрения – а мы слышим голоса целых общественных групп – перед нами возникает редкая по насыщенности картина исторического и социального бытия. Психология народа, тип его социального поведения, отношение к неправой власти и самый механизм возникновения мифа открываются с исчерпывающей полнотой в этой коллективной исповеди. В этом «потоке сознания» народа звучат анекдоты о генерале, хвастающем шпорами, которые якобы достались ему по наследству от Великого Адмирала, о неграмотном мужлане – диктаторе-скотопромышленнике, скабрёзные истории о гареме и любовных похождениях страдающего грыжей президента, кошмарные слухи о домах пыток, о массовых убийствах, невероятные сплетни и подхалимские «правдивые» свидетельства городской черни о «Генерале Вселенной», который вертит сутками, как хочет; и наконец, небылицы наивных крестьян об отце-защитнике, патриархе, который поворачивает вспять реки, приказывает деревьям плодоносить и излечивает младенцев, прокаженных и паралитиков. Все голоса сливаются в единый голос всех времен, в единый фантасмагорический миф.
Итак, снова миф. Чтобы понять его природу и масштаб, нужно обратить внимание на ситуацию, в которой он воссоздается голосом народа. Происходит это у трупа диктатора. Типичная для художественного мышления Гарсиа Маркеса тема смерти и организации повествования «вокруг трупа» повторены и в новом романе, определив весь его сюжетно-композиционный строй. Роман начинается с того, что народ, узнав о смерти диктатора, проникает во дворец, собирается вокруг его трупа и начинает судить и рядить об его жизни, а значит, об истории страны и своей истории; каждая последующая часть романа повторяет ту же сцену: народ толпится у трупа диктатора.
При этом повествование построено не на внутренних монологах героев-одиночек, а на речевой полифонии, исповеди народа перед трупом многоликого оборотня – олицетворения эпохи. Размах обретают и смерть тирана, и исповедь народа.
Гарсиа Маркес несколько раз дает нам ключ: то отмечает, что диктатор лежал «на банкетном столе», т. е. не просто на столе, на который кладут покойников, а на праздничном столе; то пишет прямо: на «банкетном столе истории», т. е. праздничном, карнавальном столе всенародной истории.
В «Похоронах Великой Мамы» похороны диктаторши обернулись всенародным карнавалом, возвещавшим о наступлении новой эпохи. В «Сто лет одиночества» гибель рода одиноких чревата новыми пространствами уже иной народной истории. Но там основной структурный принцип художественного мира писателя, его фантастической действительности – лобовое столкновение жизни и смерти, на полюсах которых происходит взрыв трагикомического смеха, нужно было еще угадать, разглядеть. В «Осени патриарха» этот принцип заложен в саму основу произведения. Перед нами снова похоронный карнавал, трагедия в обличье комедии, или комедия в обличье трагедии. Трагикомическая травестийная атмосфера пронизывает всю стихию романа, а смеховое жало направлено прежде всего на главных героев романа – диктатора и народ.
Чтобы понять идейно-художественный размах этой новой трагикомедии, следует вдуматься: народ, рассказывающий хором коллективный миф у трупа поверженного смертью тирана, – что это? Это травестия античной трагедии, схема которой воплощена в самом строе романа. Как и в «Сто лет одиночества», обращение к античной культуре, к мифологии, к классической трагедии здесь – средство максимального укрупнения художественно-философской мысли. Поняв общую ситуацию, можно понять логику множества травестийных символов и мотивов биографии диктатора, самый его образ.
Вот, например, деталь, возвращающая нас к излюбленной писателем «трилогии» Софокла о царе, точнее, тиране Эдипе: у Эдипа «колченогого» ноги были изуродованы отцом, у диктатора Гарсиа Маркеса огромные раздавленные ступни, которые он с трудом волочит по покоям дворца, населенного коровами.
Вот другой эпизод. Однажды диктатору приснился страшный сон: заговорщики убивают его ножами для разделки туш, и последний удар наносит ему тот, кто во сне был его сыном. Диктатор умирает, истекая кровью из двадцати трех ран. Наутро министр здравоохранения, листая пухлый том, скажет ему, что такая смерть уже известна в истории человечества, а затем речь пойдет уже о реальном нападении заговорщиков на национальный сенат, где они надеялись убить президента-диктатора. Сенат, двадцать три раны, сын, убивающий отца-тирана… Конечно, это фарсовая парафраза истории убийства Цезаря, которому в сенате было нанесено двадцать три кинжальных раны, а среди убийц был Брут – согласно народной молве, незаконный сын диктатора.
После выхода романа писатель назвал некоторые источники его мифологических и легендарных мотивов. Помимо сочинений о латиноамериканских и иных современных диктаторах, он читал Плутарха, Светония, «Комментарии» Цезаря, другие сочинения античных историков, а также роман «Мартовские иды» американца Торнтона Уайлдера, названный им «лучшим пособием для разгадки тайны власти».
Действительно, сравнив две книги, можно установить немало перекличек и совпадений в трактовке образа диктатора, в деталях биографии, в типе поведения, в характере взаимоотношений диктатора с народом, которые определяются мифологическим постулатом божественного происхождения «отца родины», обожествляемого подданными. Но то, что в античной мифологии непререкаемая истина, то, что у Торнтона Уайлдера – серьезно-философская тема, в «Осени патриарха», как и в «Сто лет одиночества», – предмет травестии, которая пародирует в кривом зеркале трагикомического смеха сакрально-серьезную «истину» и одновременно восстанавливает истину подлинную. Народ, толпящийся у трупа диктатора, хором рассказывает миф, но одновременно этот миф осмеивается, а тем самым разоблачается. Народ осмеивает и самого себя как Создателя этого мифа о шарлатанских «чудесах» жизни патриарха. Осмеяние – разоблачение мифа происходит на каждой странице одновременно с его воссозданием. Писатель достигает этого путем сталкивания различных оценок и интерпретации одного и того же случая, события, сюжета, разбрасывая их по роману, иногда на значительном отдалении. Причем, как и в «Сто лет одиночества», отношение у Гарсиа Маркеса к источникам, как мифологическим, так и историко-литературным, совершенно вольное, все почерпнутые мотивы свободно сочетаются и преобразуются в карнавализованной стихии романа. При этом основной источник пародирования для Гарсиа Маркеса, воссоздающего мир Латинской Америки, где господствует католическая религия, – христианская мифология. Народное сознание в литературном карнавале, устроенном в новом романе, – так же, как и в карнавале жизненном – не признает никаких авторитетов и едва ли не площадным смехом богохульно пародирует новозаветные сюжеты, темы Бога, Христа, Богоматери.
Так, скажем, согласно официальной мифологии, основанной на исконных мифологических мотивах, Цезарь имел божественное происхождение: мать зачала его от удара молнии, а появился он на свет через ухо или через рот. Иными словами, у божественного диктатора нет отца, ибо он сам – воплощение божественной силы. Таков и диктатор у Гарсиа Маркеса, выступающий в роли укротителя изначального хаоса, устроителя мира, культурного героя – благодетеля народа: у него не было отца, а матушка Бендисьон Альварадо (Благословенная Заря!) зачала его непорочно. Эта официальная версия внушается темному народу, а народ верит и в то же время не верит в нее. Разоблачающий глас народа утверждает, что зачатие патриарха произошло самым натуральным образом в темной комнатке придорожного кабака, и неизвестно от кого, ибо мать его была провинциальной шлюхой.
Народу внушается, что диктатор, как Христос, страдает за него и воскресает через три дня после смерти, а молва разоблачает: все три дня после смерти двойника генерал, затаившись, как зверь, – реальный сюжет, известный в латиноамериканской истории! – ожидал реакции народа на весть о своей смерти, чтобы расправиться с неугодными.
В другом эпизоде пародируются библейские мотивы мифа о Ноевом ковчеге: «творец рассвета», как именует пропаганда диктатора, разъезжает во время наводнения по залитой водой столице в ладье, выкрашенной в цвета национального флага, и осеняет все вокруг крестным знамением, приказывая (после окончания наводнения!) небесам – очиститься, а водам – опуститься. Разыгрывается спектакль и со смертью матушки новоявленного Христа. Она умирает от дурной болезни, а народу демонстрируется простыня, на которой чудесным образом воплотился нерукотворный образ скончавшейся официальной Девы. А согласно молве, настырный папский посланец обнаружил, что «нерукотворный» образ намалеван обычными красками…
Вслед за этим писатель травестирует имевшие реальную основу в истории Латинской Америки сюжеты о войне диктатора с Ватиканом. Добиваясь канонизации матушки как национальной покровительницы (в свое время добивалась канонизации местных святых латиноамериканская церковь), диктатор возит по стране, демонстрируя темному народу, «неукротимому стаду быков», которое сметет с пути всякого, кто поставит под сомнение божественность происхождения диктатора, – сначала тело, обложенное льдом, а потом – и всем это известно – мумию-куклу, набитую трухой.
Пародийный образ диктатора-Христа сливается с травестированным образом Цезаря. Как Цезарь в сочинениях античных историков и в «Мартовских идах» – «Хозяин погоды» и «Владыка мира», диктатор в «Осени патриарха», естественно, в травестийной версии – «Генерал Вселенной» и «Генералиссимус Времени» (на вопрос, который час, ему всегда отвечают: какой прикажете). Как и Цезарь, он – «Отец родины», и не только в переносном, но и в буквальном смысле. У Цезаря были сотни незаконных детей, у патриарха – рождающиеся от него недоноски бродят по всей стране.
Одинаково их отношение к женщине. Цезарь между делами или после обеда хладнокровно потребляет попавшуюся ему под руку девочку-рабыню. У диктатора – фантасмагорический гарем, наподобие солдатской казармы, откуда он, не разбираясь, вытаскивает ту или иную наложницу. Вот здесь, в сфере интимных человеческих отношений, – как всегда у Гарсиа Маркеса – кроются корни, начала и концы всей и всякой – индивидуальной и народной истории. Если для Уайлдера отношение к женщине – это одна из характеристик в ряду других, то для Гарсиа Маркеса – это ядро всей его художественной философии неправого мира. И как всегда у Гарсиа Маркеса, «тезисы» его художественной философии излагаются с помощью травестийной «петушиной» образности, которая выявляет трагическое зерно индивидуалистического типа человека и творимой им истории и одновременно снимает драматизм смеховым началом.
Петушиные мотивы разбросаны по всему роману. Словно ненароком, сообщается, что диктатор – любитель петушиных боев, завсегдатай гальеры и отчаянный игрок. Его соперники, конечно же, изо всех сил стараются, чтобы его петух победил – иначе хоть кончай жизнь самоубийством, что и делает один из персонажей. В другом эпизоде вакханалию очередного избиения народа, которую развязывает диктатор, предваряет сцена петушиного боя в гальере. Увидев, как мрачный и хищный петух, забив своего соперника, клюет его голову, диктатор ощущает надвигающуюся опасность покушения и устраивает народу кровавую баню.
Как петух, хлопочет этот патриархальный хозяин в своем президентском хозяйстве, гоняет, как кур, своих подчиненных; как наипервейший петух, генерал забивает насмерть всех своих соперников и, подобно тому, как петух топчет своих наседок, он насилует всю страну. Не случайно в эпизоде, где генерал-патриарх проплывает в «Ноевом ковчеге» по залитой водой столице, вода усеяна тушками мертвых кур. Некоторых петухов диктатор боится: объявив амнистию, он разрешает вернуться в страну всем, кроме интеллектуалов, которые, как говорит генерал, хуже политиков, ибо у них, как у породистых петухов, постоянный жар в перьевых стержнях. А покорный народ, одураченный пропагандой и одурманенный мифом, созданным самим же народом, послушно после каждого избиения, собираясь под президентским балконом, славит первого петуха: «Да здравствует настоящий мужчина!» Точнее перевести, используя слово, которым в оригинале назван диктатор, – «мачо»: «Да здравствует первейший самец!» Распространенный же символ «мачо» и «мачизма» как самоутверждения грубым насилием – это петух…
В связи с этим особое символическое значение имеет исполненная глубокого смысла деталь: диктатор на левом сапоге носит золотую шпору, подаренную ему Колумбом! Петушиная шпора, перешедшая в наследство от того, чье открытие стало прологом кровавой бойни, устроенной в Америке европейскими завоевателями, и установления колониальной системы, поработившей на века коренное население континента, символизирует не только дурную вечность установившегося на открытых землях неправого мира, но и самые его основы. Петушиная шпора – знак нехватки истинно человеческого в человеке (и в народе) эпохи «предыстории». А самое яркое и полное выражение эта тема вновь находит в сфере наиболее сущностных человеческих отношений (продолжение рода) и самой яркой форме истинной гуманистичности, каковой является в философии Гарсиа Маркеса любовь.
У Торнтона Уайлдера отсутствие любви для Цезаря – естественное, хотя смутно тревожное состояние; для диктатора Гарсиа Маркеса отсутствие любви значит много больше. Ведь он предстает не только в мифологизированном облике оборотня-петуха со шпорой и кривыми, словно ястребиными, когтями, но и в облике простого человека, в его самой ранимой, самой интимной человеческой сущности.
Не снимая генеральской формы, с саблей на боку и в сапогах со шпорой диктатор силой берет женщин, как петух, «топчет» их в своем курятнике. Однако он не только петух, но и человек, и потому, топча своих куриц, каждый раз ощущает невыносимую тоску и едва не плачет. Всего-то малость для генерала – отношения с женщиной! А оказывается, это главное. Он плачет потому, что лишен приобщенности к высшему в человеческих отношениях. Здесь диктатор предстает не только как воплощение неправого миропорядка, но и его жертва, страдающая и бьющаяся в скорлупе одиночества, подобно одиноким Буэндиа. Он страдает от неумения выйти за пределы своего ограниченного «я» и приобщиться к смутно ощущаемому им высокому началу. Иными словами, в тиране плачет загубленный человек, а вернее, существо, еще не ставшее вполне человеком, но устремленное к идеалу. Поэтому не удивляют парадоксальные слова Гарсиа Маркеса о том, что во многом он наделил диктатора своими личностными чертами. Среди регистров смеха Гарсиа Маркеса здесь звучит и лирический, гоголевский смех сквозь слезы…
Дважды тирана, от которого рождаются одни недоноски, настигает любовь, и дважды он терпит жестокое поражение. Королева красоты карнавала Мануэла Санчес, в честь которой «Генерал Вселенной» объявил прохождение кометы и полное затмение, бесследно исчезла (подобно вознесшейся Ремедиос Прекрасной), оставив старика наедине со своей похотью. Во второй раз диктатор влюбился в монашку Летисию Насарено, от которой исходит родной ему звериный запах. Видимо, не случайно возлюбленную диктатора звали Летисия (летисиа – лисица, и именно так звали мать Наполеона – Цезаря Нового времени!), и не случайно она монашка, значит, отказавшаяся от земной любви, неспособная к ней. И действительно любовь двух существ, неспособных к любви, превратилась в пошлую историю с сомнительным финалом. От Летисии-лисицы (игровое значение имени выявляется тем, что она наматывает на себя – в тропиках! – лисьи воротники!) родился сын Эммануэль – «имя, которым другие боги называют Бога», как сообщает автор, или, согласно библейским текстам, одно из имен Христа. Но однажды и мать, и сын погибли страшной смертью, и зеленщицы на базаре шептались, что такого не произошло бы без согласия генерала. И в самом деле, ведь «божественный» Эммануэль мог стать Брутом или свалить отца с помощью матери, которая со своей многочисленной родней постепенно завладевала браздами правления, а затем объявить, что отца у него (как и у его родителя) не было. Недаром ведь он «Эммануэль»…
Так и не дано генералу познать любовь. Влюбившись, он держит руку на сердце (другое пародирование христианской символики), но от этого она только разбухает. Генералу с распухшей рукой противопоставлен образ «вечного народа», также держащего руку на сердце и знающего, что такое любовь. С тоской диктатор чувствует: когда его уже не станет, все так же будет играть волынка на свадьбе простых людей…
Нет, Гарсиа Маркес не идеализирует народ эпохи «предыстории человечества». О нем он уже все сказал в «Сто лет одиночества». А уж какая там идеализация в этом новом мифе, созданном самим народом?! Народ предстает в разнообразных обликах, в том числе в образе «стада быков», фанатично преданного «отцу родины», слепо верящего в него и в то же время ненавидящего своего мучителя. Бессильный против мифа, созданного им самим, народ безысходно кружит в «спертом воздухе застоявшегося времени». Диктатор знает секрет дурной вечности и раскрывает его: «Это люди, лишенные истории». К такому же выводу приходит и народ, размышляющий в исторический понедельник у трупа диктатора, лежащего на банкетном столе: «Мы не знали никакой другой истории своей родины, кроме той, которая была историей его самого, не знали иного отечества, кроме того, которое он сотворил по своему образу и подобию». Это голос уже иного «мы». Ведь народное «мы», предстающее отнюдь не монолитным на всем протяжении романа, имеет свою диалектику. Одно «мы» принадлежит порочному времени диктаторства – это «мы» робких анонимов, опутанных суевериями и мифами, другое – критическое, бунтующее, размышляющее. Воплощенное сначала в сознании автора, оно начинает судить не только диктатора, но и самого себя и постепенно объективироваться. В финале – это судящий «глас народа», сливающийся с голосом автора.
Взаимоотношения диктаторского, индивидуалистического «я» и коллективистского народного «мы», осознающего суть диктаторства, свое положение и роль в его истории, – этих двух «берегов жизни», двух форм сознания и бытия, развивающихся в противоположных направлениях, – и составляют внутреннюю основу романа. А авторская точка зрения – она везде, даже в голосе диктатора. Страдальческая усмешка, саркастическая гримаса, понимающая улыбка, наконец, смех «сквозь слезы» адресуются автором в равной мере и диктатору, и народу как двум неразделимым частям единого феномена. С позиций диктатора, активного творца своей истории, очевидны и темнота, и наивность простого народа, лишенного собственной истории, и подлость подхалимствующей и хихикающей черни. Временами и автор смотрит на толпу у трона словно со стороны богоравного плута, единственного, кто имеет право быть и является личностью. Но оценивается мир с иной точки зрения – с позиций народного идеала и нового народного коллективизма, и потому смех автора – это смех народа и над самим собой, над своей историей. Народ, знающий любовь, выступает источником и хранителем светло-радостного живого начала, противостоящего холоду одиночества и рожденного из теплоты идеала новой родовой жизни в гармоническом единстве с природой – чудесным бытием, фантастической действительностью, которая, как и в «Сто лет одиночества», хранит прообраз иного времени, противостоящего времени мифа и одиночества.
Здесь внутренне синонимичному ряду «индивидуализм – одиночество – насилие – порочное, круговое время мифа», как и в «Сто лет одиночества», противостоит ряд «народный коллективизм – солидарность – братское единение и любовь – динамичное время истории». Эта антиномия воплощается снова путем искусного сочетания двух враждебных концепций времени – кружащего времени мифа и прогрессивно движущегося времени истории. Ведь одновременно с эффектом кружения времени писатель создает ощущение его движения, причем главным образом не за счет применения символов времени, которые, как уже отмечалось, напротив, служат для создания эффекта его неподвижности на всех этапах. Этот эффект возникает благодаря противоречащей идее бессмертия диктатора – идее его смертности. Как положено в мифе, предании, гадалка, провинциальная Кассандра-провидица, нагадала по гладкой ладони тирана (знак бессмертия) предел его жизни. Его знают и диктатор и народ. Древнего тирана стерег рок, а главный и самый опасный враг современного деспота – время. Тиран отгоняет его, ссорится с ним, приказывает менять календари, часам бить два раза вместо двенадцати. В ослеплении власти он верит в свое бессмертие, шикает на тень смерти, но все время получает напоминание о том, что есть иная вечность, иная сила.
Трижды диктатор испытал чувство унижения. Один раз, когда, наблюдая прохождение кометы, пришедшей из бездны космоса, «Генерал Вселенной» сознает ничтожество и фальшь своего богоподобного положения. Другой раз, когда он видит триумф великого поэта рубежа XIX – XX вв. Рубена Дарио, выдающегося никарагуанца, единственной, кроме Великого Адмирала, исторической личности в романе. В третий раз диктатор испытал унижение, выйдя на «главный балкон отечества», перед которым после очередного избиения собрался народ, чтобы славить своего патриарха. А тиран почувствовал страх и понял, что «никогда не отважится бестрепетно встать в полный рост перед бездной, имя которой – народ», или, как говорится в другом эпизоде, перед народом – «необъятным в своей непостижимости океаном». Все образы-символы «космос – комета – поэт – бездна-море – народ» взаимосвязаны между собой внутренней логикой, они – идеальные знаки иного, будущего времени, противостоящего времени дурного мифа, насилия, одиночества и индивидуализма.
Особое место в этом ряду занимает ключевой образ романа – море. Оно символизирует не только социально-политическую ситуацию зависимой Латинской Америки, но и более глубокие смысловые значения. Как и в рассказах цикла «Невероятная и грустная история наивной Эрендиры…», море – вечная вольная, великолепная в своей красоте и мощи стихия, воплощающая мощь и красоту вселенной, – противостоит тяжкой статике времени вечного насилия, дурного сна народа, закованного в цепи мифа неправого мира. Диктатор знает цену морю. Он – родом из континентальной части страны. И однажды признался, что затеял все войны и боролся за президентское кресло только для того, чтобы увидеть море и завладеть им. Потому он так долго и жестоко торгуется с иностранными послами, прежде чем продать море, которое одновременно есть и сама сущность родины – народа, и, более того, – дух жизни, сила живого бытия.
Человеческое олицетворение вольной стихии «вселенной – моря – народа» – поэт. Он – наиболее полный выразитель океана-народа, глас вселенной, времени, иного мира и времени, носитель идеала красоты и вольности, разлитой в природе и народной жизни. Поэтому оппозиция «диктатор – поэт» приобретает особое смысловое значение. Возможно, она восходит к роману Торнтона Уайлдера «Мартовские иды», где опустошенному Цезарю противостоит знаменитый древнеримский поэт Катулл, безнадежно влюбленный в Клодию, своего рода женский вариант извращенного тирана. Безоглядная любовь Катулла питает его жизнь и поэзию, воплощает творческое начало бытия, связь поэта с вечными силами жизни. Потому Цезаря влечет к Катуллу, который жил, как и Софокл, так, «словно Альпы всегда перед ним, тут». Потому-то так влечет и диктатора Гарсиа Маркеса к Рубену Дарио, поэту, который, противопоставив в свое время идеал красоты, утонченную духовность бездуховности мира, которым правит олигархия, стал символом творческих сил и таланта пробуждающейся к новой исторической жизни Латинской Америки. Поэт, поэзия в конечном счете – это единственная равная в своей мощи сила, противостоящая неправому миру, и самый опасный его враг. Потому так беспомощны Цезарь перед Катуллом, а патриарх перед Рубеном Дарио…
Тут важно и то, что образно-стилистические элементы поэзии Дарио стали компонентом художественной системы романа Гарсиа Маркеса. Как пояснял писатель, его «книга обыгрывает язык Рубена Дарио… сделано это было умышленно… я стал думать, какой поэт был типичным для эпохи великих диктаторов, которые правили, подобно феодалам периода упадка, и таким великим поэтом, вне сомнений, был Рубен Дарио». На некоторые эпизоды, где в травестийную канву романа вводятся цитаты из поэзии Рубена Дарио, указал сам писатель, другие – установили исследователи. Среди цитируемых, например, широко известный «Триумфальный марш», предвещающий новое будущее Латинской Америки, но главное – использование общих принципов искусства Дарио с типичными для него элементом повышенной эстетизации действительности, поисками изобильного, резкого, неожиданного, даже экстравагантного образа, тонкой звуковой и цветовой нюансировкой. Все это характерно для стилевой изобильности и плотной поэтической насыщенности «Осени патриарха». Сама «фантастическая действительность», символизируемая в «Осени патриарха» бесконечной поэзией моря, океана-народа, во многом создана на основе переработки поэтики Рубена Дарио.
Как и в «Сто лет одиночества», вольная действительность, противостоящая дурной статике мифа, народная жизнь, хранящая в себе идеал будущего – мерило, которым мерится неправый мир и отвергается его дурная бесконечность. Диктатор чувствует и знает – это ему нагадала провинциальная Кассандра – настанет день его смерти.
Символ иного времени, пробивающегося сквозь застывшую массу мифа, – такая исполненная сарказма и юмора деталь, как светящий корабельный фонарь; диктатор, завершив вечерний обход дворца, вешает его на крюк у комнаты, где спит, на случай возможного бегства. На вершине власти, богоравный, он оказывается обычным человеком, да еще напуганным, по-своему глубоко несчастным и страдающим. Даже в минуты наибольшего подъема он находится будто в медленной агонии. Уродство, грыжа, гниение, маразм, утрата памяти, которыми он отмечен с самого начала, когда впервые вошел в президентский дворец, также – символы неуклонно делающего свое дело времени. В многозначном контексте произведения его болезни обретают символический смысл, связывая воедино социальное и собственно человеческое. Гниение диктатора – знак гниения неправого миропорядка и одновременно гниения исторического типа человека, порожденного этим миропорядком. На вершине самовластия, возведенного в последнюю степень индивидуализма, тиран, противопоставивший себя людям, миру, всеобщей жизни, начинает расплачиваться за это психозом страха, неутихающим страданием абсолютного одиночества и творческим бесплодием. С вершины гипертрофии «я» начинается обратный путь – путь утраты того, что свойственно человеку как человеку, деградация личности, возвращение ее к животному началу.
Есть и другая сторона в этом процессе одичания: индивидуум на вершине индивидуализма утрачивает индивидуальность, а это означает распад человека, превращение его в ничто. Дважды в романе заходит речь об имени диктатора. Первый раз, на вершине власти, он отказался от имени (я – это я!), так и неизвестно, действительно ли имя (Сакариас) было его. Во второй раз он вспомнил свое имя, не называя его, когда за ним пришла смерть. Теперь уже смерть зачеркивает имя диктатора, называя «Генерала Вселенной» древнегреческим именем Никанор, – так, как она называла тысячу лет назад античных тиранов, приходя по их душу. Никанор – это значит «видящий победу», в этом случае не свою, а победу смерти, а это значит победу времени, истории, жизни.
Важно и то, как умирает диктатор. Здесь все пронизано мотивами, суммирующими идейные смыслы романа. Убийство тирана происходит именно так, как однажды ему приснилось во сне с сюжетом смерти Цезаря, двадцать три окна дворца, в которые он видит город, лишенный моря, но дышащий жарким дыханием непостижимого народа-океана, – это двадцать три кинжальных удара, нанесенных диктатору жизнью, историей, временем, народом.
Как и в «Сто лет одиночества», тиран, потомок полковника Аурелиано Буэндиа, взглянув в зеркало смерти, перед гибелью понял свой тайный порок – неспособность к любви, вместо нее одинокая страсть к власти. Но изменить ничего нельзя, и ему остается только, вцепившись в лоскутья паруса (ладья Харона!), нестись в небытие.
Старик умер в затасканной одежонке, но в «исторический понедельник» робко проникшие в его дворец анонимы нашли его в генеральской форме с золотой шпорой на сапоге – в той позе, в какой он должен умереть согласно преданию. Такова сила мифа.
И здесь важна еще одна тема – тема посмертных отношений народа с диктатором. Диктатор предстал после смерти в генеральском величии потому, что над народом довлеет инерция порочного времени и он, не проснувшись от «тысячелетней спячки», все еще верит в миф. Это народ обрядил диктатора в форму и в растерянности толпится вокруг «банкетного стола истории», ожидая, воскреснет старик или нет. Более того, народ скорбит «неподдельной скорбью». Беспрекословно подставлявшие себя под клюв петуха анонимы теперь не знают, как жить без него: иными словами, люди, не имевшие другой истории, кроме той, что творил диктатор, не умеют ее делать. Миф, созданный народом на основе тех басен, что внушались ему диктатором и его пропагандой, липкой массой стискивает сознание народа. Вот опасная сторона мифотворчества «Блакаманов от политики», продавцов фальшивых чудес, которые могут направить мощную силу сознания и воображения народа в роковую для него сторону.
Но в финале народ предстает все-таки иным. Боготворивший диктатора, «любивший его с неиссякаемой страстью» и ненавидевший его, народ находит свой «берег жизни». «Бессчетное время вечности» кончилось, а значит, кончилось время мифа, и время теперь должно пойти вперед.
Смысл этого финала станет ясен, если понять, почему смерть назвала латиноамериканского диктатора так, как называла древнегреческих тиранов. Заложив в образ диктатора черты древнего тирана, писатель тем самым предельно раздвинул временные и смысловые рамки своего произведения. Мысль писателя вышла за пределы Латинской Америки и за ее возраст в глубь истории мира, к его «началам». Вот почему на «банкетном столе истории» перед народом, который пробудился после «тысячелетней спячки», лежит существо «древнее доисторического животного». С его смертью умирает измеряемая веками доисторическая эпоха «предыстории» человечества и начинается его подлинная история, творимая на основах народного коллективизма, но коллективизма нового, не того, что объединял людей в стадо быков.
Возможно, образы «Осени патриарха» утратили ту «дымку» поэтической загадочности, что придавала особую прелесть образам «Ста лет одиночества», но зато здесь художник выиграл в ясности философской мысли и мощи художественного обобщения. В «Осени патриарха» коренная для Гарсиа Маркеса идея необходимости для человечества прощания с прошлым – «предысторией» – и вступления в принципиально новую социально-духовную эпоху подлинной истории и новой гуманистичности приобрела окончательную ясность. В сравнении со «Сто лет одиночества» прибавился и новый мотив – мысль об опасности, таящейся в самом народе-мифотворце, предупреждение против опасности мифов, душащих народную жизнь, историю…
Роман «Осень патриарха» – порождение зрелого сознания художника. Именно в этот период Гарсиа Маркес стал все больше времени уделять общественной деятельности, участвовать в кампаниях солидарности с кубинской революцией, с чилийским народом, ставшим жертвой контрреволюционного переворота 1973 г., выступать с политической публицистикой о борьбе народов Вьетнама, Анголы, о подвигах никарагуанских революционеров, боровшихся с диктатурой Сомосы, а затем сальвадорских патриотов. В 1970-х годах Гарсиа Маркес – виднейшая фигура патриотического движения латиноамериканской творческой интеллигенции за демократию и суверенитет.
Глубокий смысл кроется в ярком жесте Гарсиа Маркеса – принесенной им своего рода публичной клятве не публиковать художественных произведений и все время уделять политической журналистике до тех пор, пока не падет чилийский диктатор Пиночет. И действительно, с 1975 г., когда вышел роман «Осень патриарха», до 1981 г. новых художественных произведений Гарсиа Маркеса в печати не появлялось. Открытый вызов, брошенный диктатору писателем, приобретшим к тому времени уже мировую славу, по-своему воспроизводил в жизни тот сюжет, что разыгрался в «Осени патриарха» между тираном и Рубеном Дарио – неоднократно возникавший универсальный сюжет мировой истории и литературы: противостояние тирана-царя и поэта-мудреца. Две фигуры, максимально воплощающие враждебные начала жизни – антигуманизм и гуманизм. В интервью журналу чилийской эмиграции «Араукария» Гарсиа Маркес рассказал, что однажды совсем близко увидел своего противника Пиночета в исполненной символического смысла континентальной дуэли. «Я не испытывал к нему ненависти, и это меня обрадовало, – говорил писатель, – у меня было только чувство жалости». Той самой, что испытывал поэт к загубленному человеку, плакавшему в одиноком патриархе, а вернее не к человеку, а существу, еще не ставшему вполне человеком…
Впоследствии, в 1981 г., на состоявшейся в Гаване Первой встрече представителей интеллигенции в защиту суверенитета Латинской Америки чилийская делегация во главе с политическим деятелем и писателем Володей Тейтельбоймом выступила с просьбой о прекращении «забастовки» Гарсиа Маркеса, ибо публикация его новых художественных произведений станет эффективным вкладом в борьбу с тиранией. С этим суждением прямо перекликаются слова самого писателя, сказанные им вскоре в одном из интервью: «Те, кто нападает на меня как на политического деятеля, мало что понимают в литературе. Им следовало бы осознать, что я более опасен как писатель, нежели как политик».
Образец «опасного» творчества Гарсиа Маркеса – повесть «История одной смерти, о которой знали заранее» (1981). В ее основе – мало что сама по себе значащая история любви с убийством в колумбийском городке Сукре, где когда-то жили родители Гарсиа Маркеса и куда он приезжал к ним на каникулы. После выхода повести журналисты побывали в Сукре (он послужил прототипом городка и в повести «Полковнику никто не пишет» и романе «Недобрый час») и убедились в том, что в ней точно воспроизведены топография городка и история, которая произошла там в 1951 г.
Имена и фамилии персонажей писатель изменил, но все в повести происходит именно так, как было. Справлялась свадьба, но в первую брачную ночь Боярдо Сан-Роман вернул в родительский дом Анхелу, которая оказалась не невинной. Анхела указала на Сантьяго Насара как на «автора» того «чуда», что произошло с ней, и ее братья, Пабло и Педро Викарио, пошли его искать, чтобы убить. Его друзья, возвращаясь со свадьбы, потеряли Сантьяго из виду, и тот остался без защиты. Обычно открытая, дверь его дома, где он пытался укрыться, оказалась запертой. Убийство воспроизведено точно. При этом Сантьяго не понимал, за что его убивают (умирая, он сказал Гарсиа Маркесу, что не виновен). После убийства зачем-то производилось вскрытие трупа.
«Произошла эта история, – по словам Гарсиа Маркеса, – незадолго до того, как я понял, что станет делом моей жизни, и я почувствовал тогда такую острую потребность рассказать об этом, что, возможно, это событие и определило раз и навсегда мое писательское призвание». Тридцать лет образ убитого друга жил в памяти писателя, так и эдак обдумывавшего эту историю. Сложилась она окончательно в сознании уже зрелого писателя – на почве концепции фантастической действительности. В новой повести она претерпела дальнейшую и столь существенную эволюцию, что возникает вопрос, можно ли теперь ее определить понятием «фантастической действительности». Ведь в повести нет ни фантастики, ни неизменно сопутствующего ей травестийно-смехового начала. И тем не менее родовая глубинная связь между мирами предшествующих произведений и новой повестью налицо. Именно поэтому столь органичны здесь герои со знакомыми фамилиями Игуаран, Буэндиа, с которыми в родственных связях находится и участвующий в действии под своим именем и фамилией автор. Фантастика и смех не исчезли, но ушли на периферию писательского сознания, отбрасывая блики, или, пользуясь определением М. М. Бахтина, «рефлексы» на трагедию, что и определяет принципиальную многотоновость, тончайшую нюансировку художественного целого.
Перед нами случай, когда карнавализованное по своей природе сознание переносит акценты с фантастически-смехового на жизненно-серьезный план жизни, но сохраняет главный свой принцип: лобовое столкновение жизни и смерти, замыкание их полюсов, в результате все бытие оказывается просвеченным словно мгновенно вспыхнувшим мощным источником света до глубинных его оснований. Перед нами снова повествование, построенное вокруг смерти, убийства, и снова труп провоцирует самоизъяснение жизни перед лицом смерти, и снова герой, исповедующийся у трупа, – это весь народ, а коллективная исповедь народа вновь порождает речевую полифонию. Это значит, что писатель вновь обратился к поэтике античной трагедии, к главному ее принципу – всенародности действия и речевого самовыражения (хор в античной трагедии – хор народных голосов в повести). Но, в отличие от «Осени патриарха», началом, провоцирующим народ на исповедь, выступает автор, сам Гарсиа Маркес, он говорит от первого лица и берет на себя роль дирижера хорового народного гласа.
Гарсиа Маркес построил новое произведение, использовав метод обнажения приема, а именно – конструкции своей творческой истории. Так же, как в каждый приезд в Сукре, писатель в книге расспрашивает о роковом дне родственников, друзей, жителей городка, участников событий, выясняет детали, указывает момент вступления в хоровую полифонию того или иного персонажа со своими воспоминаниями и дополняет хоровую версию своими сомнениями, размышлениями, воссоздавая ход событий. Коллективная исповедь – это одновременно и расследование, которое ведет автор, не только как дирижер хора, но и как следователь, реконструирующий картину убийства с расстояния в тридцать лет. Главная его цель – восстановление «разбившегося зеркала памяти» народа, а следовательно, установление истины и виновников трагического происшествия. В критике отмечали (и это действительно следует из названия произведения, в оригинале «Crоnica de una muerte anunciada», в буквальном переводе – «Хроника объявленной смерти»), что повесть содержит элементы газетной уголовной хроники. Но как в заглавии элемент газетной хроники сочетается с философско-поэтическим планом (заголовок можно перевести: «Хроника возвещенной смерти»), так же и образ автора-хроникера соединяется с образом взволнованного (так, словно расследование ведется не через тридцать лет, а по следам событий) лирического героя-поэта, осмысливающего события в универсальных категориях художественной философии.