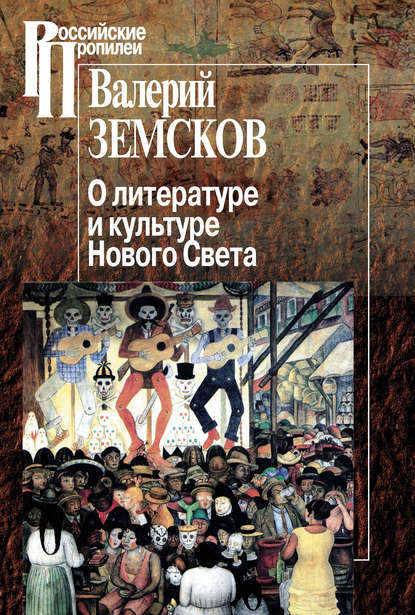По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О литературе и культуре Нового Света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вольное озорство фантастики Гарсиа Маркеса и есть его способ борьбы с инерцией всех видов догматизированного сознания. Как было верно отмечено, «писатель не только хочет заставить нас почувствовать комическое несоответствие между воображаемым и нашим обыденным видением действительности, но и передает радость способности человеческого духа с помощью воображения смеяться над законами необходимости. Иными словами, его комизм находится где-то посредине между глубинной серьезностью сатиры и чистым наслаждением игрой, развлечением, высвобождающими нашу глубинную психическую энергию»[39 - Cuadernos hispanoamericanos. Madrid, 1976. N 132. P. 717.].
Однако пронизанная смеховым, комическим началом фантастическая действительность Гарсиа Маркеса постоянно чревата сдвигом в сторону трагического. Комическое и трагическое в романе образуют подвижное единство, они соединяются, чтобы отрицать друг друга, так же, как отрицают друг друга и соединяются в действительности начала жизни и смерти. «Смех и печаль у Гарсиа Маркеса – это две стороны одного лица, две стороны одного из бесконечных зеркал, в котором одно лицо смеется над другим – льющим слезы»[40 - Arbor. Madrid, 1975. N 352. P. 69.].
Возможно, это и есть наиболее полная концепция современного карнавализованного искусства, которое, сочетая смеховое и трагическое, способно показать мир «наизнанку», и с «той» и с «другой» стороны, т. е. воссоздать всю его полноту. Если говорить о традиции, то в смысле полноты воссоздания диалектики бытия «Сто лет одиночества» перекликаются через века с «Дон Кихотом» Сервантеса, где также царит динамическая гармония, основанная на схождении и расхождении конфликтных начал. И Сервантес, и Гарсиа Маркес рассказывают заведомо «дурацкие», несерьезные истории, в которые мы верим как в неопровержимую истину, убежденные именно их глубинной серьезностью. У обоих комедия оборачивается трагедией, а трагедия выступает в обличье комедии. Сближает их и то, что серьезное связано со смешной фантастикой, хотя отношение их к фантастике противоположно.
Они находятся на разных концах романной традиции. Сервантес окончательно скомпрометировал необузданную фантастику рыцарского романа и открыл дорогу европейскому роману Нового времени, классическому реализму, свободному от традиционного мифологизма. Гарсиа Маркес, обратившийся через века к приемам рыцарского романа, с помощью фантастики преодолел «приземленный» псевдореализм. Но в конечном счете на более высоком смысловом уровне у них нет противостояния. И тот и другой противопоставляют – в разных концах единого процесса, один у истоков, другой в его конечной точке – «прозаическому состоянию» бесплодной, вялой действительности поэзию как источник творческих сил и возможностей человека.
Все это надо иметь в виду, чтобы понять во всем объеме смысл небылицы о чудаках Буэндиа, которую рассказывает нам смехотворный факир с аурой грусти. Байка оказывается трагедией, а трагедия – комедией, ибо если реальность – драматична, то фантастика смешна.
Что движет жизнью рода? В чем динамические силы его бытия, а следовательно, динамические силы народной истории? Таков масштаб поставленных в «Сто лет одиночества» вопросов, которые одновременно сочетают в себе и социальные, и «предвечные» аспекты бытия, в художественном целом романа соединяются реально-жизненный, социально-исторический планы и фантастическое начало, выявляющее глубинные смыслы истории и философского обобщения. Функция фантастики в «Сто лет одиночества» – в том, что, действуя в мире обыденной народной жизни, она извлекает из реальности скрытый за эмпирикой философский «концентрат» правды и выводит извлеченные смыслы народной жизни в контекст «больших смыслов» всемирной истории.
Величайшее искусство создателя «Ста лет одиночества» состоит в тонкой, каждый раз интуитивно определяемой «дозировке» реально-жизненного и фантастического начал так, что ни одно из них не подавляет другого. Сила и необычность его искусства кроются в умении формулировать сложные проблемы языком образной плоти, которая всегда богаче рациональной идеи и полна поэтической и неокончательной многозначности.
Чтобы разобраться в философии «Ста лет одиночества», нужно понять содержание образов, мотивов, символов, образующих всю метафору, – сюжет о жизни Макондо, рода Буэндиа, кончивших тем, что они породили ребенка со свиным хвостиком (всего-навсего с хвостиком! – комический аспект метафоры), но можно сказать и по-другому – человеко-животное со свиным хвостом! (трагический аспект метафоры).
Но разные образы этой небылицы-драмы, трагедии-комедии имеют смыслы, связывающие нас с различными по масштабу и значению сторонами «бытия». Все эти смыслы равно важны для истории в целом, но обладают своей иерархией, а наивысший слой обобщений, максимальный смысл мы постигаем, вслушиваясь в серьезно-смеховые интонации и стремясь понять, над чем смеется и над чем плачет автор, пытаясь понять, что определило судьбу рода Буэндиа, чья жизнь оказалась «всей действительностью» мира «недоброго сознания».
«Вся действительность» стала родовой жизнью, т. е. жизнью в ее связях с главными началами бытия – продолжением жизни, противостоянием жизни и смерти, и потому первое, с чем мы знакомимся в романе, – это семейный мир. Гарсиа Маркес как-то заметил: из всего сказанного о романе ему больше всего понравились слова одного читателя о том, что здесь впервые по-настоящему описана семейная жизнь латиноамериканцев. И действительно, главное здесь – интимность, обнаженность Буэндиа, свойственная только внутреннему знанию; семейная жизнь вывернута наружу из сокровенного укрытия. Более того, это глубоко интимный мир самого писателя, и он не скрывает этого, признавшись как-то, что книга полна намеков и перемигиваний с родственниками и друзьями. Но даже не зная всей частной подоплеки, мы понимаем, что родовой дом Буэндиа – это дом его дедушки и бабушки, жизнь которого он пытался воссоздать, начиная с набросков к роману «Дом». Да и многие моменты биографии Буэндиа напоминают биографию родни Гарсиа Маркеса.
Как его дедушка и бабушка, основатели рода Хосе Аркадио и Урсула – двоюродные брат и сестра и ведут свой род из Риоачи, а Урсула носит еще и фамилию бабушки писателя – Игуаран. Как и дед писателя – Николас Маркес, Хосе Аркадио, совершив убийство, бросает свое селенье, отправляется с женой искать новое место для жизни и произносит слова, которые врезались в память будущего писателя: «Ты не знаешь, сколько весит один мертвец!» И как Николас Маркес водил внука в заезжий цирк, так и Хосе Аркадио ведет туда своего сына. В доме Буэндиа, как и в родовом доме писателя, живет много народу, а после смерти жильца комната закрывается. Как и в детстве писателя, здесь угадывают, из какого яйца может родиться василиск, а молодая тетушка, красивая и умершая в юности, стала источником сразу двух линий – юной Ремедиос и Ремедиос Прекрасной. Амаранта ткет саван, подобно другой тетушке, и умирает, закончив его. Воспоминания о военном прошлом дедушки-полковника, участника гражданских войн и подписания Неерландского пакта, перекочевывают в сюжетную линию Аурелиано (а его 17 незаконных сыновей – воспоминание о многочисленных плодах военных амуров дедушки – наезжали в родовой дом и гостили в нем).
Как и в повести «Полковнику никто не пишет», Гарсиа Маркес называет друзей предпоследнего в роду именами своих друзей юности – молодых писателей из Барранкильи, а прототип владельца книжной лавки, ученого каталонца, – это старший друг Гарсиа Маркеса времен юности в Барранкилье. Амаранта Урсула – жена предпоследнего в роду, которой суждено родить ребенка со свиным хвостиком, хочет иметь двоих сыновей и назвать их именами сыновей Гарсиа Маркеса – Родриго и Гонсало. Промелькнула здесь и юная дочь аптекаря – будущая жена Гарсиа Маркеса – Мерседес Барча. Наконец, в финале появляется и сам писатель под неполной фамилией – Габриэль Маркес, внук одного из основателей Макондо и сподвижника Аурелиано Буэндиа – Херинельдо Маркеса, того, что отстукивал по телеграфу (воспоминание об отце-телеграфисте!) грустные и пространные послания и едва не стал родственником Буэндиа, ибо намеревался жениться на дочке основателей рода – Амаранте. Габриэль Маркес незадолго до катастрофы уехал из Макондо в Париж с полным собранием сочинений Рабле вместо багажа и с твердым решением стать писателем, как в свое время уехал в Париж и сам автор «Ста лет одиночества». И этот авторский образ, совершенно иной в сравнении с первым (Мелькиадес), играет в романе не меньшую роль, ибо он-то и есть символ глубинной интимности и сокровенности, родственности мира Буэндиа.
Сопоставление персонажей с прототипами сразу выявляет разницу между реальной жизнью и жизнью в фантастической действительности, где все реальное словно раскалено докрасна, где человеческие черты, типы поведения, отношений гиперболизированы, доведены до предела, откуда путь уже в фантастику.
Буэндиа поражают нас как физической, душевной страстностью, так и самоуглубленностью, холодностью, даже безволием, будто доведенными до кульминации. Они не умирают от чашки кофе со стрихнином, возносятся на небо, любят в луже с серной кислотой, жгут руки на огне, в отчаянии поедают сырую землю, могут быть столь красивыми, что красота становится убийственно опасной, сходят с ума от страсти к познанию и открывают основные законы бытия…
Гиперболизированная интимность, обнажающая человека во всей его мощи и слабости, обнажает и принципы семейно-родовой жизни, где человек проявляется наиболее полно и где формируется прообраз человеческих отношений в «большой», всеобщей жизни, т. е. в истории. Она, большая история, и есть следующий слой жизненного материала в романе. Вернее, она предстает словно взятой в крупном масштабе семейной жизнью Буэндиа, которые участвуют в исторических событиях, порой в роли протагонистов, в результате история оказывается полем экспансии их родовых черт. Родовое сливается с историческим, историческое выступает воплощением бытийственных, сущностных отношений (жизнь, смерть, любовь, продолжение рода, порок, познание, страдание, счастье), поэтому социальное получает полное гуманистическое воплощение, присутствует в каждом шаге, в каждой клетке.
Основной сюжет этой истории давно нам знаком: земля обетованная Макондо, гражданские войны, виоленсия, нашествие банановой компании, новые формы виоленсии, палая листва гниющих человеческих отношений, мир «недоброго сознания». Известны по предыдущим «черновым конспектам» и ее персонажи – полковник Аурелиано Буэндиа. Известна документальная основа банановой лихорадки, охватившей в свое время и Аракатаку. Известен и исторически достоверный эпизод массового расстрела забастовщиков. Эти события произошли в 1928 г. в соседних с Аракатакой поселках, и в романе процитированы слова генерала-душегуба Карлоса Кортеса Варгаса, отдавшего приказ стрелять в «шайку злоумышленников».
Но теперь интересно другое – как преображается реально-исторический «черновой конспект» в фантастическую действительность. Главное средство – «размывание» географически-исторических координат действия. В «Палой листве» хронология истории насилия и одиночества уходила корнями к рубежу XIX – XX вв., «тысячедневной войне», в «Полковнику никто не пишет» и в «Недобром часе» писатель приблизился к современности. В «Сто лет одиночества» – это примерно сто лет независимого существования Колумбии: от первой четверти XIX в., когда Колумбия (как и другие страны континента) освободилась от власти Испании, и до конца первой трети XX в., когда (как в «Палой листве») происходят расстрелы забастовщиков. Но эти сто лет оказываются зыбкими в той особой жизненной среде, где господствует стихия всеобщей превращаемости. Писатель наделяет некоторых героев явно несуразным долголетием (Урсула и Пилар Тернера), да и сама история охватывает периоды много больше ста лет.
Гарсиа Маркес как-то сказал: он совершенно не уверен, что действие в романе происходит сто лет. Он мог сказать, что не уверен, происходит ли действие его романа в Колумбии или иной стране. Лишь осведомленный читатель угадает Колумбию по названиям маленьких колумбийских городков – Манауре или Риоача, которые знает далеко не каждый колумбиец, или по Неерландскому пакту. Размывая хронологические рамки действия, писатель размывает и географию: история Макондо превращается в историю обобщенной страны, название которой – Латинская Америка. И история этой фантастической страны предстает от времен открытия континента до современности. Поистине, Макондо нигде и везде.
По всему роману писатель разбросал детали-символы, призванные вызвать у нас ассоциации с различными этапами истории континента. История Буэндиа уводит нас к временам его открытия. Подробно перечислены предки основателей рода – переселенцы из Испании, появившиеся здесь во времена, когда прибрежные воды бороздились судами знаменитого английского пирата сэра Френсиса Дрейка (Гарсиа Маркес упомянул его в первой известной своей журналистской публикации в картахенской газете). Нападение Дрейка на Риоачу положило начало «темным дорожкам» людских судеб, которые привели к встрече основателей рода – двоюродных брата и сестры. Основание Макондо напоминает нам основание первых поселений на девственных землях континента в первые столетия после конкисты, а дальнейшая его история воспроизводит картины патриархального, замкнутого существования латиноамериканских городов и поселений, отделенных друг от друга буйной природой и живущих в отрыве от цивилизации.
Миссионеры-цивилизаторы – это бродячие цыгане, коррехидор и прибывающий в Макондо падре. Жители Макондо, как если бы они были индейцами, получают от цыган новинки цивилизации – секстант, лупу, секреты алхимии, летающие циновки, они впервые видят кусок льда (дело происходит в тропиках). Коррехидор, представитель государственной власти, прибывает с абсурдным требованием перекрасить дома из белого цвета в синий, а падре уговаривает жителей соблюдать обряды венчания и крещения. Эти картины вызывают ассоциации с XIX веком, когда происходило упорядочивание государственной жизни и одновременно по всему континенту начались кровопролитные гражданские войны между консерваторами, патриархально-помещичьими слоями и либералами, сторонниками буржуазного прогресса.
Наконец Макондо вступает в буржуазную эпоху и происходит вторжение «новых цыган» – наглых и вульгарных чужеземцев, чьи фамилии выдают их североамериканское происхождение. Начинается банановая лихорадка, внедряются новинки цивилизации, строятся «электрифицированные курятники», возникают банановые плантации. Вслед за телефоном, граммофоном, железной дорогой Макондо узнает и такие новинки, как полицейский террор, забастовки, массовые расстрелы…
Но и этот уровень, на котором «просматривается» образ истории всего континента, – не последний. Читатель «прощупывает» сеть ассоциаций и образов-символов, которые выводят историю Буэндиа на еще более высокий уровень – уровень всеобщей культуры и истории. Сто лет – это не просто хронологические сто лет и даже не размытые рамки истории Латинской Америки, это, как в детском счете, неопределенное число, вроде «тысячи лет», т. е. необъятное, сакральное, сказочное время.
Наше сознание прощупывает эту сеть образов-символов на протяжении всей истории, начиная с сюжета об основателях рода, живших в мире, словно до грехопадения, юном, свежем и влажном, где огромные камни напоминали яйца доисторических животных и никто еще не умирал. Потом, с рождением детей и потомков, история разрастается на ветви-сюжеты, отходящие от основного корня и ствола, чтобы закончиться с последними потомками в Макондо, гибнущем в последнем апокалипсическом вихре. Пал Вавилон… Не акцентируя этого, писатель выстроил сюжет с библейской структурой и библейского масштаба.
На что, как не на Библию, ориентируется автор небылицы-анекдота о роде, кончившем тем, что породил ребенка со свиным хвостом? Этот анекдот мог быть разыгран в ярмарочном вертепе для публики – носительницы сознания народного католицизма. Библейская сюжетная канва – естественная основа для такой истории, в то же время ее сюжетная структура – дальний родственник структуры семейной эпопеи, также избранной Гарсиа Маркесом в качестве ориентира.
В «Сто лет одиночества» семейная эпопея словно возвращается к далекому жанровому предку – мифологической истории рода и архаической генеалогической хронике, происходит их слияние и взаимопроникновение. Для этого есть все основания. Отдаленная на тысячелетия от древних эпосов семейная эпопея сохраняет главные черты жанрового предка в плане композиции, сюжетного времени, пространства… Все они, как правило, имеют сходную структуру: начинается род с благополучия, активной деятельности физически и морально крепких родоначальников, затем постепенно мельчает, деградирует, истощаясь и вырождаясь в последних слабых потомках, с ними и кончается его история. При всех различиях таковы, в сущности, общие черты структуры «Ругон-Маккаров» Золя, «Будденброков» Томаса Манна, купеческих семейных эпопей Горького, элементы той же логики типичны и для фолкнеровской саги об Йокнапатофе.
То же произошло и у Гарсиа Маркеса, только здесь слились две стихии – социально-историческая и фантастическая, и, слившись, породили удивительный сплав.
Если балаганный фокусник Мелькиадес – один из авторов романа, вспомним теперь и о другом – о юном Габриэле Маркесе, уехавшем в Париж. Он овладел всем арсеналом западного литературного искусства, всеми «играми» различных течений, в том числе и мифологизмом, и любит направлять читателя по ложному следу, сбивать с толку. Как и Гарсиа Маркес, который, в частности, в одном из интервью сказал, что «на самом деле» Габриэль Маркес уехал в Париж не с Рабле, а с его, писателя, любимой книгой – «Хроникой чумного года» Даниэля Дефо, а он в последний момент заменил ее на Рабле, чтобы сбить с толку критиков. Гарсиа Маркес любит сбивать нас с толку, говоря, что не читал Фолкнера, Камю, Хемингуэя… Он любит прикинуться простоватым ярмарочным Мелькиадесом. Но мыто знаем, почему на вид простодушная байка о Буэндиа имеет совершенную литературную архитектонику романа-мифа.
Наивные россказни и фокусы Мелькиадеса имеют глубокие корни в западных интеллектуально-философских исканиях XX в., в западной мифологической прозе, открытия которой воспринял и по-своему блистательно развил Гарсиа Маркес.
Попытка прочтения «Ста лет одиночества» как романа-мифа, конечно, не нова. В западной критике не раз предпринимались такие, хотя и частичные, попытки, но, пожалуй, наиболее удачное определение книги Гарсиа Маркеса в этом аспекте дал Е. М. Мелетинский, который, не анализируя роман детально, определил его как роман-миф, сочетающий в себе черты семейной эпопеи и мифа, основанного на библейском сюжете[41 - Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 368.]. В качестве параллели книге Гарсиа Маркеса Е. М. Мелетинский приводит жанрово близкие ему, с одной стороны, «Будденброки», с другой – «Иосиф и его братья» Томаса Манна. Но, добавим, в отличие от «Иосифа и его братьев», перед нами роман, ориентированный не на конкретные легендарные сюжеты, Гарсиа Маркес замахнулся на структуру «книги народа», вольно используя обобщенные мифосхемы, мифообразы, ассоциации не только библейского, но и античного происхождения, образующие самый глубинный пласт образно-символической структуры романа. Назовем некоторые из них.
Прежде всего, это образ мирового и одновременно генеалогического древа жизни – гигантский каштан, он растет во дворе дома Буэндиа еще со времен набросков к роману «Дом» (только там было миндалевое дерево).
Далее, это идея и образ земли обетованной – земного рая, в котором живут поначалу безгрешные, как Адам и Ева, первопредки. Рай до познания и падения, и потому здесь никто еще никогда не умирал. Далее совершается первое убийство (сюжет Каин – Авель) и происходит грехопадение. Типичны для мифологии инцестуальный брак основателей рода – двоюродных брата и сестры Хосе Аркадио и Урсулы, первопредков, живших сначала как брат и сестра, затем – переселение и поиски нового места для основания родового дома (мотив изгнания познавших запретный плод Адама и Евы и одновременно наказание Каина). Типичен мифомотив вещего указания во сне на место основания дома, как и мотив «нерасслышанных слов» – Хосе Аркадио слышится неясно звучащее название, вроде бы «Макондо», так он и называет селение.
У Мелькиадеса – роль дьявола-искусителя, носителя знания (фаустовский сюжет) и Прометея – культурного героя, дарителя знаний о мире. Черты Прометея и в «соблазненном» Хосе Аркадио; в наказание за жажду познать мир (самая дерзкая его затея – увидеть Бога) он прикован к древу-каштану. Тема наказания за познание дублируется в судьбе Мелькиадеса и его племени: они исчезли с лица земли, ибо превзошли пределы познаний. Хотя Мелькиадес, искуситель и носитель знания, воскресает.
Другая мифосхема очевидна в образе Пилар Тернеры, в которой потомки Буэндиа познают женщину, благодаря чему они до поры до времени избегают инцеста. Пилар (основа, подпора) Тернера (телица) выполняет роль заместительницы матери – так первый сын Хосе Аркадио в момент познания Пилар Тернеры видит лицо матери.
Наконец, мотив инцеста. Типичный для мифологий и широко разработанный западной литературой XX в., он определяет сюжетно-композиционный «механизм» романа-мифа Гарсиа Маркеса. Все Буэндиа тяготеют к инцесту, а значит, к повторяемости родовых черт и зеркальному воспроизведению черт первопредков, что акцентируется повторяемостью родовых имен, особенно мотивом близнечных пар. Мотив инцеста – это механизм, структурирующий роман-миф, для поэтики которого, согласно Е. М. Мелетинскому, типичны циклическая повторяемость на основе мифологических архетипов и упорядочивание с их помощью жизненного или легендарного материала, воссоздающего образ коллективной истории и коллективное сознание. Цикл жизни рода завершается тем, что последние в роду, подобно первопредкам, не избегнув инцеста, рождают мифологическое хвостатое чудовище, завершающее историю рода.
Итак, роман-миф. Более того, наиболее полный роман-миф, будто выстроенный по готовым литературным рецептам, азбука романа-мифа, энциклопедия, собравшая сумму фрейдистских и мифологических клише западной художественно-философской традиции XX в. Здесь и инцест, и эдипов комплекс, и рок, и архетипы, и мифообразы.
Прежде всего, о соотношении мифологического и жизненно-исторического контекстов в «Сто лет одиночества», где жизненный материал собирается по силовым линиям и вытвердевает в мифосюжеты, мифообразы и в обобщающую мифоструктуру. В традиционном мифоромане мы чувствуем себя скованными костяком заданной идеи-структуры, у Гарсиа Маркеса ничто не довлеет, ибо он исходит не из архетипов, а напротив, словно просвечивает реальные конфликты до их «изначальных» основ. Вспомним хотя бы, что дедушка и бабушка Гарсиа Маркеса были двоюродными братом и сестрой, дед убил человека и был вынужден переселиться. Миф оказался жизнью. Писатель двигался не от схемы к истории, а от конкретной истории – к обобщению, чтобы просветить рентгенограммой общее бытие до «скелета» закономерности.
Но и эта операция не самодостаточна. Реально-историческое и мифопоэтическое не «сливаются» у Гарсиа Маркеса в недвижимое единство, а находятся в состоянии постоянного отталкивания и сближения, потому что, как отмечалось, если реально-исторический пласт дается в серьезно-драматической ипостаси, то фантастическое, а следовательно, и мифическое – в комическом аспекте. Поэтому закономерность, обнаруженная с помощью архетипа, – вовсе не подлинная истина. Смех растапливает «холод» мифа и архетипа, отрицает их неполную, ограниченную «мудрость», утверждающую одномерность жизни и отношений, судьбы мира и человека, и противопоставляет этой ложной мудрости идею их поливариантности, не поддающейся однозначному определению и всегда хранящей в себе возможность иного будущего.
Ведь если итогом жизни рода Буэндиа стал получеловек-полуживотное, то у него всего-навсего… маленький свиной хвостик; если Мелькиадес был дьяволом-соблазнителем, то он ведь… и просто цыган. В «Сто лет одиночества» нет ничего, что вышло бы из пределов травестийно-смехового поля. Карнавальная стихия носит всеобъемлющий характер, отрицая все, тяготеющее к неподвижности, однотоновости, односторонности, т. е. к догматизации бытия. Она захватывает в равной степени как философские, миросозерцательные, так и художественные источники и идейно-художественную природу романа-мифа, вывернутого смехом «наизнанку». Перед нами смеховой роман-миф, который травестирует, высмеивает, отрицает сам себя, сами свои источники. В «Похоронах Великой Мамы» была предварительная репетиция карнавальной ревизии. В «Сто лет одиночества» перед нами своего рода карнавальный похоронный балаган, в его огне сгорает и прежний Гарсиа Маркес, тот, что зашел в сумеречный тупиковый мир.
Глобальность смеховой ревизии очевидна, если увязать между собой два основных структурных идейно-художественных элемента – инцест и одиночество, константы западного модернистского искусства XX в.
В названии романа «Сто лет одиночества» одиночество – вот главный фокус внимания писателя, главный мотив, организующий образную сеть романа и его философию. Что сделал Гарсиа Маркес? Он это итоговое положение модернизма, эту «задушевную» идею и ключевую позицию экзистенциалистского сознания, философии одинокого, отчужденного индивидуума, онтологизировал, т. е. увековечил, превратив в изначальную и главную черту своего рода, всех его представителей, отмеченных печатью этого проклятия, как и печатью другого тяготеющего над ним проклятия – рока инцеста, приводящего к катастрофе. Объектом травестии стал не только миф как жанровая структура, которая воплощает абсурдное кружение бытия без качественных изменений, но и весь репертуар идей, утверждающих триаду «насилие – отчуждение – одиночество» как константу истории человечества. Философию сумерек человека и человечества, ведущую к идее смерти, он оспорил фантастической действительностью, где действуют возрождающие силы, источник которых – полнокровное народное бытие.
Противостояние идеологии одиночества и идеологии коллективистского бытия, из столкновения которых и рождается смех, – вот главный конфликт романа. Здесь полемика идет по принципиальным вопросам бытия человечества, в рамках «больших смыслов» истории, в рамках великого спора о жизни и смерти человечества в XX в. Это спор между силами бытия и энтропией.
И смех в фантастической действительности Гарсиа Маркеса высекается не только на полюсах жизни и смерти, но и на полюсах индивидуалистического и коллективистского начал. Смех здесь, как хирургический скальпель, препарирует трагизм, чтобы выявить его корни и истоки. И направлен он точной рукой в самый центр той опухоли, от которой гибнет род Буэндиа: «недоброе сознание», «недобрая ситуация» мира. Но что в корне? Одиночество? Да, все Буэндиа одиноки, и их история – это история одиночества. Но все-таки это не причина, а следствие. А в чем корни?
Обратимся к завязке трагедии. История рода началась, как в мифах, с инцестуального брака Хосе Аркадио и Урсулы. Урсула знала об его опасности, но Хосе Аркадио не хотел обращать на это внимания. И брак осуществился путем насилия. Как это было? На гальере петух Хосе Аркадио победил петуха Пруденсио Агиляра, и тот, уязвленный, оскорбил Хосе Аркадио, поставив под сомнение его мужские достоинства, поскольку он живет в девственном браке с Урсулой. Хосе Аркадио, возмущенный, пошел домой за копьем, убил Пруденсио, а затем, потрясая тем же копьем, заставил Урсулу выполнить свои обязанности жены. Так было положено начало роду.
Род начался с убийства, насилия, инцеста и с… петухов. Снова петухи, как в «Палой листве», «Полковнику никто не пишет» и «Недобром часе». Но там были не вполне ясные сигналы, теперь метафора обрела философский смысл.
Авторы статьи «Петух» в «Мифах народов мира» – В. Н. Топоров и М. Н. Соколов – поясняют универсальное содержание мифообраза петуха: он связан и с солнцем, и с подземным миром, поэтому с петухом во многих мифологиях ассоциируется «символика воскрешения из мертвых, вечного возрождения жизни»[42 - Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 310–311.]. Он символизирует и плодородие в его производительном аспекте (начало солнца-жизни), сексуальность, храбрость, мужское начало, в сниженном варианте – эротическое влечение, вирильность и агрессивность (начало смерти). Петух возвещает и восход солнца, и его закат.
Все эти смыслы присущи и образу петуха у Гарсиа Маркеса; писатель обращается не к книжным источникам, а к народной культуре. Связанный с распространенной по всей Латинской Америке традицией петушиных боев, петух – важная тема народного песенного и пословичного фонда, откуда он перешел и в профессиональное искусство (например, известный кубинский художник Мариано Родригес создал целую живописную мифологию петуха), и в сферу общественно-политической символики (петух – политическая эмблема). Петушиные мотивы и в мировой мифологии, и в латиноамериканской народной культуре двоятся: начало плодородящее, героическое, с одной стороны; с другой стороны, символ человека «мачо», т. е. «самца», самоутверждающегося голой силой, – символ виоленсии. Победа в петушиных боях – символ победы обладателя петуха, символ его мужского превосходства, чем вызваны порой кровавые развязки петушиных боев, обычно в крестьянской среде. Как в начале истории рода Буэндиа. Перед нами бытовая, реальная ситуация. «Ишь, петухи распетушились» – можно было бы сказать о стычке Хосе Аркадио и Пруденсио Агиляра. И в то же время перед нами ситуация, исполненная глубокого мифологического символизма, проясняющего корни преступления инцеста.
Теперь об инцесте. Как уже отмечалось, это универсальный мифологический мотив. С ним в мифологии связывается начало рода: «Первопредки, первые люди во многих мифологиях предстают в качестве брата и сестры»[43 - Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. С. 200.]. Но впоследствии в мифологических сказаниях по мере разрастания рода инцест запрещен и если он происходит, то вызывает в мире беспорядок, влекущий за собой космические нарушения, катастрофы[44 - Там же. С. 214.]. Мифологические мотивы – это фантастическое преломление и интерпретация реального хода социогенеза. Общественно-биологическая эволюция неразрывно связана с отрицанием инцеста, и запрет на него стал важнейшей нормой гуманистической традиции. Это нашло отражение в трагедиях Софокла о царе Эдипе, где инцест порождает беспорядок в природе – мор – и воспринимается как тягчайшее нарушение человеческой нормы. Инцест – это шаг назад от социума, попятное движение за пределы социальности и гуманистичности к «одиночеству» животного мира, к петухам.
Петух – Хосе Аркадио, возбужденный петушиной кровью, убил человека своим клювом-копьем, потом, потрясая им же, заставил Урсулу исполнять супружеские обязанности. Петушиное, животно-эгоистическое насилие стало истоком рода, и ему предстоит, выйдя из сферы социальности, вернуться в холод животного начала. Сначала были «петухи» и насилие – такова формула библии, создаваемой Гарсиа Маркесом.
Что сделал Хосе Аркадио после двойного насилия – убийства и инцеста? Убил всех своих бойцовых петухов (а вначале в аркадической обстановке земного рая он только тем и занимался, что «пас» своих петухов), зарыл во дворе дома копье (клюв) – и, мучимый призраком Агиляра, ушел с женой и селянами и на новом месте запретил разводить бойцовых петухов. Но если от разведения петухов можно отказаться, то невозможно уйти от проклятия насилия и порождаемой им верховной силы – смерти, которая в жизненном проявлении выступает как одиночество, лишающее человека целостности бытия. Все Буэндиа будут вести себя в отношениях с мужчинами и женщинами, в исторических событиях, как первые Буэндиа: подобно бойцовому петуху, птице, ведомой первобытным бездумным инстинктом, – и все они, как это обнаруживает последний Буэндиа, листая Британскую энциклопедию, будут иметь татарские скулы, удивленный взгляд и одинокий вид. И не то чтобы Буэндиа были злодеями, автор далек от ригоризма в отношении к ним. Это обычные, нормальные люди, более того, это замечательные в своей жизнестойкости и мощи типы, писатель любуется ими, их жаждой познания, необузданной энергией, яркими вспышками страстей; мотив бойцового петуха имеет и явно выраженное, хотя и с комическим оттенком, героизирующее начало. Но их норма человеческого обужена, ограничена петушиным – животно-эгоистическим – началом, находящим выражение в разнообразных формах индивидуализма. Не внеземная сила определяет роковую судьбу рода в мифе Гарсиа Маркеса, а сам человек, своими качествами создающий мир, в котором он живет, своей сущностью детерминирующий течение событий и их исход.
Самое высокое и символическое проявление ограниченности истинно человеческого в роду Буэндиа – их неспособность к любви, той высшей форме единения, что не известна животному миру. Это осознает родоначальница Урсула, которая с самого начала знала, чем грозит ей брак с Хосе Аркадио, и с беспокойством наблюдала за безумствами своих потомков. Ослепшая, совсем древняя старушка, она прозревает внутренне и понимает, что все беды из-за неспособности Аурелиано любить.
Однако пронизанная смеховым, комическим началом фантастическая действительность Гарсиа Маркеса постоянно чревата сдвигом в сторону трагического. Комическое и трагическое в романе образуют подвижное единство, они соединяются, чтобы отрицать друг друга, так же, как отрицают друг друга и соединяются в действительности начала жизни и смерти. «Смех и печаль у Гарсиа Маркеса – это две стороны одного лица, две стороны одного из бесконечных зеркал, в котором одно лицо смеется над другим – льющим слезы»[40 - Arbor. Madrid, 1975. N 352. P. 69.].
Возможно, это и есть наиболее полная концепция современного карнавализованного искусства, которое, сочетая смеховое и трагическое, способно показать мир «наизнанку», и с «той» и с «другой» стороны, т. е. воссоздать всю его полноту. Если говорить о традиции, то в смысле полноты воссоздания диалектики бытия «Сто лет одиночества» перекликаются через века с «Дон Кихотом» Сервантеса, где также царит динамическая гармония, основанная на схождении и расхождении конфликтных начал. И Сервантес, и Гарсиа Маркес рассказывают заведомо «дурацкие», несерьезные истории, в которые мы верим как в неопровержимую истину, убежденные именно их глубинной серьезностью. У обоих комедия оборачивается трагедией, а трагедия выступает в обличье комедии. Сближает их и то, что серьезное связано со смешной фантастикой, хотя отношение их к фантастике противоположно.
Они находятся на разных концах романной традиции. Сервантес окончательно скомпрометировал необузданную фантастику рыцарского романа и открыл дорогу европейскому роману Нового времени, классическому реализму, свободному от традиционного мифологизма. Гарсиа Маркес, обратившийся через века к приемам рыцарского романа, с помощью фантастики преодолел «приземленный» псевдореализм. Но в конечном счете на более высоком смысловом уровне у них нет противостояния. И тот и другой противопоставляют – в разных концах единого процесса, один у истоков, другой в его конечной точке – «прозаическому состоянию» бесплодной, вялой действительности поэзию как источник творческих сил и возможностей человека.
Все это надо иметь в виду, чтобы понять во всем объеме смысл небылицы о чудаках Буэндиа, которую рассказывает нам смехотворный факир с аурой грусти. Байка оказывается трагедией, а трагедия – комедией, ибо если реальность – драматична, то фантастика смешна.
Что движет жизнью рода? В чем динамические силы его бытия, а следовательно, динамические силы народной истории? Таков масштаб поставленных в «Сто лет одиночества» вопросов, которые одновременно сочетают в себе и социальные, и «предвечные» аспекты бытия, в художественном целом романа соединяются реально-жизненный, социально-исторический планы и фантастическое начало, выявляющее глубинные смыслы истории и философского обобщения. Функция фантастики в «Сто лет одиночества» – в том, что, действуя в мире обыденной народной жизни, она извлекает из реальности скрытый за эмпирикой философский «концентрат» правды и выводит извлеченные смыслы народной жизни в контекст «больших смыслов» всемирной истории.
Величайшее искусство создателя «Ста лет одиночества» состоит в тонкой, каждый раз интуитивно определяемой «дозировке» реально-жизненного и фантастического начал так, что ни одно из них не подавляет другого. Сила и необычность его искусства кроются в умении формулировать сложные проблемы языком образной плоти, которая всегда богаче рациональной идеи и полна поэтической и неокончательной многозначности.
Чтобы разобраться в философии «Ста лет одиночества», нужно понять содержание образов, мотивов, символов, образующих всю метафору, – сюжет о жизни Макондо, рода Буэндиа, кончивших тем, что они породили ребенка со свиным хвостиком (всего-навсего с хвостиком! – комический аспект метафоры), но можно сказать и по-другому – человеко-животное со свиным хвостом! (трагический аспект метафоры).
Но разные образы этой небылицы-драмы, трагедии-комедии имеют смыслы, связывающие нас с различными по масштабу и значению сторонами «бытия». Все эти смыслы равно важны для истории в целом, но обладают своей иерархией, а наивысший слой обобщений, максимальный смысл мы постигаем, вслушиваясь в серьезно-смеховые интонации и стремясь понять, над чем смеется и над чем плачет автор, пытаясь понять, что определило судьбу рода Буэндиа, чья жизнь оказалась «всей действительностью» мира «недоброго сознания».
«Вся действительность» стала родовой жизнью, т. е. жизнью в ее связях с главными началами бытия – продолжением жизни, противостоянием жизни и смерти, и потому первое, с чем мы знакомимся в романе, – это семейный мир. Гарсиа Маркес как-то заметил: из всего сказанного о романе ему больше всего понравились слова одного читателя о том, что здесь впервые по-настоящему описана семейная жизнь латиноамериканцев. И действительно, главное здесь – интимность, обнаженность Буэндиа, свойственная только внутреннему знанию; семейная жизнь вывернута наружу из сокровенного укрытия. Более того, это глубоко интимный мир самого писателя, и он не скрывает этого, признавшись как-то, что книга полна намеков и перемигиваний с родственниками и друзьями. Но даже не зная всей частной подоплеки, мы понимаем, что родовой дом Буэндиа – это дом его дедушки и бабушки, жизнь которого он пытался воссоздать, начиная с набросков к роману «Дом». Да и многие моменты биографии Буэндиа напоминают биографию родни Гарсиа Маркеса.
Как его дедушка и бабушка, основатели рода Хосе Аркадио и Урсула – двоюродные брат и сестра и ведут свой род из Риоачи, а Урсула носит еще и фамилию бабушки писателя – Игуаран. Как и дед писателя – Николас Маркес, Хосе Аркадио, совершив убийство, бросает свое селенье, отправляется с женой искать новое место для жизни и произносит слова, которые врезались в память будущего писателя: «Ты не знаешь, сколько весит один мертвец!» И как Николас Маркес водил внука в заезжий цирк, так и Хосе Аркадио ведет туда своего сына. В доме Буэндиа, как и в родовом доме писателя, живет много народу, а после смерти жильца комната закрывается. Как и в детстве писателя, здесь угадывают, из какого яйца может родиться василиск, а молодая тетушка, красивая и умершая в юности, стала источником сразу двух линий – юной Ремедиос и Ремедиос Прекрасной. Амаранта ткет саван, подобно другой тетушке, и умирает, закончив его. Воспоминания о военном прошлом дедушки-полковника, участника гражданских войн и подписания Неерландского пакта, перекочевывают в сюжетную линию Аурелиано (а его 17 незаконных сыновей – воспоминание о многочисленных плодах военных амуров дедушки – наезжали в родовой дом и гостили в нем).
Как и в повести «Полковнику никто не пишет», Гарсиа Маркес называет друзей предпоследнего в роду именами своих друзей юности – молодых писателей из Барранкильи, а прототип владельца книжной лавки, ученого каталонца, – это старший друг Гарсиа Маркеса времен юности в Барранкилье. Амаранта Урсула – жена предпоследнего в роду, которой суждено родить ребенка со свиным хвостиком, хочет иметь двоих сыновей и назвать их именами сыновей Гарсиа Маркеса – Родриго и Гонсало. Промелькнула здесь и юная дочь аптекаря – будущая жена Гарсиа Маркеса – Мерседес Барча. Наконец, в финале появляется и сам писатель под неполной фамилией – Габриэль Маркес, внук одного из основателей Макондо и сподвижника Аурелиано Буэндиа – Херинельдо Маркеса, того, что отстукивал по телеграфу (воспоминание об отце-телеграфисте!) грустные и пространные послания и едва не стал родственником Буэндиа, ибо намеревался жениться на дочке основателей рода – Амаранте. Габриэль Маркес незадолго до катастрофы уехал из Макондо в Париж с полным собранием сочинений Рабле вместо багажа и с твердым решением стать писателем, как в свое время уехал в Париж и сам автор «Ста лет одиночества». И этот авторский образ, совершенно иной в сравнении с первым (Мелькиадес), играет в романе не меньшую роль, ибо он-то и есть символ глубинной интимности и сокровенности, родственности мира Буэндиа.
Сопоставление персонажей с прототипами сразу выявляет разницу между реальной жизнью и жизнью в фантастической действительности, где все реальное словно раскалено докрасна, где человеческие черты, типы поведения, отношений гиперболизированы, доведены до предела, откуда путь уже в фантастику.
Буэндиа поражают нас как физической, душевной страстностью, так и самоуглубленностью, холодностью, даже безволием, будто доведенными до кульминации. Они не умирают от чашки кофе со стрихнином, возносятся на небо, любят в луже с серной кислотой, жгут руки на огне, в отчаянии поедают сырую землю, могут быть столь красивыми, что красота становится убийственно опасной, сходят с ума от страсти к познанию и открывают основные законы бытия…
Гиперболизированная интимность, обнажающая человека во всей его мощи и слабости, обнажает и принципы семейно-родовой жизни, где человек проявляется наиболее полно и где формируется прообраз человеческих отношений в «большой», всеобщей жизни, т. е. в истории. Она, большая история, и есть следующий слой жизненного материала в романе. Вернее, она предстает словно взятой в крупном масштабе семейной жизнью Буэндиа, которые участвуют в исторических событиях, порой в роли протагонистов, в результате история оказывается полем экспансии их родовых черт. Родовое сливается с историческим, историческое выступает воплощением бытийственных, сущностных отношений (жизнь, смерть, любовь, продолжение рода, порок, познание, страдание, счастье), поэтому социальное получает полное гуманистическое воплощение, присутствует в каждом шаге, в каждой клетке.
Основной сюжет этой истории давно нам знаком: земля обетованная Макондо, гражданские войны, виоленсия, нашествие банановой компании, новые формы виоленсии, палая листва гниющих человеческих отношений, мир «недоброго сознания». Известны по предыдущим «черновым конспектам» и ее персонажи – полковник Аурелиано Буэндиа. Известна документальная основа банановой лихорадки, охватившей в свое время и Аракатаку. Известен и исторически достоверный эпизод массового расстрела забастовщиков. Эти события произошли в 1928 г. в соседних с Аракатакой поселках, и в романе процитированы слова генерала-душегуба Карлоса Кортеса Варгаса, отдавшего приказ стрелять в «шайку злоумышленников».
Но теперь интересно другое – как преображается реально-исторический «черновой конспект» в фантастическую действительность. Главное средство – «размывание» географически-исторических координат действия. В «Палой листве» хронология истории насилия и одиночества уходила корнями к рубежу XIX – XX вв., «тысячедневной войне», в «Полковнику никто не пишет» и в «Недобром часе» писатель приблизился к современности. В «Сто лет одиночества» – это примерно сто лет независимого существования Колумбии: от первой четверти XIX в., когда Колумбия (как и другие страны континента) освободилась от власти Испании, и до конца первой трети XX в., когда (как в «Палой листве») происходят расстрелы забастовщиков. Но эти сто лет оказываются зыбкими в той особой жизненной среде, где господствует стихия всеобщей превращаемости. Писатель наделяет некоторых героев явно несуразным долголетием (Урсула и Пилар Тернера), да и сама история охватывает периоды много больше ста лет.
Гарсиа Маркес как-то сказал: он совершенно не уверен, что действие в романе происходит сто лет. Он мог сказать, что не уверен, происходит ли действие его романа в Колумбии или иной стране. Лишь осведомленный читатель угадает Колумбию по названиям маленьких колумбийских городков – Манауре или Риоача, которые знает далеко не каждый колумбиец, или по Неерландскому пакту. Размывая хронологические рамки действия, писатель размывает и географию: история Макондо превращается в историю обобщенной страны, название которой – Латинская Америка. И история этой фантастической страны предстает от времен открытия континента до современности. Поистине, Макондо нигде и везде.
По всему роману писатель разбросал детали-символы, призванные вызвать у нас ассоциации с различными этапами истории континента. История Буэндиа уводит нас к временам его открытия. Подробно перечислены предки основателей рода – переселенцы из Испании, появившиеся здесь во времена, когда прибрежные воды бороздились судами знаменитого английского пирата сэра Френсиса Дрейка (Гарсиа Маркес упомянул его в первой известной своей журналистской публикации в картахенской газете). Нападение Дрейка на Риоачу положило начало «темным дорожкам» людских судеб, которые привели к встрече основателей рода – двоюродных брата и сестры. Основание Макондо напоминает нам основание первых поселений на девственных землях континента в первые столетия после конкисты, а дальнейшая его история воспроизводит картины патриархального, замкнутого существования латиноамериканских городов и поселений, отделенных друг от друга буйной природой и живущих в отрыве от цивилизации.
Миссионеры-цивилизаторы – это бродячие цыгане, коррехидор и прибывающий в Макондо падре. Жители Макондо, как если бы они были индейцами, получают от цыган новинки цивилизации – секстант, лупу, секреты алхимии, летающие циновки, они впервые видят кусок льда (дело происходит в тропиках). Коррехидор, представитель государственной власти, прибывает с абсурдным требованием перекрасить дома из белого цвета в синий, а падре уговаривает жителей соблюдать обряды венчания и крещения. Эти картины вызывают ассоциации с XIX веком, когда происходило упорядочивание государственной жизни и одновременно по всему континенту начались кровопролитные гражданские войны между консерваторами, патриархально-помещичьими слоями и либералами, сторонниками буржуазного прогресса.
Наконец Макондо вступает в буржуазную эпоху и происходит вторжение «новых цыган» – наглых и вульгарных чужеземцев, чьи фамилии выдают их североамериканское происхождение. Начинается банановая лихорадка, внедряются новинки цивилизации, строятся «электрифицированные курятники», возникают банановые плантации. Вслед за телефоном, граммофоном, железной дорогой Макондо узнает и такие новинки, как полицейский террор, забастовки, массовые расстрелы…
Но и этот уровень, на котором «просматривается» образ истории всего континента, – не последний. Читатель «прощупывает» сеть ассоциаций и образов-символов, которые выводят историю Буэндиа на еще более высокий уровень – уровень всеобщей культуры и истории. Сто лет – это не просто хронологические сто лет и даже не размытые рамки истории Латинской Америки, это, как в детском счете, неопределенное число, вроде «тысячи лет», т. е. необъятное, сакральное, сказочное время.
Наше сознание прощупывает эту сеть образов-символов на протяжении всей истории, начиная с сюжета об основателях рода, живших в мире, словно до грехопадения, юном, свежем и влажном, где огромные камни напоминали яйца доисторических животных и никто еще не умирал. Потом, с рождением детей и потомков, история разрастается на ветви-сюжеты, отходящие от основного корня и ствола, чтобы закончиться с последними потомками в Макондо, гибнущем в последнем апокалипсическом вихре. Пал Вавилон… Не акцентируя этого, писатель выстроил сюжет с библейской структурой и библейского масштаба.
На что, как не на Библию, ориентируется автор небылицы-анекдота о роде, кончившем тем, что породил ребенка со свиным хвостом? Этот анекдот мог быть разыгран в ярмарочном вертепе для публики – носительницы сознания народного католицизма. Библейская сюжетная канва – естественная основа для такой истории, в то же время ее сюжетная структура – дальний родственник структуры семейной эпопеи, также избранной Гарсиа Маркесом в качестве ориентира.
В «Сто лет одиночества» семейная эпопея словно возвращается к далекому жанровому предку – мифологической истории рода и архаической генеалогической хронике, происходит их слияние и взаимопроникновение. Для этого есть все основания. Отдаленная на тысячелетия от древних эпосов семейная эпопея сохраняет главные черты жанрового предка в плане композиции, сюжетного времени, пространства… Все они, как правило, имеют сходную структуру: начинается род с благополучия, активной деятельности физически и морально крепких родоначальников, затем постепенно мельчает, деградирует, истощаясь и вырождаясь в последних слабых потомках, с ними и кончается его история. При всех различиях таковы, в сущности, общие черты структуры «Ругон-Маккаров» Золя, «Будденброков» Томаса Манна, купеческих семейных эпопей Горького, элементы той же логики типичны и для фолкнеровской саги об Йокнапатофе.
То же произошло и у Гарсиа Маркеса, только здесь слились две стихии – социально-историческая и фантастическая, и, слившись, породили удивительный сплав.
Если балаганный фокусник Мелькиадес – один из авторов романа, вспомним теперь и о другом – о юном Габриэле Маркесе, уехавшем в Париж. Он овладел всем арсеналом западного литературного искусства, всеми «играми» различных течений, в том числе и мифологизмом, и любит направлять читателя по ложному следу, сбивать с толку. Как и Гарсиа Маркес, который, в частности, в одном из интервью сказал, что «на самом деле» Габриэль Маркес уехал в Париж не с Рабле, а с его, писателя, любимой книгой – «Хроникой чумного года» Даниэля Дефо, а он в последний момент заменил ее на Рабле, чтобы сбить с толку критиков. Гарсиа Маркес любит сбивать нас с толку, говоря, что не читал Фолкнера, Камю, Хемингуэя… Он любит прикинуться простоватым ярмарочным Мелькиадесом. Но мыто знаем, почему на вид простодушная байка о Буэндиа имеет совершенную литературную архитектонику романа-мифа.
Наивные россказни и фокусы Мелькиадеса имеют глубокие корни в западных интеллектуально-философских исканиях XX в., в западной мифологической прозе, открытия которой воспринял и по-своему блистательно развил Гарсиа Маркес.
Попытка прочтения «Ста лет одиночества» как романа-мифа, конечно, не нова. В западной критике не раз предпринимались такие, хотя и частичные, попытки, но, пожалуй, наиболее удачное определение книги Гарсиа Маркеса в этом аспекте дал Е. М. Мелетинский, который, не анализируя роман детально, определил его как роман-миф, сочетающий в себе черты семейной эпопеи и мифа, основанного на библейском сюжете[41 - Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 368.]. В качестве параллели книге Гарсиа Маркеса Е. М. Мелетинский приводит жанрово близкие ему, с одной стороны, «Будденброки», с другой – «Иосиф и его братья» Томаса Манна. Но, добавим, в отличие от «Иосифа и его братьев», перед нами роман, ориентированный не на конкретные легендарные сюжеты, Гарсиа Маркес замахнулся на структуру «книги народа», вольно используя обобщенные мифосхемы, мифообразы, ассоциации не только библейского, но и античного происхождения, образующие самый глубинный пласт образно-символической структуры романа. Назовем некоторые из них.
Прежде всего, это образ мирового и одновременно генеалогического древа жизни – гигантский каштан, он растет во дворе дома Буэндиа еще со времен набросков к роману «Дом» (только там было миндалевое дерево).
Далее, это идея и образ земли обетованной – земного рая, в котором живут поначалу безгрешные, как Адам и Ева, первопредки. Рай до познания и падения, и потому здесь никто еще никогда не умирал. Далее совершается первое убийство (сюжет Каин – Авель) и происходит грехопадение. Типичны для мифологии инцестуальный брак основателей рода – двоюродных брата и сестры Хосе Аркадио и Урсулы, первопредков, живших сначала как брат и сестра, затем – переселение и поиски нового места для основания родового дома (мотив изгнания познавших запретный плод Адама и Евы и одновременно наказание Каина). Типичен мифомотив вещего указания во сне на место основания дома, как и мотив «нерасслышанных слов» – Хосе Аркадио слышится неясно звучащее название, вроде бы «Макондо», так он и называет селение.
У Мелькиадеса – роль дьявола-искусителя, носителя знания (фаустовский сюжет) и Прометея – культурного героя, дарителя знаний о мире. Черты Прометея и в «соблазненном» Хосе Аркадио; в наказание за жажду познать мир (самая дерзкая его затея – увидеть Бога) он прикован к древу-каштану. Тема наказания за познание дублируется в судьбе Мелькиадеса и его племени: они исчезли с лица земли, ибо превзошли пределы познаний. Хотя Мелькиадес, искуситель и носитель знания, воскресает.
Другая мифосхема очевидна в образе Пилар Тернеры, в которой потомки Буэндиа познают женщину, благодаря чему они до поры до времени избегают инцеста. Пилар (основа, подпора) Тернера (телица) выполняет роль заместительницы матери – так первый сын Хосе Аркадио в момент познания Пилар Тернеры видит лицо матери.
Наконец, мотив инцеста. Типичный для мифологий и широко разработанный западной литературой XX в., он определяет сюжетно-композиционный «механизм» романа-мифа Гарсиа Маркеса. Все Буэндиа тяготеют к инцесту, а значит, к повторяемости родовых черт и зеркальному воспроизведению черт первопредков, что акцентируется повторяемостью родовых имен, особенно мотивом близнечных пар. Мотив инцеста – это механизм, структурирующий роман-миф, для поэтики которого, согласно Е. М. Мелетинскому, типичны циклическая повторяемость на основе мифологических архетипов и упорядочивание с их помощью жизненного или легендарного материала, воссоздающего образ коллективной истории и коллективное сознание. Цикл жизни рода завершается тем, что последние в роду, подобно первопредкам, не избегнув инцеста, рождают мифологическое хвостатое чудовище, завершающее историю рода.
Итак, роман-миф. Более того, наиболее полный роман-миф, будто выстроенный по готовым литературным рецептам, азбука романа-мифа, энциклопедия, собравшая сумму фрейдистских и мифологических клише западной художественно-философской традиции XX в. Здесь и инцест, и эдипов комплекс, и рок, и архетипы, и мифообразы.
Прежде всего, о соотношении мифологического и жизненно-исторического контекстов в «Сто лет одиночества», где жизненный материал собирается по силовым линиям и вытвердевает в мифосюжеты, мифообразы и в обобщающую мифоструктуру. В традиционном мифоромане мы чувствуем себя скованными костяком заданной идеи-структуры, у Гарсиа Маркеса ничто не довлеет, ибо он исходит не из архетипов, а напротив, словно просвечивает реальные конфликты до их «изначальных» основ. Вспомним хотя бы, что дедушка и бабушка Гарсиа Маркеса были двоюродными братом и сестрой, дед убил человека и был вынужден переселиться. Миф оказался жизнью. Писатель двигался не от схемы к истории, а от конкретной истории – к обобщению, чтобы просветить рентгенограммой общее бытие до «скелета» закономерности.
Но и эта операция не самодостаточна. Реально-историческое и мифопоэтическое не «сливаются» у Гарсиа Маркеса в недвижимое единство, а находятся в состоянии постоянного отталкивания и сближения, потому что, как отмечалось, если реально-исторический пласт дается в серьезно-драматической ипостаси, то фантастическое, а следовательно, и мифическое – в комическом аспекте. Поэтому закономерность, обнаруженная с помощью архетипа, – вовсе не подлинная истина. Смех растапливает «холод» мифа и архетипа, отрицает их неполную, ограниченную «мудрость», утверждающую одномерность жизни и отношений, судьбы мира и человека, и противопоставляет этой ложной мудрости идею их поливариантности, не поддающейся однозначному определению и всегда хранящей в себе возможность иного будущего.
Ведь если итогом жизни рода Буэндиа стал получеловек-полуживотное, то у него всего-навсего… маленький свиной хвостик; если Мелькиадес был дьяволом-соблазнителем, то он ведь… и просто цыган. В «Сто лет одиночества» нет ничего, что вышло бы из пределов травестийно-смехового поля. Карнавальная стихия носит всеобъемлющий характер, отрицая все, тяготеющее к неподвижности, однотоновости, односторонности, т. е. к догматизации бытия. Она захватывает в равной степени как философские, миросозерцательные, так и художественные источники и идейно-художественную природу романа-мифа, вывернутого смехом «наизнанку». Перед нами смеховой роман-миф, который травестирует, высмеивает, отрицает сам себя, сами свои источники. В «Похоронах Великой Мамы» была предварительная репетиция карнавальной ревизии. В «Сто лет одиночества» перед нами своего рода карнавальный похоронный балаган, в его огне сгорает и прежний Гарсиа Маркес, тот, что зашел в сумеречный тупиковый мир.
Глобальность смеховой ревизии очевидна, если увязать между собой два основных структурных идейно-художественных элемента – инцест и одиночество, константы западного модернистского искусства XX в.
В названии романа «Сто лет одиночества» одиночество – вот главный фокус внимания писателя, главный мотив, организующий образную сеть романа и его философию. Что сделал Гарсиа Маркес? Он это итоговое положение модернизма, эту «задушевную» идею и ключевую позицию экзистенциалистского сознания, философии одинокого, отчужденного индивидуума, онтологизировал, т. е. увековечил, превратив в изначальную и главную черту своего рода, всех его представителей, отмеченных печатью этого проклятия, как и печатью другого тяготеющего над ним проклятия – рока инцеста, приводящего к катастрофе. Объектом травестии стал не только миф как жанровая структура, которая воплощает абсурдное кружение бытия без качественных изменений, но и весь репертуар идей, утверждающих триаду «насилие – отчуждение – одиночество» как константу истории человечества. Философию сумерек человека и человечества, ведущую к идее смерти, он оспорил фантастической действительностью, где действуют возрождающие силы, источник которых – полнокровное народное бытие.
Противостояние идеологии одиночества и идеологии коллективистского бытия, из столкновения которых и рождается смех, – вот главный конфликт романа. Здесь полемика идет по принципиальным вопросам бытия человечества, в рамках «больших смыслов» истории, в рамках великого спора о жизни и смерти человечества в XX в. Это спор между силами бытия и энтропией.
И смех в фантастической действительности Гарсиа Маркеса высекается не только на полюсах жизни и смерти, но и на полюсах индивидуалистического и коллективистского начал. Смех здесь, как хирургический скальпель, препарирует трагизм, чтобы выявить его корни и истоки. И направлен он точной рукой в самый центр той опухоли, от которой гибнет род Буэндиа: «недоброе сознание», «недобрая ситуация» мира. Но что в корне? Одиночество? Да, все Буэндиа одиноки, и их история – это история одиночества. Но все-таки это не причина, а следствие. А в чем корни?
Обратимся к завязке трагедии. История рода началась, как в мифах, с инцестуального брака Хосе Аркадио и Урсулы. Урсула знала об его опасности, но Хосе Аркадио не хотел обращать на это внимания. И брак осуществился путем насилия. Как это было? На гальере петух Хосе Аркадио победил петуха Пруденсио Агиляра, и тот, уязвленный, оскорбил Хосе Аркадио, поставив под сомнение его мужские достоинства, поскольку он живет в девственном браке с Урсулой. Хосе Аркадио, возмущенный, пошел домой за копьем, убил Пруденсио, а затем, потрясая тем же копьем, заставил Урсулу выполнить свои обязанности жены. Так было положено начало роду.
Род начался с убийства, насилия, инцеста и с… петухов. Снова петухи, как в «Палой листве», «Полковнику никто не пишет» и «Недобром часе». Но там были не вполне ясные сигналы, теперь метафора обрела философский смысл.
Авторы статьи «Петух» в «Мифах народов мира» – В. Н. Топоров и М. Н. Соколов – поясняют универсальное содержание мифообраза петуха: он связан и с солнцем, и с подземным миром, поэтому с петухом во многих мифологиях ассоциируется «символика воскрешения из мертвых, вечного возрождения жизни»[42 - Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 310–311.]. Он символизирует и плодородие в его производительном аспекте (начало солнца-жизни), сексуальность, храбрость, мужское начало, в сниженном варианте – эротическое влечение, вирильность и агрессивность (начало смерти). Петух возвещает и восход солнца, и его закат.
Все эти смыслы присущи и образу петуха у Гарсиа Маркеса; писатель обращается не к книжным источникам, а к народной культуре. Связанный с распространенной по всей Латинской Америке традицией петушиных боев, петух – важная тема народного песенного и пословичного фонда, откуда он перешел и в профессиональное искусство (например, известный кубинский художник Мариано Родригес создал целую живописную мифологию петуха), и в сферу общественно-политической символики (петух – политическая эмблема). Петушиные мотивы и в мировой мифологии, и в латиноамериканской народной культуре двоятся: начало плодородящее, героическое, с одной стороны; с другой стороны, символ человека «мачо», т. е. «самца», самоутверждающегося голой силой, – символ виоленсии. Победа в петушиных боях – символ победы обладателя петуха, символ его мужского превосходства, чем вызваны порой кровавые развязки петушиных боев, обычно в крестьянской среде. Как в начале истории рода Буэндиа. Перед нами бытовая, реальная ситуация. «Ишь, петухи распетушились» – можно было бы сказать о стычке Хосе Аркадио и Пруденсио Агиляра. И в то же время перед нами ситуация, исполненная глубокого мифологического символизма, проясняющего корни преступления инцеста.
Теперь об инцесте. Как уже отмечалось, это универсальный мифологический мотив. С ним в мифологии связывается начало рода: «Первопредки, первые люди во многих мифологиях предстают в качестве брата и сестры»[43 - Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. С. 200.]. Но впоследствии в мифологических сказаниях по мере разрастания рода инцест запрещен и если он происходит, то вызывает в мире беспорядок, влекущий за собой космические нарушения, катастрофы[44 - Там же. С. 214.]. Мифологические мотивы – это фантастическое преломление и интерпретация реального хода социогенеза. Общественно-биологическая эволюция неразрывно связана с отрицанием инцеста, и запрет на него стал важнейшей нормой гуманистической традиции. Это нашло отражение в трагедиях Софокла о царе Эдипе, где инцест порождает беспорядок в природе – мор – и воспринимается как тягчайшее нарушение человеческой нормы. Инцест – это шаг назад от социума, попятное движение за пределы социальности и гуманистичности к «одиночеству» животного мира, к петухам.
Петух – Хосе Аркадио, возбужденный петушиной кровью, убил человека своим клювом-копьем, потом, потрясая им же, заставил Урсулу исполнять супружеские обязанности. Петушиное, животно-эгоистическое насилие стало истоком рода, и ему предстоит, выйдя из сферы социальности, вернуться в холод животного начала. Сначала были «петухи» и насилие – такова формула библии, создаваемой Гарсиа Маркесом.
Что сделал Хосе Аркадио после двойного насилия – убийства и инцеста? Убил всех своих бойцовых петухов (а вначале в аркадической обстановке земного рая он только тем и занимался, что «пас» своих петухов), зарыл во дворе дома копье (клюв) – и, мучимый призраком Агиляра, ушел с женой и селянами и на новом месте запретил разводить бойцовых петухов. Но если от разведения петухов можно отказаться, то невозможно уйти от проклятия насилия и порождаемой им верховной силы – смерти, которая в жизненном проявлении выступает как одиночество, лишающее человека целостности бытия. Все Буэндиа будут вести себя в отношениях с мужчинами и женщинами, в исторических событиях, как первые Буэндиа: подобно бойцовому петуху, птице, ведомой первобытным бездумным инстинктом, – и все они, как это обнаруживает последний Буэндиа, листая Британскую энциклопедию, будут иметь татарские скулы, удивленный взгляд и одинокий вид. И не то чтобы Буэндиа были злодеями, автор далек от ригоризма в отношении к ним. Это обычные, нормальные люди, более того, это замечательные в своей жизнестойкости и мощи типы, писатель любуется ими, их жаждой познания, необузданной энергией, яркими вспышками страстей; мотив бойцового петуха имеет и явно выраженное, хотя и с комическим оттенком, героизирующее начало. Но их норма человеческого обужена, ограничена петушиным – животно-эгоистическим – началом, находящим выражение в разнообразных формах индивидуализма. Не внеземная сила определяет роковую судьбу рода в мифе Гарсиа Маркеса, а сам человек, своими качествами создающий мир, в котором он живет, своей сущностью детерминирующий течение событий и их исход.
Самое высокое и символическое проявление ограниченности истинно человеческого в роду Буэндиа – их неспособность к любви, той высшей форме единения, что не известна животному миру. Это осознает родоначальница Урсула, которая с самого начала знала, чем грозит ей брак с Хосе Аркадио, и с беспокойством наблюдала за безумствами своих потомков. Ослепшая, совсем древняя старушка, она прозревает внутренне и понимает, что все беды из-за неспособности Аурелиано любить.