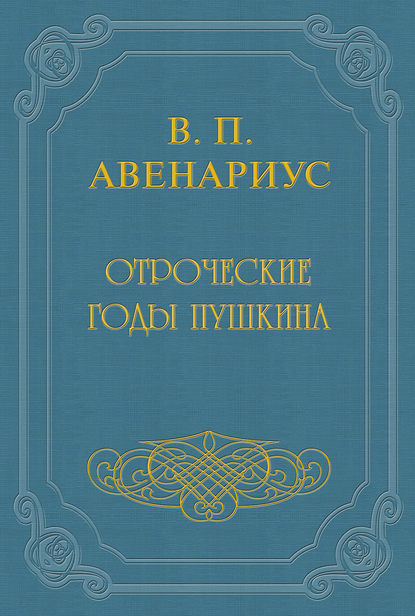По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отроческие годы Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кантемир не поэт: у него рубленая проза.
– Вот как!
– Не я один это говорю: я от многих слышал. По качеству же стихов первым поэтом хотя и принято у нас считать Державина, но стих у него чересчур уж напыщен, у Жуковского, у Батюшкова он гораздо натуральнее и благозвучнее…
– Каков критик! – с снисходительным пренебрежением заметил министр. – С чужого, знать, голоса поет. Господин профессор! Не угодно ли вам теперь приступить к допросу?
Один из экзаменаторов покорно преклонил голову и обратился к Пушкину:
– Вы, прочитав малую толику, запомнили, несомненно, кое-что и наизусть?
– Очень многое.
– Например… ну, хоть бы карамзинскую «Марфу Посадницу»…
– Прочитать?
– Прочитайте, только с подобающей интонацией и экспрессией, не глотая слова и запятых.
– «Раздался звук вечевого колокола, – начал „подобающим“, неспешным и торжественным голосом Пушкин, – и вздрогнули сердца в Новгороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумными толпами на великую площадь…»
Профессор движением руки остановил маленького декламатора.
– Начало, конечно, кому не известно, – сказал он. – А помните ли вы художественное описание появления Марфы среди народа?
– «Еще продолжается молчание, – не задумываясь, задекламировал опять Пушкин. – Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: „Марфа, Марфа!“ Она входит на железные ступени тихо и величаво; взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует… Важность и скорбь видны на бледном лице ее…»
Пушкин, как следует, на минуту здесь замолк, чтобы дать слушателям вглядеться в воссозданную им перед их внутренним взором картину.
– Вот это музыка слов, истинная поэзия, хотя и в прозаической форме! – воскликнул граф Разумовский. – Память у вас довольно счастливая, надо сознаться, и читаете вы весьма и весьма сносно.
– Не позволите ли, ваше сиятельство, перейти к грамматике? – обратился к нему экзаменатор.
– Извольте.
– Пожалуйте-ка, молодой человек, к доске.
Пушкин подошел к саженной доске и вооружился мелом.
– Вы, как юнец, отдавали только что предпочтение перед маститым нашим поэтом-исполином Державиным юному поколению поэтов, не достойных подвязывать и ремни на сандалиях его. Я продиктую вам такие перлы его музы, каких вы ни у кого из иных прочих со свечой не сыщете. Пишите:
Спустил седой Борей Эола
С цепей чугунных из пещер…
– Я и так знаю, – подхватил мальчик, —
Ужасны крылья расширяя,
Махнул по свету богатырь…
Стихи звучные, но все-таки, по моему мнению…
– Вашего мнения не спрашивают! Извольте писать!
Александр крупным детским почерком, косым и небрежным, живо исписал всю доску сверху донизу четырьмя приведенными строками.
– В правописании вы слабы, – заметил профессор и указал пять-шесть орфографических ошибок, после чего задал еще несколько грамматических вопросов. Ответы точно так же были довольно сбивчивы и нетверды.
Между тем директор Малиновский, как видел издали Пушкин, наклонился с просительной миной к министру, и тот, кивнув головой, громко объявил:
– Начитанность ваша отчасти вас еще выручает. Посмотрим, каковы ваши познания в иностранных языках. Начнем с немецкого.
Пушкин оторопел.
– Нельзя ли мне отвечать из одного французского?..
– А немецкого вы, значит, совсем не знаете?
– Совсем! – брякнул он, чтобы только поскорее развязаться.
– Гм… И читать даже не умеете?
– Читать, конечно, умею.
– Так вот прочтите.
Мальчик из поданной ему немецкой книжки прочел довольно бегло несколько строк.
– Ну, этого на первый раз, пожалуй, и достаточно, – смилостивился министр и отнесся по-французски к сидевшему тут же за столом маленькому старичку в напуденном парике: – Мосье де Будри! Не соблаговолите ли теперь вы?..
Де Будри, несмотря на свои преклонные лета, чрезвычайно живой и подвижный, вертя в пальцах черепаховую табакерку, предложил Пушкину простой грамматический вопрос, но предложил по-русски, уморительно коверкая слова. Пушкин, с трудом подавляя улыбку, отвечал ему без запинки на самом чистом парижском наречии. Француз весь так и встрепенулся и не замедлил сам перейти на свой родной язык.
– А! Так вы, милый мой, читали, быть может, и наших великих классиков?
– Расина, Корнеля, Мольера? – переспросил Александр. – Читал, так же как и философов Руссо, Вольтера…
– Руссо и Вольтера! – вырвалось у графа Разумовского, и он многозначительно переглянулся с присутствующими. – Тоже, видно, брали без спроса из библиотеки отца?
– Да…
– Будем надеяться, что вы их хотя бы наполовину не поняли.
– Ну, Расин, Корнель и даже Мольер безвредны, – вступился мосье де Будри.
– Я умею читать Мольера и на разные голоса, – вызвался ободрившийся опять Пушкин.
– О! О! На разные голоса! Не разрешите ли, ваше сиятельство, прочесть ему нам для образчика какую-нибудь мольеровскую сценку?
– Отчего же, пускай прочтет. Выбор пьесы, молодой человек, мы предоставляем вам.
– Вот как!
– Не я один это говорю: я от многих слышал. По качеству же стихов первым поэтом хотя и принято у нас считать Державина, но стих у него чересчур уж напыщен, у Жуковского, у Батюшкова он гораздо натуральнее и благозвучнее…
– Каков критик! – с снисходительным пренебрежением заметил министр. – С чужого, знать, голоса поет. Господин профессор! Не угодно ли вам теперь приступить к допросу?
Один из экзаменаторов покорно преклонил голову и обратился к Пушкину:
– Вы, прочитав малую толику, запомнили, несомненно, кое-что и наизусть?
– Очень многое.
– Например… ну, хоть бы карамзинскую «Марфу Посадницу»…
– Прочитать?
– Прочитайте, только с подобающей интонацией и экспрессией, не глотая слова и запятых.
– «Раздался звук вечевого колокола, – начал „подобающим“, неспешным и торжественным голосом Пушкин, – и вздрогнули сердца в Новгороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумными толпами на великую площадь…»
Профессор движением руки остановил маленького декламатора.
– Начало, конечно, кому не известно, – сказал он. – А помните ли вы художественное описание появления Марфы среди народа?
– «Еще продолжается молчание, – не задумываясь, задекламировал опять Пушкин. – Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: „Марфа, Марфа!“ Она входит на железные ступени тихо и величаво; взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует… Важность и скорбь видны на бледном лице ее…»
Пушкин, как следует, на минуту здесь замолк, чтобы дать слушателям вглядеться в воссозданную им перед их внутренним взором картину.
– Вот это музыка слов, истинная поэзия, хотя и в прозаической форме! – воскликнул граф Разумовский. – Память у вас довольно счастливая, надо сознаться, и читаете вы весьма и весьма сносно.
– Не позволите ли, ваше сиятельство, перейти к грамматике? – обратился к нему экзаменатор.
– Извольте.
– Пожалуйте-ка, молодой человек, к доске.
Пушкин подошел к саженной доске и вооружился мелом.
– Вы, как юнец, отдавали только что предпочтение перед маститым нашим поэтом-исполином Державиным юному поколению поэтов, не достойных подвязывать и ремни на сандалиях его. Я продиктую вам такие перлы его музы, каких вы ни у кого из иных прочих со свечой не сыщете. Пишите:
Спустил седой Борей Эола
С цепей чугунных из пещер…
– Я и так знаю, – подхватил мальчик, —
Ужасны крылья расширяя,
Махнул по свету богатырь…
Стихи звучные, но все-таки, по моему мнению…
– Вашего мнения не спрашивают! Извольте писать!
Александр крупным детским почерком, косым и небрежным, живо исписал всю доску сверху донизу четырьмя приведенными строками.
– В правописании вы слабы, – заметил профессор и указал пять-шесть орфографических ошибок, после чего задал еще несколько грамматических вопросов. Ответы точно так же были довольно сбивчивы и нетверды.
Между тем директор Малиновский, как видел издали Пушкин, наклонился с просительной миной к министру, и тот, кивнув головой, громко объявил:
– Начитанность ваша отчасти вас еще выручает. Посмотрим, каковы ваши познания в иностранных языках. Начнем с немецкого.
Пушкин оторопел.
– Нельзя ли мне отвечать из одного французского?..
– А немецкого вы, значит, совсем не знаете?
– Совсем! – брякнул он, чтобы только поскорее развязаться.
– Гм… И читать даже не умеете?
– Читать, конечно, умею.
– Так вот прочтите.
Мальчик из поданной ему немецкой книжки прочел довольно бегло несколько строк.
– Ну, этого на первый раз, пожалуй, и достаточно, – смилостивился министр и отнесся по-французски к сидевшему тут же за столом маленькому старичку в напуденном парике: – Мосье де Будри! Не соблаговолите ли теперь вы?..
Де Будри, несмотря на свои преклонные лета, чрезвычайно живой и подвижный, вертя в пальцах черепаховую табакерку, предложил Пушкину простой грамматический вопрос, но предложил по-русски, уморительно коверкая слова. Пушкин, с трудом подавляя улыбку, отвечал ему без запинки на самом чистом парижском наречии. Француз весь так и встрепенулся и не замедлил сам перейти на свой родной язык.
– А! Так вы, милый мой, читали, быть может, и наших великих классиков?
– Расина, Корнеля, Мольера? – переспросил Александр. – Читал, так же как и философов Руссо, Вольтера…
– Руссо и Вольтера! – вырвалось у графа Разумовского, и он многозначительно переглянулся с присутствующими. – Тоже, видно, брали без спроса из библиотеки отца?
– Да…
– Будем надеяться, что вы их хотя бы наполовину не поняли.
– Ну, Расин, Корнель и даже Мольер безвредны, – вступился мосье де Будри.
– Я умею читать Мольера и на разные голоса, – вызвался ободрившийся опять Пушкин.
– О! О! На разные голоса! Не разрешите ли, ваше сиятельство, прочесть ему нам для образчика какую-нибудь мольеровскую сценку?
– Отчего же, пускай прочтет. Выбор пьесы, молодой человек, мы предоставляем вам.