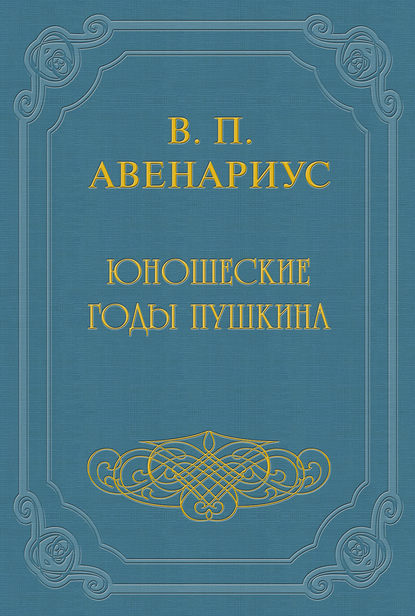По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Юношеские годы Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лицеисты не замедлили грянуть:
– Шесть лет промчалось, как мечтанье… —
но грянули так громко, что выходивший император в дверях с улыбкой обернулся и кивнул им головой.
– Я вернусь еще к вам, друзья мои.
И точно, певцы не совсем еще допели довольно длинный гимн, как государь показался снова на пороге в сопровождении Голицына и Энгельгардта и остановился, чтобы дослушать последний куплет.
Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: «Шествуйте, сыны!»
Простимся, братья, руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас!
– Прекрасно! – сказал государь, когда замолкли последние звуки гимна. – А где же автор? Где композитор?
Энгельгардт подвел к нему тотчас Дельвига и Теппера. Удостоив того и другого нескольких лестных слов, император Александр Павлович обратился затем ко всем лицеистам:
– Ну, дети мои! Директор ваш выпросил у меня для вас особую милость: на вашу экипировку будет отпущено из казны 10 тысяч рублей, и, кроме того, те из вас, что поступают на гражданскую службу, будут получать, пока не определятся на штатные места, окончившие по 1-му разряду – 800 рублей, а по 2-му – 700 рублей в год. На будущем вашем служебном поприще мы с вами, надеюсь, еще не раз встретимся. Поэтому не говорю вам: «Прощайте!», а говорю: «До свиданья, дети!»
– До свиданья, ваше величество! – восторженно крикнули в ответ все 29 человек лицеистов и бросились провожать уходящего государя сперва на лестницу, а оттуда и на улицу.
– Еще раз благодарю вас, господа, за все ваши труды! – сказал государь на прощанье теснившемуся около его коляски лицейскому начальству. – И вы не будете забыты мною.
Действительно, все почти служащие в лицее от мала до велика удостоились монарших щедрот[58 - Директору Энгелъгардту был пожалован орден Св. Владимира на шею; профессорам: Гауеншильдту, де Будри, Куницыну и Кайданову – на шею же орден Св. Анны; Кошанскому и Карцеву – Владимирский крест в петлицу; гувернеру Чирикову и доктору Пешелю – Аннинский крест в петлицу; инженер-полковнику Эльснеру и учителю танцевания Эбергардту – золотые табакерки: первому – с алмазами; учителю фехтования Вальвилю и капельмейстеру барону Тепперу де Фергюсону – алмазные перстни; наконец, эконому Ротасту – чин 10-го класса.].
В последний раз собрались лицеисты в столовую к обеду. Пушкин сел рядом с Дельвигом; но ему кусок в рот не шел: другого друга его, Пущина, не было с ними за столом; дня за два еще до акта он расхворался, а сегодня, перемогаясь, едва выстоял до конца чтения в актовой зале и по требованию доктора Пешеля оттуда прямо спустился в лазарет.
– Надо же было ему расклеиться!.. – ворчал Пушкин про себя.
– Кому? – переспросил Дельвиг.
– Да Пущину.
– А что?
– Да вместе собирались в Петербург.
– А мне с тобой нельзя, – как бы извинился Дельвиг. – А знаешь что, Пушкин: после обеда прогуляемся-ка еще раз по парку?
– Прогуляемся. Я даже сейчас бы пошел: мне вовсе не до еды.
– Мне тоже. Так идем, что ли?
– Идем.
Друзья-поэты разом встали из-за стола и рука об руку отправились в парк. Обоим казалось, что у них еще так много недосказанного, о чем надо наговориться, – и оба задумчиво молчали или обменивались только отрывистыми фразами. Задушевные звуки голоса, дружелюбные взгляды, крепкие рукопожатия высказывали им лучше всяких слов то, что нужно было им еще выразить друг другу: неизменную верность «до гроба».
Легко понять, что им было не особенно приятно, когда их одинокая прощальная прогулка была прервана появлением третьего лица – такого же поэта, Кюхельбекера.
– Простите, господа… вы гуляете? Можно и мне тоже? – путаясь, заговорил тот, заметив, как Пушкин вдруг насупился.
– Кто же тебе мешает? – небрежно отвечал Пушкин. – Желаю тебе веселиться.
– Да нет… Я не то… Знаешь, как у Шиллера:
Ich sei, gew?hrt mir die Bitte,
In eurem Bunde der Dritte!
или в вольном переводе —
Дозволь моей маленькой Музе
Быть третьей в сем братском союзе!
– Браво, Виленька! Ты все совершенствуешься! – усмехнулся уже Пушкин и оглядел саженную фигуру Кюхельбекера. – Маленькая Муза тебе, впрочем, не совсем по росту.
– Напротив, – сказал Дельвиг, – совершенно по законам физики: Муза его обратно пропорциональна квадрату его роста.
– А у вас обоих чем меньше рост, тем больше Муза, – миролюбиво соглашался на все Кюхельбекер. – Поэтому вам, господа, ничего не стоит исполнить мою последнюю просьбу: напишите мне каждый на прощанье по хорошенькому стишку!
– Еще по «хорошенькому»! Вовремя спохватился, нечего сказать: когда в экипаж садиться…
– Ну, сделайте божескую милость, господа! Другим же вы всем написали?
– Всем не всем; во всяком случае, теперь-то не время. Это все равно, как если бы я предложил тебе сейчас с бухты-барахты решить какой-нибудь Ньютонов бином.
– А что ж, решу! Пойдем, сейчас решу! А ты мне за это напишешь?
– Нет, барон, ты на этом его не поймаешь, – сказал Пушкин. – Так и быть, что ли, напишем ему что-нибудь?
– Вот друг! Вот душа-человек! – вскричал в восхищенье Кюхельбекер, и, прежде чем Пушкин успел защититься, на щеке его напечатлелся сочный поцелуй. – Но в таком случае не пойдешь ли ты сейчас домой?
– Ну вот: с прогулки даже гонит! Нечего делать, барон, надо идти.
– Ты, пожалуй, пиши, – отвечал Дельвиг, – для тебя это игрушка; меня же уволь.
Солнце еще не село, когда к лицейскому подъезду с колокольчиками и бубенчиками стали подкатывать одна за другой брички и коляски. Молодые люди, неразлучно 6 лет просидевшие на одной скамье, разлетались теперь во все концы света. В швейцарской и на тротуаре перед подъездом шла беспрерывная толкотня: не успевали одного проводить, как приходилось отправлять другого.
Вот вышел, одетый совершенно по-дорожному, и Пушкин. Началось беспорядочное, но сердечное прощанье. Каждый из не уехавших еще товарищей поочередно заключал его в объятья и затем передавал следующему. От последнего он как бы само собой перешел в руки дежурного гувернера, искренно уважаемого всеми ими Чирикова. За ним же, впереди подначальной команды, подошел старший дядька Леонтий Кемерский. Пушкин взглянул на плутовато-дубродушное лицо бравого усача – и не узнал его: старик плакал, не отирая слез, щеки его судорожно подергивало, а вместо всегдашнего лукавства в отуманенных глазах его можно было прочесть только самую искреннюю печаль. Печаль эта была у него так необычна, что Пушкин теперь только, в эту минуту, будто в первый раз заметил ту значительную перемену, которая совершилась за эти 6 лет со стариком: морщин в лице у него прибавилось вдвое, а слегка серебрившиеся прежде усы совсем побелели.
– Как ты, однако, постарел, Леонтий, с тех пор, что мы знаем друг друга! – невольно сказал ему Пушкин.
– Постареешь, сударь! – отвечал каким-то надтреснутым голосом Леонтий и всхлипнул. – А вы, соколы, – крылья отро?стили и ш-ш-ш! – полетели… Прощайте, ваше благородие! Господь храни вас!
– Прощай, Леонтий.