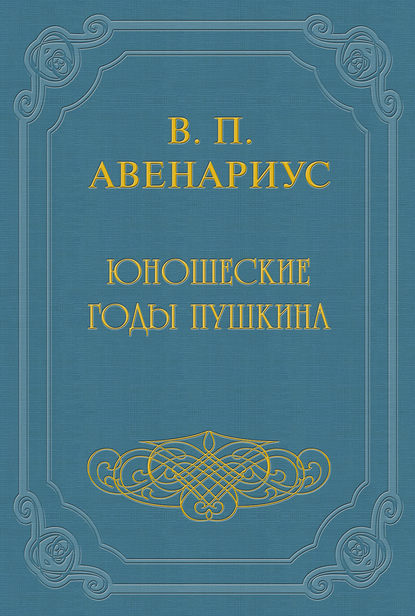По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Юношеские годы Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ай люли, люли, люли!
Новая «национальная песня» в литературном отношении оставляла желать многого уже потому, что в сочинении ее принимало участие слишком много лиц. Тем удачнее были альбомные стихи, которые должны были писать теперь друг другу на прощанье лицейские стихотворцы. Само собою разумеется, что к Пушкину приставали более, чем к другим, и, удовлетворив двоих, Пущина и Илличевского, он от остальных отделался уже одним общим посланием: «К товарищам перед выпуском». Директор со своей стороны предлагал ему написать прощальный гимн для акта, на котором должен был присутствовать и государь. Пушкин сначала было обещался написать, но затем все не мог собраться исполнить обещание, так что Энгельгардт нарочно зашел к нему в камеру.
– Ну что же, Пушкин? – спросил он. – Гимн твой еще не готов?
– И не начат! – был ответ.
– Экой ты! Когда же ты, наконец, примешься за него?
– Ей-Богу, не знаю, Егор Антоныч. Заказных стихов, поверите ли, такая масса… И то едва развязался с товарищами…
– Кстати! – сказал Энгельгардт. – Хорошо, что напомнил. Я имел случай прочесть твои стихи к товарищам. У тебя, конечно, есть еще собственноручный список с этих стихов?
– Есть.
– Так дай мне на память! Я не ожидаю, чтобы ты написал что-либо и лично мне, но какой-нибудь автограф твой мне надо же иметь.
Пушкин открыл конторку и подал директору начисто перебеленные им для себя стихи. Тот сейчас же прочел их, и довольное выражение лица его при чтении заключительных строк сказало яснее слов, как поэт угодил ему. Дело в том, что Пушкин, как бы в виде шага к примирению с ним, косвенно похвалил выхлопотанную Энгельгардтом лицеистам льготу – не застегиваться наглухо на все пуговицы:
Друзья, немного снисхожденья!
Оставьте мирный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.
– Спасибо тебе! – с теплотою сказал Энгельгардт, пряча стихи. – Так как же, друг мой, насчет гимна?
– Уж, право, Егор Антоныч, не берусь наверное… Поручите лучше Дельвигу: он такой же поэт, как и я…
– Поэт, да не такой. Ну да нечего делать! Обратимся к Дельвигу. Но у меня до тебя еще другое дело. Надеюсь, что в нем-то ты мне хоть поможешь.
– Приказывайте.
– После акта у меня на квартире будет небольшой спектакль. Кроме моих домашних в пьесе должны участвовать несколько человек лицеистов. У тебя же, Пушкин, есть несомненный актерский талант, и наш главный режиссер, Мери, рассчитывает на тебя.
При имени Мери лицо Пушкина разом залило румянцем, а брови его сдвинулись.
– Мадам Смит, видно, смеется надо мной? – отрывисто произнес он.
– Ничуть. Она сама, видишь ли, сочинила французскую пьеску, и так как ты не только хороший актер, но и сам поэт да, кроме того, прекрасно говоришь по-французски…
– Нет, уж увольте! – прервал решительно Пушкин. – Вы, Егор Антоныч, сами хорошо поймете, почему я не могу.
– Но что мне сказать ей?
– Поблагодарите за честь… Скажите, что родители пришлют за мной из Петербурга сейчас после акта… И это ведь сущая правда…
– Пожалуй, скажем, если уже ты наотрез отказываешься. Не знаю, Пушкин, доведется ли нам с тобой еще быть наедине до твоего отъезда, – продолжал Энгельгардт, и в голосе его зазвучала отечески-задушевная нота. – Поэтому я теперь же дам тебе совет на дорогу: в тебе есть искра Божия – не задувай ее!
– Я мог бы быть, конечно, прилежнее, – согласился Пушкин, – и, вероятно, буду сожалеть о потерянных школьных годах…
– О потерянном, друг мой, что теперь толковать! Что с возу упало – то пропало. Но впереди у тебя еще целая жизнь: если ты хочешь стать настоящим человеком, то должен доучивать то, чему недоучился в лицее и что далось бы тебе в лицее гораздо легче. Помоги тебе Бог! Нас же не поминай лихом…
– Я буду поминать вас только добром, Егор Антоныч.
– Спасибо. Так вот что: если в трудное время тебе понадобится дружеская помощь, искренний совет – иди прямо ко мне: двери моего дома так же, как и сердце мое, всегда будут открыты для тебя!
Сам не зная как, Пушкин очутился в объятиях Энгельгардта.
– Хоть простились-то друзьями! – промолвил с улыбкой растроганным голосом Энгельгардт и, чтобы скрыть свое внутреннее волненье, поспешно вышел.
А Пушкин? На глазах у него также навернулись слезы. Он стоял, как в забытьи: прочувствованные дружеские слова директора глубоко запали ему в душу и, как показало будущее, принесли хорошие плоды.
Давно ли он рвался из стен лицея! А теперь, когда стены эти вдруг раздвинулись перед ним еще за полгода до срока, неодолимая грусть напала на него: лицей – эта воображаемая некогда тюрьма – сделался для него как бы родным домом, а начальники (в том числе, конечно, и Энгельгардт), товарищи и даже лицейская прислуга стали ему вдруг так же близки, как члены своей семьи. Немногие дни между экзаменами и актом пролетели для лицеистов как сон; перед вечной, быть может, разлукой им хотелось наговориться досыта. Воспоминания о прошлом, мечты о будущем прерывались только дорожными сборами и прощальными визитами к царскосельским знакомым.
Так наступило утро последнего дня пребывания их в лицее – 9 июня. Насколько пышно и торжественно 6 лет перед тем открывался лицей, настолько тих и скромен был акт их выпуска оттуда. Правда, император Александр Павлович, как и тогда, удостоил акт своим присутствием; но государь и сопровождавший его князь Голицын (исправлявший должность министра народного просвещения вместо графа Разумовского) были единственные присутствующие из «сильных мира сего». Кроме 29 воспитанников выпускного класса в парадной форме было тут, разумеется, их начальство, были родители немногих из них, да кое-кто из жителей Царского Села. Когда государь ровно в 12 часов дня прошел из внутренних покоев дворца в большой лицейский зал, навстречу ему вышли директор и все профессора. Когда затем все заняли свои места, Энгельгардт с кафедры сказал небольшую вступительную речь. После него конференц-секретарь профессор Куницын прочитал отчет о ходе занятий лицеистов и основных началах их воспитания. В заключение князь Голицын вызывал воспитанников по списку, представлял каждого из них государю и вручал одним медали или похвальные листы, а другим – просто аттестаты.
Первую золотую медаль, оказалось, заслужил Вальховский, вторую – князь Горчаков, первую серебряную – Маслов, вторую – Есаков, третью – Кюхельбекер и четвертую – Ломоносов. Четверым другим: Корсакову, барону Корфу, Пущину и Саврасову – взамен медалей были присуждены похвальные листы. Из 17 воспитанников, назначавшихся в гражданскую службу, 9 человек вышло по 1-му разряду с чином титулярного советника и 8 – по 2-му с чином коллежского секретаря. Из 12 же воспитанников, выбравших военную карьеру, семеро было выпущено по 1-му разряду – в гвардию и пятеро по 2-му – в армию. В общем счету Пушкин оказался 19-м, а между «гражданскими чинами» 14-м. Тотчас за ним следовал Дельвиг.
– Сама судьба сделала меня твоим верным спутником и оруженосцем! – сказал он Пушкину, возвращаясь к нему от стола с аттестатом. – Покажи-ка, брат: как тебя расписали?
Пушкин подал ему свой аттестат.
– «Александр Пушкин… оказал успехи… – прочел про себя Дельвиг, – в Законе Божием и священной истории, в логике и нравственной философии, в праве естественном, частном и публичном, в российском, гражданском и уголовном праве – хорошие; в латинской словесности, в государственной экономии и финансах – весьма хорошие…» Что правда, то правда: ты первый у нас экономист и финансист!
– А как же, – отозвался шутя Пушкин. – Пристраивать деньги разве не умею?
– Еще бы, – согласился Дельвиг и продолжал читать: – «В российской и французской словесности, также и в фехтовании – превосходные…» По этим частям, конечно, тебе и книги в руки. «Сверх того…» Вот это лучше всего: «Сверх того, занимался историей, географией, статистикой, математикой, немецким языком…», стихоплетством и всякими дурачествами.
Последние слова Дельвиг скороговоркой добавил так неожиданно от себя, что товарищи кругом фыркнули, а стоявший около них дежурный гувернер ужаснулся.
– Помилуйте, господа! Что с вами?!
По счастью, внимание высоких гостей было в это время отвлечено от лицеистов, потому что, отпустив только что последнего из них, графа Броглио, князь Голицын стал представлять государю поочередно профессоров. Сказав каждому из них несколько ласковых слов, император встал, подошел к лицеистам и обратился к ним с отеческим увещеванием «не совращаться с пути добродетели и честности, если они желают быть счастливыми в жизни, и свято уважать всегда свои обязанности к Богу и отечеству».
– А теперь покажи-ка мне свой лицей, – обратился государь к Энгельгардту.
Тот немного оторопел.
– Я должен предупредить ваше величество, что воспитанники укладываются в дорогу и потому у нас везде беспорядок…
– Без этого нельзя, конечно. Но я сегодня не в гостях у тебя, а как хозяин хочу только посмотреть на сборы наших молодых людей.
С этими словами император направился прямо к выходу. Учитель пения, барон Теппер де Фергюсон, все время уже стоявший как на угольях, совсем растерялся. Дело в том, что Дельвиг, по настоянию Энгельгардта, действительно сочинил прощальный гимн, а Теппер положил этот гимн на музыку. И теперь-то, когда настала наконец минута его торжества, государь вдруг выходил из зала!
– Гимн, господа! – крикнул бедный учитель и отчаянно замахал обеими руками.
Новая «национальная песня» в литературном отношении оставляла желать многого уже потому, что в сочинении ее принимало участие слишком много лиц. Тем удачнее были альбомные стихи, которые должны были писать теперь друг другу на прощанье лицейские стихотворцы. Само собою разумеется, что к Пушкину приставали более, чем к другим, и, удовлетворив двоих, Пущина и Илличевского, он от остальных отделался уже одним общим посланием: «К товарищам перед выпуском». Директор со своей стороны предлагал ему написать прощальный гимн для акта, на котором должен был присутствовать и государь. Пушкин сначала было обещался написать, но затем все не мог собраться исполнить обещание, так что Энгельгардт нарочно зашел к нему в камеру.
– Ну что же, Пушкин? – спросил он. – Гимн твой еще не готов?
– И не начат! – был ответ.
– Экой ты! Когда же ты, наконец, примешься за него?
– Ей-Богу, не знаю, Егор Антоныч. Заказных стихов, поверите ли, такая масса… И то едва развязался с товарищами…
– Кстати! – сказал Энгельгардт. – Хорошо, что напомнил. Я имел случай прочесть твои стихи к товарищам. У тебя, конечно, есть еще собственноручный список с этих стихов?
– Есть.
– Так дай мне на память! Я не ожидаю, чтобы ты написал что-либо и лично мне, но какой-нибудь автограф твой мне надо же иметь.
Пушкин открыл конторку и подал директору начисто перебеленные им для себя стихи. Тот сейчас же прочел их, и довольное выражение лица его при чтении заключительных строк сказало яснее слов, как поэт угодил ему. Дело в том, что Пушкин, как бы в виде шага к примирению с ним, косвенно похвалил выхлопотанную Энгельгардтом лицеистам льготу – не застегиваться наглухо на все пуговицы:
Друзья, немного снисхожденья!
Оставьте мирный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.
– Спасибо тебе! – с теплотою сказал Энгельгардт, пряча стихи. – Так как же, друг мой, насчет гимна?
– Уж, право, Егор Антоныч, не берусь наверное… Поручите лучше Дельвигу: он такой же поэт, как и я…
– Поэт, да не такой. Ну да нечего делать! Обратимся к Дельвигу. Но у меня до тебя еще другое дело. Надеюсь, что в нем-то ты мне хоть поможешь.
– Приказывайте.
– После акта у меня на квартире будет небольшой спектакль. Кроме моих домашних в пьесе должны участвовать несколько человек лицеистов. У тебя же, Пушкин, есть несомненный актерский талант, и наш главный режиссер, Мери, рассчитывает на тебя.
При имени Мери лицо Пушкина разом залило румянцем, а брови его сдвинулись.
– Мадам Смит, видно, смеется надо мной? – отрывисто произнес он.
– Ничуть. Она сама, видишь ли, сочинила французскую пьеску, и так как ты не только хороший актер, но и сам поэт да, кроме того, прекрасно говоришь по-французски…
– Нет, уж увольте! – прервал решительно Пушкин. – Вы, Егор Антоныч, сами хорошо поймете, почему я не могу.
– Но что мне сказать ей?
– Поблагодарите за честь… Скажите, что родители пришлют за мной из Петербурга сейчас после акта… И это ведь сущая правда…
– Пожалуй, скажем, если уже ты наотрез отказываешься. Не знаю, Пушкин, доведется ли нам с тобой еще быть наедине до твоего отъезда, – продолжал Энгельгардт, и в голосе его зазвучала отечески-задушевная нота. – Поэтому я теперь же дам тебе совет на дорогу: в тебе есть искра Божия – не задувай ее!
– Я мог бы быть, конечно, прилежнее, – согласился Пушкин, – и, вероятно, буду сожалеть о потерянных школьных годах…
– О потерянном, друг мой, что теперь толковать! Что с возу упало – то пропало. Но впереди у тебя еще целая жизнь: если ты хочешь стать настоящим человеком, то должен доучивать то, чему недоучился в лицее и что далось бы тебе в лицее гораздо легче. Помоги тебе Бог! Нас же не поминай лихом…
– Я буду поминать вас только добром, Егор Антоныч.
– Спасибо. Так вот что: если в трудное время тебе понадобится дружеская помощь, искренний совет – иди прямо ко мне: двери моего дома так же, как и сердце мое, всегда будут открыты для тебя!
Сам не зная как, Пушкин очутился в объятиях Энгельгардта.
– Хоть простились-то друзьями! – промолвил с улыбкой растроганным голосом Энгельгардт и, чтобы скрыть свое внутреннее волненье, поспешно вышел.
А Пушкин? На глазах у него также навернулись слезы. Он стоял, как в забытьи: прочувствованные дружеские слова директора глубоко запали ему в душу и, как показало будущее, принесли хорошие плоды.
Давно ли он рвался из стен лицея! А теперь, когда стены эти вдруг раздвинулись перед ним еще за полгода до срока, неодолимая грусть напала на него: лицей – эта воображаемая некогда тюрьма – сделался для него как бы родным домом, а начальники (в том числе, конечно, и Энгельгардт), товарищи и даже лицейская прислуга стали ему вдруг так же близки, как члены своей семьи. Немногие дни между экзаменами и актом пролетели для лицеистов как сон; перед вечной, быть может, разлукой им хотелось наговориться досыта. Воспоминания о прошлом, мечты о будущем прерывались только дорожными сборами и прощальными визитами к царскосельским знакомым.
Так наступило утро последнего дня пребывания их в лицее – 9 июня. Насколько пышно и торжественно 6 лет перед тем открывался лицей, настолько тих и скромен был акт их выпуска оттуда. Правда, император Александр Павлович, как и тогда, удостоил акт своим присутствием; но государь и сопровождавший его князь Голицын (исправлявший должность министра народного просвещения вместо графа Разумовского) были единственные присутствующие из «сильных мира сего». Кроме 29 воспитанников выпускного класса в парадной форме было тут, разумеется, их начальство, были родители немногих из них, да кое-кто из жителей Царского Села. Когда государь ровно в 12 часов дня прошел из внутренних покоев дворца в большой лицейский зал, навстречу ему вышли директор и все профессора. Когда затем все заняли свои места, Энгельгардт с кафедры сказал небольшую вступительную речь. После него конференц-секретарь профессор Куницын прочитал отчет о ходе занятий лицеистов и основных началах их воспитания. В заключение князь Голицын вызывал воспитанников по списку, представлял каждого из них государю и вручал одним медали или похвальные листы, а другим – просто аттестаты.
Первую золотую медаль, оказалось, заслужил Вальховский, вторую – князь Горчаков, первую серебряную – Маслов, вторую – Есаков, третью – Кюхельбекер и четвертую – Ломоносов. Четверым другим: Корсакову, барону Корфу, Пущину и Саврасову – взамен медалей были присуждены похвальные листы. Из 17 воспитанников, назначавшихся в гражданскую службу, 9 человек вышло по 1-му разряду с чином титулярного советника и 8 – по 2-му с чином коллежского секретаря. Из 12 же воспитанников, выбравших военную карьеру, семеро было выпущено по 1-му разряду – в гвардию и пятеро по 2-му – в армию. В общем счету Пушкин оказался 19-м, а между «гражданскими чинами» 14-м. Тотчас за ним следовал Дельвиг.
– Сама судьба сделала меня твоим верным спутником и оруженосцем! – сказал он Пушкину, возвращаясь к нему от стола с аттестатом. – Покажи-ка, брат: как тебя расписали?
Пушкин подал ему свой аттестат.
– «Александр Пушкин… оказал успехи… – прочел про себя Дельвиг, – в Законе Божием и священной истории, в логике и нравственной философии, в праве естественном, частном и публичном, в российском, гражданском и уголовном праве – хорошие; в латинской словесности, в государственной экономии и финансах – весьма хорошие…» Что правда, то правда: ты первый у нас экономист и финансист!
– А как же, – отозвался шутя Пушкин. – Пристраивать деньги разве не умею?
– Еще бы, – согласился Дельвиг и продолжал читать: – «В российской и французской словесности, также и в фехтовании – превосходные…» По этим частям, конечно, тебе и книги в руки. «Сверх того…» Вот это лучше всего: «Сверх того, занимался историей, географией, статистикой, математикой, немецким языком…», стихоплетством и всякими дурачествами.
Последние слова Дельвиг скороговоркой добавил так неожиданно от себя, что товарищи кругом фыркнули, а стоявший около них дежурный гувернер ужаснулся.
– Помилуйте, господа! Что с вами?!
По счастью, внимание высоких гостей было в это время отвлечено от лицеистов, потому что, отпустив только что последнего из них, графа Броглио, князь Голицын стал представлять государю поочередно профессоров. Сказав каждому из них несколько ласковых слов, император встал, подошел к лицеистам и обратился к ним с отеческим увещеванием «не совращаться с пути добродетели и честности, если они желают быть счастливыми в жизни, и свято уважать всегда свои обязанности к Богу и отечеству».
– А теперь покажи-ка мне свой лицей, – обратился государь к Энгельгардту.
Тот немного оторопел.
– Я должен предупредить ваше величество, что воспитанники укладываются в дорогу и потому у нас везде беспорядок…
– Без этого нельзя, конечно. Но я сегодня не в гостях у тебя, а как хозяин хочу только посмотреть на сборы наших молодых людей.
С этими словами император направился прямо к выходу. Учитель пения, барон Теппер де Фергюсон, все время уже стоявший как на угольях, совсем растерялся. Дело в том, что Дельвиг, по настоянию Энгельгардта, действительно сочинил прощальный гимн, а Теппер положил этот гимн на музыку. И теперь-то, когда настала наконец минута его торжества, государь вдруг выходил из зала!
– Гимн, господа! – крикнул бедный учитель и отчаянно замахал обеими руками.