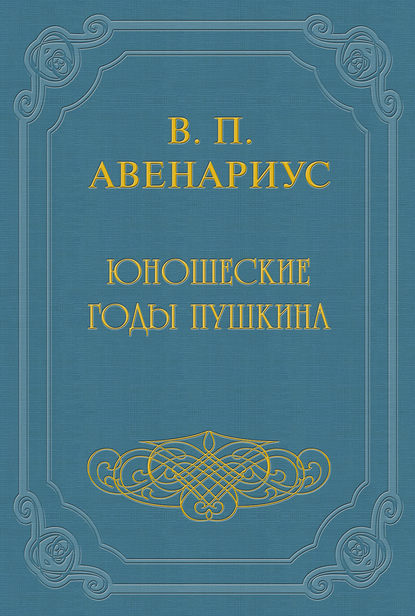По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Юношеские годы Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С виновных будет взыскано по вине их, – обратился Егор Антонович по-русски к караульщикам. – Вам же, любезные, лучше по-христиански простить им их обиду; а чтобы легче было забыть вам, так вот, возьмите от меня…
С этими словами, выдвинув ящик стола, он подал каждому по ассигнации. Когда те, бормоча слова благодарности, с поклонами выбрались вон, Броглио поспешил вслед за ними в прихожую.
– Погодите, братцы! – остановил он их и, достав из кармана изящный бисерный кошелек, вручил каждому еще по новенькому серебряному рублю. – Вот, выпейте за мое здоровье и не поминайте лихом.
Оба поклонились ему в пояс так низко, как не кланялись перед тем и директору.
– Покорнейше благодарим вашу милость! Добром только вспомянем.
Слух о «яблочной экспедиции», как верно предугадал Энгельгардт, действительно дошел до императора Александра Павловича. Но Энгельгардт на докладе сумел осветить дело с двух самых выгодных сторон: с одной стороны – как простую ребяческую проделку; с другой – как первую военную вылазку будущих воинов; а в заключение уверил, что виновные понесли уже заслуженную кару. Государь улыбнулся и оставил виновных без дальнейших взысканий.
Глава XXIV
Последние подвиги
…Эх, Дон Жуан,
Досадно, право. Вечные проказы!
А все не виноват…
«Каменный гость»
Так «яблочная экспедиция» втянула Пушкина снова в «гусарскую» полосу, и из-под пера у него стали выходить чересчур уж игривые куплеты, которые не одобрялись даже большинством его товарищей. Однажды, выслушав от него подобное «гусарское» стихотворение, князь Горчаков отвел поэта в сторону и дружески заметил ему, что такая поэзия, право, недостойна его прекрасного таланта. Пушкин надулся, будто рассердился, но потом тех стихов уже никому не показывал и, вообще, сделался на некоторое время осмотрительнее в выборе сюжетов.
Но благоразумия его хватило ненадолго; лихое «гусарство» взяло верх, и вскоре пришлось ему посчитаться с самими гусарами. Вращаясь теперь постоянно в их кругу, он, при своей тонкой наблюдательности, живо подметил слабости всякого из них, и вот в один прекрасный день в Царском Селе стала ходить по рукам стихотворная «Молитва лейб-гусарских офицеров». Хотя автор и не выставил под ней своего имени, но имя его передавалось устно вместе с пасквилем, и чем громче хохотали в городе над двумя-тремя офицерами, которым в нем более других досталось, тем ближе принимали к сердцу обиду оскорбленные. Один из них, Пашков, который попал в куплет за свой несоразмерно крупный нос, до того рассвирепел, что поклялся при первой же встрече до полусмерти избить «зубоскала»-лицеиста. На счастье свое, Пушкин в тех же стихах похвалил другого гусара, графа Завадовского, за его щедрость, и тот, польщенный, вдруг объявил, что стихи сочинены им, Завадовским.
– Тем хуже для вас, сударь! – накинулся на товарища Пашков. – С вами мы будем драться на жизнь и смерть.
– Я к вашим услугам, – холодно отвечал Завадовский, и ссора их не обошлась бы просто, если бы в дело не вступился командир гвардейского корпуса Васильчиков. Созвав к себе всех офицеров полка, он стал усовещевать двух противников и в конце концов кое-как успел примирить их между собою.
Гусар-повеса Каверин был также в числе серьезно обиженных и простил Пушкину не ранее, как получив от него стихотворное покаяние, начинающееся так:
Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи;
Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи…
Естественно, что между нашим поэтом и друзьями его, гусарами, произошло временное охлаждение. Тем усерднее начал Пушкин посещать теперь два знакомых семейных дома в Царском: учителя музыки и пения в лицее барона Теппера де Фергюсона и коменданта города графа Ожаровского. У первого каждый вечер собиралось к чаю общество любителей музыки и пения, а по воскресеньям и праздничным дням устраивались литературные беседы. Беседы эти заключались в чтении чужих и своих произведений и в сочинении экспромтом стихов на заданные темы. Нечего, кажется, говорить, что первое место между состязателями на этом поле принадлежало Пушкину. Из таких «экспромтных» стихотворений его сохранились два: французское и русское. Во французском каждый куплет заканчивался припевом: «jusqu'au plaisir de nous revoir», в русском – служила этим припевом любимая фраза одного из гостей Теппера: «с позволения сказать».
У графа Ожаровского Пушкин сталкивался и с некоторыми из лицейских профессоров. В числе их был также профессор русской словесности Кошанский, который, благодаря своей привлекательной внешности, своим изящным манерам, а еще более благодаря своей начитанности и искусной диалектике, играл в доме первенствующую роль. И что же? Он-то, мнение которого в литературных вопросах принималось здесь всеми как непреложный закон, – он оказался завзятым приверженцем «старого» слога и тем недоверчивее относился к стихам Пушкина, чем они были глаже.
– Гладко-с, что говорить, – отзывался он, пожимая плечами, – только ведь где гладко, там и раскатишься, поскользнешься, особливо коли еще многословием разбавлено, водицей полито.
Ответом на эти незаслуженные придирки было послание нашего поэта «Моему Аристарху»[53 - Аристарх Александрийский – ученый, критиковавший и исправлявший стихи Гомера.]. Перебелив стихи, Пушкин сам преподнес их профессору.
– Вот, Николай Федорыч, взгляните, пожалуйста: подражание греческому. Узнаете ли вы автора?
Кошанский отличался большим присутствием духа. На минуту только между бровями его показалась легкая складка. Прочитав стихи до конца, он так пристально взглянул в глаза юному автору, что тот должен был отвести взор.
– Греческий оригинал мне неизвестен, но русский автор хорошо знаком, – начал профессор. – Версификация ваша хоть куда; стихи и остроумны, и звучны; но с тем вместе в них все прежний недостаток: и по содержанию, и по форме они не в меру легковесны. Вы укоряете «вашего Аристарха» в ученой черствости:
Не нужны мне, поверь, уроки
Твоей учености сухой.
Я знаю сам свои пороки… —
а сами же вслед за тем признаете:
Конечно, беден гений мой:
За рифмой часто холостой,
Назло законам сочетанья,
Бегут трестопные толпой
На аю, ает и на ой.
Еще немногие признанья:
Я ставлю (кто же без греха?)
Для рифм и меры восклицанья,
Для смысла лишних три стиха;
Нехорошо, но оправданья
Позволь мне скромно принести.
Мои летучие посланья
В потомстве будут ли цвести?
Именно, «нехорошо», ибо вам, при вашем даровании, надо тщиться о том, чтобы они «цвели в потомстве». За одно люблю вас, Пушкин, – за вашу прямоту; как откровенно вы вручили мне сие послание, так же откровенно сознаетесь, что спустя рукава слагаете свои вирши:
Не думай, цензор мой угрюмый,
Что, ленью жертвуя стихам,
Объятый стихотворной думой,
Встаю… беснуюсь по ночам;
Что, засветив свою лампаду,
Едва дыша, нахмуря взор,
Сижу, сижу три ночи сряду
И высижу – трестопный вздор…
Стихи вам даются, очевидно, легче, чем всякому другому, но и поэзия – дело, которое мастера боится; таинство, к которому надо приступать осмотрительно и сознательно. А вы, любезнейший, как занимаетесь ею?
Уж утра яркое светило
Поля и рощи озарило;
Давно пропели петухи;
Вполглаза дремля – и зевая,
Шапеля в песнях призывая,
Пишу короткие стихи,
Среди приятного забвенья
Склонясь в подушку головой,
И в простоте, без украшенья,
Мои слагаю извиненья
Немного сонною рукой.
Ну, согласитесь, порядок ли это для записного поэта? Оттого вы, при всем таланте, ничего путного до сей поры не написали.
– Лень, Николай Федорыч, раньше нас родилась! – старался отшутиться Пушкин, которого доброжелательный тон профессора поневоле обезоружил.
– Надеюсь, что время вас от нее наконец излечит, – со вздохом сказал Кошанский. – За послание ваше во всяком случае благодарю и буквально сделаю то, что вы прописываете «вашему Аристарху»: