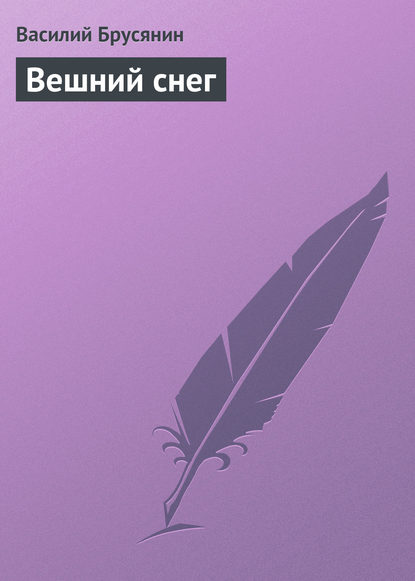По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вешний снег
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вешний снег
Василий Васильевич Брусянин
Ни живые – ни мёртвые
«Разделяя участь немногих неудачников, Разумовы вынуждены были жить в Шувалове на даче, несмотря на суровую зиму.
Нижний этаж дачного флигеля, где они жили, выходил террасой в крошечный садик, отгороженный от улицы дощатою изгородью; от узкой калитки к крыльцу вела неширокая тропинка, проложенная в сугробах снега…»
Василий Брусянин
Вешний снег
Разделяя участь немногих неудачников, Разумовы вынуждены были жить в Шувалове на даче, несмотря на суровую зиму.
Нижний этаж дачного флигеля, где они жили, выходил террасой в крошечный садик, отгороженный от улицы дощатою изгородью; от узкой калитки к крыльцу вела неширокая тропинка, проложенная в сугробах снега.
Кругом дачи в беспорядке стояли толстые берёзы с ноздреватой корой и тонкостволые сосны и ели, и в зимние вьюги в сетке их веток выл и стонал суровый ветер. Иногда ветки деревьев покрывались белым пушистым инеем, тонкой белесоватой пеленой застилались стены флигеля, терраса и крыльцо, – и тогда вся крошечная дачка походила на игрушечный фарфоровый домик…
Иногда, в ясный день, в окно их дачи засматривало солнышко, и его скупые на тепло лучи, пронизывая позеленевшие от времени стёкла окон, ложились на дешёвых обоях стен тусклыми четырёхугольниками. А когда солнышко пряталось за деревья сада, на обстановку ложились полутона света и теней.
Борис Николаевич как ребёнок радовался, когда светило солнышко и, сидя с книгой или газетой у широкой двери на террасу, не читал, а целыми часами смотрел на тёмно-голубое небо, с белыми тяжёлыми облаками, и следил за солнышком, которое с каждой минутой опускалось ниже и ниже и, погружаясь в кисею белых облаков, бледнело и, наконец, скрывалось.
Борис Николаевич откладывал в сторону книгу или газету, закуривал папиросу, поднимался со стула, тихо ступая по полу войлочными туфлями, проходил в столовую, смотрел на циферблат будильника и снова возвращался в зал, насупив брови и поминутно запахивая полы летнего пальто, заменявшего ему халат.
Простой металлический будильник был вторым предметом его внимания. Его тонкие, тёмные стрелки указывали, сколько осталось ещё длинных минут до момента возвращения из города Натальи Ивановны.
– Наташа! Наташа! Скоро ли ты вернёшься? – с тоской на душе спрашивал он сам себя, присаживаясь у стеклянной двери на террасу и снова глядя на улицу и поджидая, когда мимо изгороди промелькнёт тонкая и высокая фигура жены, в коротком жакете, отороченном серым барашком, и в серой барашковой шапочке.
А когда вернувшаяся из города Наташа стукнет калиткой, он сорвётся со своего места, быстро пройдёт в переднюю и, не дожидаясь звонка, распахнёт дверь и с улыбкой на счастливом лице непременно скажет:
– Озябла, дружок мой?.. Скорее раздевайся, обед давно ждёт тебя!..
Он поможет Наталье Ивановне раздеться, возьмёт её холодные руки в свои горячие ладони и прильнёт губами к её тонким пальцам, потом примется целовать её в губы, в щёки и в глаза.
Потом они садятся обедать, и Наталья Ивановна принимается сообщать мужу новости из политической, общественной или из городской жизни. В их редакцию большой петербургской газеты все эти новости попадают быстро, тотчас же обсуждаются среди сотрудников, и Наталья Ивановна всегда возвращается домой под впечатлением споров и разговоров на жгучие темы. Каждый почти день Наталья Ивановна привозит домой кипу книг, газет и журналов – и всё это для своего скучающего, выбитого из колеи жизни, мужа.
Вот уже три года Борис Николаевич не у дел, и за всё это время Наталья Ивановна ни одним словом, ни одним взглядом не давала понять мужу, что такая жизнь – ненормальна. В этом, впрочем, и не было нужды.
Борис Николаевич и сам прекрасно понимал, что жизнь, какую он ведёт, ненормальна, но что же он может сделать с собою, если воля его ослабла, энергия притупилась, и в нём упало и замерло всё живое, всё жизнедеятельное, что когда-то делало его энергичным, трудоспособным и даже отзывчивым к другим.
Теперь как будто и этой отзывчивости нет: он ушёл в себя, в свою затаённую злобу на кого-то, в своё разочарование, и мрачно стало на душе и пусто в сердце. Словно из него высосали все жизненные соки и чем-то отравили больной усталый мозг.
В глубине души он глубоко презирал себя, ни разу не смягчил этого презрения сожалением и состраданием к себе, а когда Наталья Ивановна принималась утешать мужа, говоря, что его «состояние» – временно, что это отдых после трудной скитальческой жизни, – он не верил жене и просил её не лгать ни пред собою, ни пред ним.
– Не говори этого, Наташа! Не успокаивай меня и не обманывай себя! Я пал окончательно и не поднимусь!.. Мне сорок лет! Сорок лет!.. Как это ужасно!.. Если бы мне было четыре года, я безумно счастливыми глазами смотрел бы на жизнь… а теперь – кончено… кончено…
Он в унынии замолкал, сжимая в пальцах окурок потухшей папиросы, потом поднимал глаза и тихим упавшим голосом продолжал:
– Верь мне, Наташа, если я не решаюсь покончить с собою, то только потому, что люблю тебя, и в этой любви сконцентрировались все мои радости… Всю жизнь преследовали меня неудачи, но я казался самому себе крепким и выносливым! Всю жизнь делал гадости и утешал себя, находя оправдание в чём-то, и всё моё поведение казалось мне безупречным… А тут вот случилось иначе. Встретился я с тобою – и надо бы начать новую жизнь, а струны-то во мне все ослабли, и душа измельчала… Помнишь, тот страшный-то случай!.. Ты, чистая и хорошая, указала мне на тот факт… Помнишь, дело Серебрякова… Я взял с него пять тысяч рублей и, зная, что он мерзавец и подлец, зная, что он во всём виноват, зная, что он обидел сирот Вязниковых, – я всё-таки обелил его… Я врал на суде, уверяя присяжных, что мой клиент чист и непорочен, и они, болваны, поверили мне и оправдали преступника… А ты, помнишь, тогда подошла ко мне, посмотрела на кучку кредиток, которые я принёс от Серебрякова, и ничего не сказала… только заплакала…
Он часто вспоминает эту сцену из их прошлого, и тогда он говорит тихим подавленным голосом, Наталья Ивановна с трудом сдерживает тяжёлые мучительные слёзы, а когда его голос дрогнет и оборвётся, – она припадёт к его груди и зарыдает.
Он нежным прикосновением рук поднимет её голову со своей груди, повернёт к себе её заплаканное лицо и примется её успокаивать, целуя её руки, лицо, волосы и шепча: «милая, дорогая… чистая!..»
После такой сцены они подолгу, обыкновенно, сидят молча, прижавшись друг к другу и тяжело дыша.
– Ты не суди меня, голубчик, и за то, что я потерял образ человеческий и пью… пью… целыми неделями… Но надо же чем-нибудь затуманить голову, надо же чем-нибудь заглушать совесть, а она проснулась во мне!.. Поздно проснулась, но всё-таки проснулась… Может быть, это состояние, действительно, временное, и я воспряну, обновлюсь и начну новую жизнь… Впрочем, нет! Не верь этому! Моя болезнь не временная, – я умру таким, с каким ты теперь мучаешься…
Последних слов Наталья Ивановна не могла слышать, и когда в отчаянии их произносил Борис Николаевич, – она закрывала ладонью его рот и с болью в душе шептала:
– Замолчи!.. Милый, дорогой! Не говори так! Не думай этого!..
И они снова долго сидели молча.
В окна их дачи уже не светило солнышко. Рано наступившие зимние сумерки густыми тенями окутали обстановку; за окнами в белых саванах снега стоят сосны и ели и, тихо покачивая верхушками, гудят и гудят…
* * *
Борис Николаевич и Наталья Ивановна впервые повстречались лет шесть тому назад, в провинции.
Он в это время занимался адвокатской практикой и не мог похвастаться обилием работы, несмотря на знакомства и связи с обывателями родного ему города. Немного замкнутый в себя, не словоохотливый и не пронырливый, Борис Николаевич не умел приобретать клиентов с той же быстротою, на которую были способны многие из его коллег. В местном окружном суде ему также почему-то не повезло, и только после десятилетней практики дела несколько улучшились.
Схоронив мать и выдав замуж сестру, зажил он одиноко и впервые почувствовал тяжесть одиночества, которое не всегда способны были сгладить условия провинциальной жизни.
Вся городская интеллигенция трудилась на разных поприщах, не замечая, как идут года, и как жизненные условия изменяют духовную жизнь каждого интеллигента, приближая его к идеалу обывателя.
За этой обывательщиной Борис Николаевич наблюдал зорко, боялся её, стараясь поддержать в себе иную закваску, с какой он вернулся в родной город из Петербурга, но пятнадцатилетний период оказался довольно вязкой трясиной, из которой не всякому суждено выбраться сохранившимся.
Незаметно забыл многое из прошлого и Борис Николаевич и, когда он повстречался с Натальей Ивановной, только тогда и оценил, в какой степени пыль и грязь обывательщины заглушали в нём ростки иных потребностей и запросов жизни; сообразно этому изменилась и его жизнь.
Наталья Ивановна, только что кончившая высшие курсы, приехала в провинцию с целью учительствовать. Тайным намерением её было ещё и желание познать провинцию, этого сфинкса, каким она представлялась молодой девушке, родившейся в Петербурге и выросшей в условиях столичной жизни.
Подчиняясь неодолимому тяготению к литературе, Наталья Ивановна, ещё будучи курсисткой, начала помещать в столичных газетах свои переводы, небольшие статейки и даже стихи, которые ей, впрочем, не удавались. Уезжая в провинцию, она утешала себя надеждою, что в условиях иной жизни почерпнётся новый материал, который она и намеревалась использовать в своих корреспонденциях и отчётах из провинциальной жизни.
Последнее ей вполне удалось, но как-то ненадолго: в гимназии, где она начала учительствовать, обрушился на неё ряд неожиданных бед, главным образом, благодаря несходству взглядов на обучение и воспитание девиц, которые были руководящими в деятельности молодой учительницы и которые признавались «несвоевременными и неприложимыми» со стороны гимназического начальства и большинства старых педагогов.
Всё своё разочарование Наталья Ивановна излила в своих корреспонденциях в одну из распространённых столичных газет, и это вызвало новую бурю, порвавшую связь «непокладистой» учительницы с гимназией.
Наталья Ивановна завелась частными уроками и в это время повстречалась с Борисом Николаевичем.
Наталье Ивановне быстро и без всякого труда удалось пробудить в Борисе Николаевиче бывшего интеллигента, вместе с тем, без стараний и намерений со своей стороны, она разбудила в нём и сердце.
Они быстро поняли друг друга, быстро сошлись и повенчались. Трудясь на разных поприщах, молодожёны одинаково пользовались своим досугом. Они внимательно следили за литературой и настроениями в обществе, старались быть полезными и для провинции, устраивая чтения и спектакли, организуя библиотеки и воскресные школы и классы.
Увлечённая своей работой, Наталья Ивановна не особенно вникала в условия адвокатской деятельности мужа и только совершенно случайно узнала эту «скрытую тайну», как она называла его деятельность.
В городе на глазах у всех разыгралась страшная семейная драма. Некто Серебряков, опекун малолетних сирот, так ловко запутал дело последних, что из опекунов сделался претендентом на опекаемое имущество. Когда Борису Николаевичу удалось защитить обвиняемого, преступность которого не вызывала сомнения в глазах местного общества, – его коллеги завидовали успеху до сих пор не особенно заметного адвоката, но зато в обществе все в один голос обвиняли Бориса Николаевича, упрекая его пятитысячным гонораром, полученным за ведение дела.
Борис Николаевич первый раз с тревогою прислушивался к мнению общества, и это пробудило в нём критику. Ему легко удалось припомнить и ещё такие же случаи из практики, когда удавалось реабилитировать заведомо преступных клиентов или смягчить их участь. Правда, на его памяти были и такие дела, в которых он явился действительно защитником напрасно осуждаемых, но таких дел было немного, да и велико ли ещё это добро по сравнению с тем злом, какое он совершил, удачно защитив Серебрякова?
Василий Васильевич Брусянин
Ни живые – ни мёртвые
«Разделяя участь немногих неудачников, Разумовы вынуждены были жить в Шувалове на даче, несмотря на суровую зиму.
Нижний этаж дачного флигеля, где они жили, выходил террасой в крошечный садик, отгороженный от улицы дощатою изгородью; от узкой калитки к крыльцу вела неширокая тропинка, проложенная в сугробах снега…»
Василий Брусянин
Вешний снег
Разделяя участь немногих неудачников, Разумовы вынуждены были жить в Шувалове на даче, несмотря на суровую зиму.
Нижний этаж дачного флигеля, где они жили, выходил террасой в крошечный садик, отгороженный от улицы дощатою изгородью; от узкой калитки к крыльцу вела неширокая тропинка, проложенная в сугробах снега.
Кругом дачи в беспорядке стояли толстые берёзы с ноздреватой корой и тонкостволые сосны и ели, и в зимние вьюги в сетке их веток выл и стонал суровый ветер. Иногда ветки деревьев покрывались белым пушистым инеем, тонкой белесоватой пеленой застилались стены флигеля, терраса и крыльцо, – и тогда вся крошечная дачка походила на игрушечный фарфоровый домик…
Иногда, в ясный день, в окно их дачи засматривало солнышко, и его скупые на тепло лучи, пронизывая позеленевшие от времени стёкла окон, ложились на дешёвых обоях стен тусклыми четырёхугольниками. А когда солнышко пряталось за деревья сада, на обстановку ложились полутона света и теней.
Борис Николаевич как ребёнок радовался, когда светило солнышко и, сидя с книгой или газетой у широкой двери на террасу, не читал, а целыми часами смотрел на тёмно-голубое небо, с белыми тяжёлыми облаками, и следил за солнышком, которое с каждой минутой опускалось ниже и ниже и, погружаясь в кисею белых облаков, бледнело и, наконец, скрывалось.
Борис Николаевич откладывал в сторону книгу или газету, закуривал папиросу, поднимался со стула, тихо ступая по полу войлочными туфлями, проходил в столовую, смотрел на циферблат будильника и снова возвращался в зал, насупив брови и поминутно запахивая полы летнего пальто, заменявшего ему халат.
Простой металлический будильник был вторым предметом его внимания. Его тонкие, тёмные стрелки указывали, сколько осталось ещё длинных минут до момента возвращения из города Натальи Ивановны.
– Наташа! Наташа! Скоро ли ты вернёшься? – с тоской на душе спрашивал он сам себя, присаживаясь у стеклянной двери на террасу и снова глядя на улицу и поджидая, когда мимо изгороди промелькнёт тонкая и высокая фигура жены, в коротком жакете, отороченном серым барашком, и в серой барашковой шапочке.
А когда вернувшаяся из города Наташа стукнет калиткой, он сорвётся со своего места, быстро пройдёт в переднюю и, не дожидаясь звонка, распахнёт дверь и с улыбкой на счастливом лице непременно скажет:
– Озябла, дружок мой?.. Скорее раздевайся, обед давно ждёт тебя!..
Он поможет Наталье Ивановне раздеться, возьмёт её холодные руки в свои горячие ладони и прильнёт губами к её тонким пальцам, потом примется целовать её в губы, в щёки и в глаза.
Потом они садятся обедать, и Наталья Ивановна принимается сообщать мужу новости из политической, общественной или из городской жизни. В их редакцию большой петербургской газеты все эти новости попадают быстро, тотчас же обсуждаются среди сотрудников, и Наталья Ивановна всегда возвращается домой под впечатлением споров и разговоров на жгучие темы. Каждый почти день Наталья Ивановна привозит домой кипу книг, газет и журналов – и всё это для своего скучающего, выбитого из колеи жизни, мужа.
Вот уже три года Борис Николаевич не у дел, и за всё это время Наталья Ивановна ни одним словом, ни одним взглядом не давала понять мужу, что такая жизнь – ненормальна. В этом, впрочем, и не было нужды.
Борис Николаевич и сам прекрасно понимал, что жизнь, какую он ведёт, ненормальна, но что же он может сделать с собою, если воля его ослабла, энергия притупилась, и в нём упало и замерло всё живое, всё жизнедеятельное, что когда-то делало его энергичным, трудоспособным и даже отзывчивым к другим.
Теперь как будто и этой отзывчивости нет: он ушёл в себя, в свою затаённую злобу на кого-то, в своё разочарование, и мрачно стало на душе и пусто в сердце. Словно из него высосали все жизненные соки и чем-то отравили больной усталый мозг.
В глубине души он глубоко презирал себя, ни разу не смягчил этого презрения сожалением и состраданием к себе, а когда Наталья Ивановна принималась утешать мужа, говоря, что его «состояние» – временно, что это отдых после трудной скитальческой жизни, – он не верил жене и просил её не лгать ни пред собою, ни пред ним.
– Не говори этого, Наташа! Не успокаивай меня и не обманывай себя! Я пал окончательно и не поднимусь!.. Мне сорок лет! Сорок лет!.. Как это ужасно!.. Если бы мне было четыре года, я безумно счастливыми глазами смотрел бы на жизнь… а теперь – кончено… кончено…
Он в унынии замолкал, сжимая в пальцах окурок потухшей папиросы, потом поднимал глаза и тихим упавшим голосом продолжал:
– Верь мне, Наташа, если я не решаюсь покончить с собою, то только потому, что люблю тебя, и в этой любви сконцентрировались все мои радости… Всю жизнь преследовали меня неудачи, но я казался самому себе крепким и выносливым! Всю жизнь делал гадости и утешал себя, находя оправдание в чём-то, и всё моё поведение казалось мне безупречным… А тут вот случилось иначе. Встретился я с тобою – и надо бы начать новую жизнь, а струны-то во мне все ослабли, и душа измельчала… Помнишь, тот страшный-то случай!.. Ты, чистая и хорошая, указала мне на тот факт… Помнишь, дело Серебрякова… Я взял с него пять тысяч рублей и, зная, что он мерзавец и подлец, зная, что он во всём виноват, зная, что он обидел сирот Вязниковых, – я всё-таки обелил его… Я врал на суде, уверяя присяжных, что мой клиент чист и непорочен, и они, болваны, поверили мне и оправдали преступника… А ты, помнишь, тогда подошла ко мне, посмотрела на кучку кредиток, которые я принёс от Серебрякова, и ничего не сказала… только заплакала…
Он часто вспоминает эту сцену из их прошлого, и тогда он говорит тихим подавленным голосом, Наталья Ивановна с трудом сдерживает тяжёлые мучительные слёзы, а когда его голос дрогнет и оборвётся, – она припадёт к его груди и зарыдает.
Он нежным прикосновением рук поднимет её голову со своей груди, повернёт к себе её заплаканное лицо и примется её успокаивать, целуя её руки, лицо, волосы и шепча: «милая, дорогая… чистая!..»
После такой сцены они подолгу, обыкновенно, сидят молча, прижавшись друг к другу и тяжело дыша.
– Ты не суди меня, голубчик, и за то, что я потерял образ человеческий и пью… пью… целыми неделями… Но надо же чем-нибудь затуманить голову, надо же чем-нибудь заглушать совесть, а она проснулась во мне!.. Поздно проснулась, но всё-таки проснулась… Может быть, это состояние, действительно, временное, и я воспряну, обновлюсь и начну новую жизнь… Впрочем, нет! Не верь этому! Моя болезнь не временная, – я умру таким, с каким ты теперь мучаешься…
Последних слов Наталья Ивановна не могла слышать, и когда в отчаянии их произносил Борис Николаевич, – она закрывала ладонью его рот и с болью в душе шептала:
– Замолчи!.. Милый, дорогой! Не говори так! Не думай этого!..
И они снова долго сидели молча.
В окна их дачи уже не светило солнышко. Рано наступившие зимние сумерки густыми тенями окутали обстановку; за окнами в белых саванах снега стоят сосны и ели и, тихо покачивая верхушками, гудят и гудят…
* * *
Борис Николаевич и Наталья Ивановна впервые повстречались лет шесть тому назад, в провинции.
Он в это время занимался адвокатской практикой и не мог похвастаться обилием работы, несмотря на знакомства и связи с обывателями родного ему города. Немного замкнутый в себя, не словоохотливый и не пронырливый, Борис Николаевич не умел приобретать клиентов с той же быстротою, на которую были способны многие из его коллег. В местном окружном суде ему также почему-то не повезло, и только после десятилетней практики дела несколько улучшились.
Схоронив мать и выдав замуж сестру, зажил он одиноко и впервые почувствовал тяжесть одиночества, которое не всегда способны были сгладить условия провинциальной жизни.
Вся городская интеллигенция трудилась на разных поприщах, не замечая, как идут года, и как жизненные условия изменяют духовную жизнь каждого интеллигента, приближая его к идеалу обывателя.
За этой обывательщиной Борис Николаевич наблюдал зорко, боялся её, стараясь поддержать в себе иную закваску, с какой он вернулся в родной город из Петербурга, но пятнадцатилетний период оказался довольно вязкой трясиной, из которой не всякому суждено выбраться сохранившимся.
Незаметно забыл многое из прошлого и Борис Николаевич и, когда он повстречался с Натальей Ивановной, только тогда и оценил, в какой степени пыль и грязь обывательщины заглушали в нём ростки иных потребностей и запросов жизни; сообразно этому изменилась и его жизнь.
Наталья Ивановна, только что кончившая высшие курсы, приехала в провинцию с целью учительствовать. Тайным намерением её было ещё и желание познать провинцию, этого сфинкса, каким она представлялась молодой девушке, родившейся в Петербурге и выросшей в условиях столичной жизни.
Подчиняясь неодолимому тяготению к литературе, Наталья Ивановна, ещё будучи курсисткой, начала помещать в столичных газетах свои переводы, небольшие статейки и даже стихи, которые ей, впрочем, не удавались. Уезжая в провинцию, она утешала себя надеждою, что в условиях иной жизни почерпнётся новый материал, который она и намеревалась использовать в своих корреспонденциях и отчётах из провинциальной жизни.
Последнее ей вполне удалось, но как-то ненадолго: в гимназии, где она начала учительствовать, обрушился на неё ряд неожиданных бед, главным образом, благодаря несходству взглядов на обучение и воспитание девиц, которые были руководящими в деятельности молодой учительницы и которые признавались «несвоевременными и неприложимыми» со стороны гимназического начальства и большинства старых педагогов.
Всё своё разочарование Наталья Ивановна излила в своих корреспонденциях в одну из распространённых столичных газет, и это вызвало новую бурю, порвавшую связь «непокладистой» учительницы с гимназией.
Наталья Ивановна завелась частными уроками и в это время повстречалась с Борисом Николаевичем.
Наталье Ивановне быстро и без всякого труда удалось пробудить в Борисе Николаевиче бывшего интеллигента, вместе с тем, без стараний и намерений со своей стороны, она разбудила в нём и сердце.
Они быстро поняли друг друга, быстро сошлись и повенчались. Трудясь на разных поприщах, молодожёны одинаково пользовались своим досугом. Они внимательно следили за литературой и настроениями в обществе, старались быть полезными и для провинции, устраивая чтения и спектакли, организуя библиотеки и воскресные школы и классы.
Увлечённая своей работой, Наталья Ивановна не особенно вникала в условия адвокатской деятельности мужа и только совершенно случайно узнала эту «скрытую тайну», как она называла его деятельность.
В городе на глазах у всех разыгралась страшная семейная драма. Некто Серебряков, опекун малолетних сирот, так ловко запутал дело последних, что из опекунов сделался претендентом на опекаемое имущество. Когда Борису Николаевичу удалось защитить обвиняемого, преступность которого не вызывала сомнения в глазах местного общества, – его коллеги завидовали успеху до сих пор не особенно заметного адвоката, но зато в обществе все в один голос обвиняли Бориса Николаевича, упрекая его пятитысячным гонораром, полученным за ведение дела.
Борис Николаевич первый раз с тревогою прислушивался к мнению общества, и это пробудило в нём критику. Ему легко удалось припомнить и ещё такие же случаи из практики, когда удавалось реабилитировать заведомо преступных клиентов или смягчить их участь. Правда, на его памяти были и такие дела, в которых он явился действительно защитником напрасно осуждаемых, но таких дел было немного, да и велико ли ещё это добро по сравнению с тем злом, какое он совершил, удачно защитив Серебрякова?