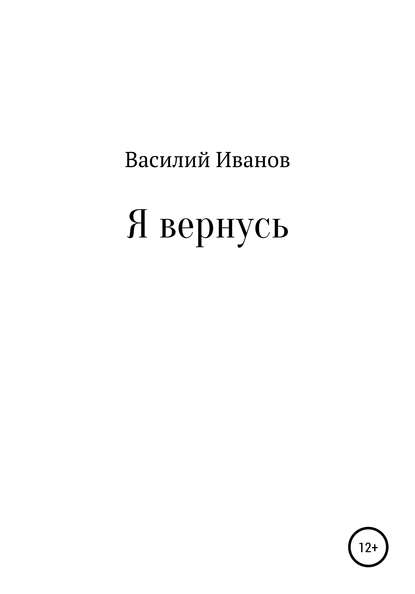По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я вернусь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это была последняя неделя августа, кажется. Было очень жарко. Градусов тридцать пять по Цельсию. Я стоял в охранении на пару с товарищем, татарином по национальности, воевавшим чуть ли не с самого начала войны от самой Москвы и до Берлина. Уже перевалило за полдень, ветер стих и казалось, что вся улица замерла в немой неге. Внезапно улица взорвалась треском мотоциклетки.
За рулем как-то очень прямо сидел автоматчик НКВД, а офицер из коляски прокричал: «Правительство пешком идет!». Честное слово, хотя мы итак не расслаблялись, но стали еще прямее, а выправка была такая, что могли бы позавидовать и гвардейские знаменоносцы. Мы даже не поняли конкретно, какое именно начальство, но шестым чувством поняли – идут очень важные персоны.
Мотоцикл укатил дальше, но следом никто из обслуги и охраны не появился, просто раздался шум шагов, негромкие разговоры и…из-за тополей показались фигуры руководителей Советского Союза.
Вначале шел Сталин. Я затаил дыхание, но старался стоять прямо и смотреть строго перед собой. Верховный Главнокомандующий шел не торопясь, одет был в белый генеральский китель, синие штаны, в руке держал генеральскую фуражку. Он что-то негромко говорил идущему за ним Молотову, тот кивал, но, заглядывая в потрепанную книжечку типа блокнота, упорно на чем-то настаивал.
Сталин хмурился и продолжал говорить вполголоса.
Каким он был? Спустя столько лет, всякий раз, когда меня спрашивали об этом, я припоминанию в первую очередь его глаза. Глаза великого человека. Усталые и умные. Внимательные и пронзительные. А вот знаменитой трубки не было, да это и понятно – не тот возраст, чтоб идти и курить на ходу. И оспин не было! Это удивило меня больше всего, потому что все остальное так или иначе было ожидаемо, а вот отсутствие шрамов стало немного обескураживающим, ну вроде как солнце встало не желтое, а синее. Вообще я волновался настолько, что чуть автомат из рук не выронил. Нам сказали каблуками щелкать, когда руководство поравняется, а у меня дыханье сперло.
Узнал я еще нескольких человек – Берию, например, Жукова, Микояна, Маленкова, Молотова, Ворошилова. Наркомвнудел, кстати, являлся моим официальным начальником, ведь моя рота, пройдя через все инстанции и иерархию НКВД, в конечном итоге выполняла распоряжения Лаврентия Павловича. Берия был одет неофициально и довольно, на мой взгляд, легкомысленно – светлые брюки, зеленая безрукавка с расстегнутым воротом, пенсне. Каганович рослый такой мужик, красивый. Маленков в белом кителе и калифе, немного подшофе, вроде бы. Ворошилов был в белом генеральском мундире, лицо веселое, головой вертел.
Большая часть идущих шла слитно, одной толпой, человек шестьдесят. Только Сталин с Молотовым шли отдельно, как бы авангардом, генералы позади. А Жуков после всех, со всеми регалиями, с суровым лицом, как будто опять разрабатывал какой-то военный план.
Все мои сослуживцы и я, в том числе, вытянулись в струнку. Руководство прошли мимо. Проходя мимо нас, Сталин, который держал в одной руке головной убор, повернул к нам лицо и помахал свободной рукой. Я козырнул вождю привычным жестом и в эту минуту с огромной благодарностью вспомнил всю изводившую нас муштру. Не будь этих сотен часов на плацу, смог ли бы я достойно отдать честь генералиссимусу? Наверное, нет…
Удивило меня то, что наше правительство шло пешком, а не ехало на машинах, и почти без всякой охраны. Глядя на то, как чиновник или бизнесмен средней руки в нынешнее время окружает себя стеной охранников, я вспоминаю Сталина, идущего пешком…
Так прошло самое главное событие, произошедшее во время моего почетного караула.
Сослуживцы, которым не довелось увидеть живого Сталина, шутили над нами, призывая не мыть отныне лицо, раз на него Вождь смотрел. Вот, если бы Иосиф Виссарионович пожал мне руку, я бы точно ее с тех пор не мыл. Все-таки это событие стало для меня одним из самых памятных за всю жизнь.
Все остальное, что проходило в это время в Потсдаме и Нюрнберге, нам рассказывал знакомый лейтенант-связист – о том, как судили нацистов, какие вопросы задавали, какие приговоры вынесли. Главным свидетелем обвинения с нашей стороны Паулюс был, он через коридор от нашего караульного помещения жил. При нем всегда охрана – майор и капитан из МГБ.
На суде, как говорят, нацисты юлили изо всех сил, валили все грехи на Гитлера и Геббельса, Йодль с Кейтелем вообще обычными офицерами притворялись, мол, они всего лишь приказы выполняли. Помню, вся наша рота обрадовалась тому, что Риббентропа и ещё 12 человек приговорили к виселице, так как была вероятность того, что его одним из разжигателей войны не признают и оправдают.
А у нас его сильно не любили, а я особенно, видимо, из-за предательски нарушенного пакта.
Глава 2. Коммунист
Я прошел всю войну комсомольцем. В 1946 году я был избран делегатом Первой комсомольской конференции оккупационных войск в Лейпциге. Там выступал сам маршал Георгий Константинович Жуков. В жизни он был немногословен, а вот зажигательные речи говорить умел, ничего тут не скажешь.
Помню, выступил он тогда очень эмоционально, воодушевленно. Так мог говорить только убежденный человек. Жуков призывал нас, комсомольцев стать достойной сменой погибшему на фронте миллионной армии коммунистов.
«В 1917 году Запад вздрогнул. Призрак бродит по Европе, говорили буржуа, призрак коммунизма. А сейчас сам коммунизм в нашем лице находится в центре Европы, а не какой-то призрак!» Он не приказывал, а призывал нас вступить в коммунистическую партию Советского Союза и строить светлое будущее нашей общей родины, в которое мы верили. Сроки, он считал, для этого нужны довольно скромные, с нашими-то силами – каких-то пятнадцать лет.
Оглядываясь назад, я вспоминаю лица товарищей, которые слушали эту речь, внимая всем сердцем. Слова маршала находили отклик в каждом молодом сердце. А нас было много, мы были сильны, мы победили фашистов и думали о будущем.
Коммунизм пропагандировал светлые, самые гуманные идеи. Я думаю, что, если бы не Хрущев, мы бы и сейчас жили в Советском Союзе – величайшей стране, на которую сейчас нагромождено так много вранья, что слушать тошно.
Не так все было…
В 1946 году, подавая заявление в кандидаты в члены ВКП(Б), я верил в ее идеалы, как верю по сей день. Подал я заявление 1 ноября. В декабре меня по трем рекомендациям приняли в кандидаты. А потом было само принятие в члены партии.
Мы стояли в то время на охране Нюрнбергского процесса. Помню, было открытие какого-то памятника. Потом нас погрузили в небольшой автобус, французский, желтенький как цыпленок, и повезли к Бранденбургским воротам, находившимся тогда во французской зоне Берлина. Там прямо на улице стоял стол рядом с Красным знаменем. Стояли Жуков и Телегин, другие генералы. Перед ними шеренга бойцов и командиров, принимаемых в коммунисты.
Мы по очереди походили к ним, целовали, преклонив колено, Красное Знамя, потом Телегин вручал нам партбилеты, а Жуков жал руку. Рука у маршала была большой, крестьянская, рукопожатие крепким. Разве мог я когда-нибудь после этого предать партию, отказаться от идеалов коммунизма. Не имел права.
Коммунисты тех времен и горбачевских – совершенно разные люди. Во времена Горбачева идеи партии были переиначены. Исчезли цитаты Ленина. Коммунизм превратили в фарс. Разве это не подсудное дело?
Я же, дававший присягу Телегину и Жукову в захваченном Берлине, не могу предать партию и ее идеалы даже сегодня, когда мне уже восемьдесят семь лет. Я верю, что во второй половине двадцать первого века мир станет социалистическим. К этому все идет. Вы молодые, может, еще это и увидите…
Глава 3. Чекист
Еще три с половиной года после войны я оставался в Берлине, нес охрану, помогал наводить порядок. Но все когда-нибудь кончается, кончался и послевоенный бардак в армии. Вызвал меня как-то раз мой подполковник Жванецкий:
–– Василий, у тебя же никакой специальности! Как тебя оставить на службе прикажешь? Непорядок.
Призывников в то время массово демобилизовали, оставляли только кадровую часть.
Все-таки пожалел меня и определил в спецшколу МГБ. Так меня завербовали. Не скажу, что против воли. Мне хотелось служить во благо родины и после окончания войны. Домой пока возвращаться не думал. Послужу еще, полагал про себя.
Учился я хорошо, хотя по-русски писал неважно. Двухгодичные командирские курсы проходили две сотни курсантов, среди них из якутов я был один.
Помню, возили нас на практику в Татарстан. Практикантов было трое. Всем нам изменили имена, выдали документы. Там, говорили, до сих пор орудуют басмачи.
До отъезда мы три месяца учили татарский и башкирский языки. Овладеть ими в совершенстве было сложно, поэтому и история у нас была «оправдывающая» этот момент. Я говорил, что татарин по национальности, но воспитывался в детдоме в глубине России, потому свой родной язык знаю плохо. Из Татарстана мы писали письма своим «близким», сообщая свои наблюдения о настроении людей, о чем они говорят, как относятся к Советской власти.
Жили мы в разных аулах, работали в местных колхозах как полноценные обычные работники. Мне, деревенскому парню, было не привыкать к тяжелому труду. С лошадьми, упряжью управлялся хорошо. Зарплаты не было, работали за трудодни. Были мы, как будто бы студенты, проходящие практику в селе.
В этот период я хорошо узнал уклад жизни в Татарстане. Лошади у них были намного крупнее, чем наши сылгы. А сам быт не сильно походил на якутский. Ели они, как и мы, жеребятину, кроме нее еще баранину, говядину, а вот свинины не употребляли совсем. Понравилась мне татарская лепешка. Хоть я и большой патриот своей Якутии, но лепешки у них вкуснее, чем наши.
Вот сама служба в Татарстане мне не понравилась. Очень много приходилось трудиться физически, а еще и скрываться, притворяясь не собой, кроме этого нужно было постоянно и ухо держать востро, запоминать, передавать, сообщать…
По возвращении с практики меня отправили служить на пограничную заставу на советско-польской границе. Это было тоже в качестве практики. На границе служилось проще, чем в Татарстане. Трудно все-таки искать врагов в мирном населении. Гораздо проще, когда враг перед тобой на фронте, а не в тылу.
Глава 4. Врачебный вердикт
Мне почему-то на протяжении всей жизни не везло с врачами. Сначала не мог пройти комиссию, чтобы попасть на фронт, потом во время войны «воевал» с врачами в госпиталях, постоянно желавших меня демобилизовать по состоянию здоровья. Мне всю жизнь говорили, что у меня слабое здоровье, что я не выдержу испытаний, что я больше обуза. Вот уже мне восемьдесят семь лет, а врачей, сетовавших на мое здоровье уж и на свете нет…
По возвращении с границы я продолжил обучение в спецшколе, даже был избран старшим в своей группе. В 1948 году в апреле мы съездили в Лейпциг, побывали там в цирке, зоопарке, нас знакомили с местными нравами и обычаями. Обратно вернулись на поезде до железнодорожного вокзала.
От него до нашей заставы было полтора километра. Было необычно жарко для апреля. Стоял практически летний день. Указанное расстояние мы протопали пешком. Идти предстояло мимо бассейна, который обычно пустовал. А в тот день, оказалось, его наполнили водой из артезианского источника. Мы остановились, попили воды, умылись. Кто-то предложил искупаться. Мы и окунулись. Вода была холодной, что аж кости свело. Все-таки весна – не лето! Купание не пошло мне на пользу. Ночью я проснулся от того, что меня лихорадило. Все тело горело, ломило кости. Еще со времен Днепра у меня было воспаление легких, и с этими симптомами я был хорошо знаком.
Пошел в медпункт, сообщив дежурному. Там капитан со звучной фамилией Мировой измерил мне температуру. Сорок! Направили в санчасть. Госпиталь у нас с комендатурой и пограничниками был общий. Пролежал я там два дня с жаром, даже не помню, как меня лечили. Потом пошел на поправку, начал кашлять, отхаркивать, освобождая воспаленные легкие от накопившейся слизи…
Но тут меня и поджидало несчастье. Я привлек внимание врачебной комиссии. Начав копаться в моем здоровье, эскулапы обратили внимание на следующие факты: что один глаз у меня практически не видит, одно ухо плохо слышит, что я был дважды контужен, плохо функционирует рука, в которой застряли осколки немецкой гранаты.
–– Как вы такому товарищу оружие доверили? – вопрошали врачи, качая головами. Вышел я по-ихнему инвалид второй группы, негодный к службе! Четыре месяца мне оставалось до окончания спецкурсов! Всего четыре! Не знаю, как сложилась бы после этого моя судьба, но тогда мне было обидно быть списанным. Угораздило же меня искупаться в этом злополучном фонтане!
Глава 5. Коханая
Как узнал я о том, что меня демобилизуют, телеграфировал своей девушке, которой обзавелся во время военных действий в Украине. Звали ее Евдокия Харченко. В 1943 году наши части стояли на их хуторе в Запорожье. Она была на два года младше меня. Сошлись, в 1944 году Дуняша родила мне дочку.
Все время их помнил, после Потсдамской конференции нам дали десять дней отпуска. Успеть за это время съездить на родину я бы не смог, туда месяцы добираться. Поехал в Запорожье, к своей коханой. Провел семь дней с ней и дочкой.
Родители Дуняши хотели нас в тот раз обвенчать, но я уже был зачислен кандидатом в члены партии, потому отказался. Не стал старикам говорить прямо, чтобы не обидеть.