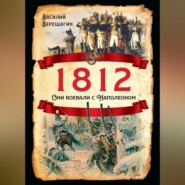По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литератор
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У Сергея была контужена голова, задета грудь, а главное, сильно ранено бедро: пуля, пройдя на большом пространстве мягкое место, вышла, затащив в рану куски белья и платья[21 - У Сергея… ранено бедро… куски белья… – Описание раны героя соответствует характеру ранения, полученного самим В. В. Верещагиным на Шипке. Об этом рассказывается в «Очерках, набросках, воспоминаниях».].
За месяц перед тем у него была уже пробита рука и контужена голова, – контужена так сильно, что он упал тогда с лошади. Рана на руке успела зажить и только от небрежности и нерегулярности перевязок грануляции разрослись и образовали по краям дикое мясо. Относительно головы доктора затруднялись сказать, новая ли была контузия теперь или отклик старой, вызванный потрясением.
Рана в грудь была неопасна, почти под мышкою правой руки, и должна была скоро зажить. С бедром, напротив, дело обстояло хуже, – кость оказалась затронутою.
– Разрежьте рану, – советовал докторам госпиталя профессор Ликасовский, сдержавший свое обещание и посетивший «красивого блондина», – разрежьте, промойте и давайте ему больше хинина; это субъект нервный, у него будет лихорадка.
Доктора: старший – австриец, младший – пруссак, не захотели последовать этому совету и решили, что можно обойтись без операции, небезопасной ввиду того, что больной перестал принимать пищу и слаб. Что касается хинина, то, – так как лихорадки почти не было, да и вообще эта болезнь держалась в Бухаресте лишь в легкой форме, – решили повременить с приемом его.
Во время дорожной тряски в ужасной больничной повозке, будто придуманной специально для вытряхивания душ из больных, лихорадка начала было беспокоить обоих раненых, но по прибытии в госпиталь, в сравнительную прохладу, чистоту и довольство, она их покинула. Скоро, однако, не трогая казака, эта болезнь снова начала поигрывать с Сергеем, потому что у него ежедневно таскали из раны загнившие клочья белья и платья, затащенные в рану пулею: он зеленел, стискивал зубы, чтобы не кричать, но маленькая операция всегда вызывала усиленное биение пульса и возвышенную температуру, т. е. нагоняла лихорадочное состояние.
Немалым неудобством для Верховцева было то, что он должен был выносить беспрерывные посещения приятелей его товарища по несчастию, раненного легко и потому охотно болтавшего со своими бесчисленными знакомыми обо всем, что делалось в армии и дома, т. е. на Кавказе.
Один такой приятель, «из молодых ранний», есаул, был едва ли не самый надоедливый. Не будучи раненным, он ухитрился получить отпуск для поправления здоровья, упавши с лошади так ловко, что лишь помял себе плечо, и, не стесняясь, рассказывал, как он надеялся с этим изъяном поправляться на Кавказе до конца «проклятой Плевны», т. е. до того времени, когда служба в строю сделается менее беспокойною и опасною.
Теперь он был в поисках доктора, который дал бы ему свидетельство о том, что повреждение плеча было серьезно; он забыл позаботиться на той стороне Дуная об этой, необходимой для будущего, бумажке.
Раненые указали ему на госпитальных, по-видимому, хороших докторов, но бравый есаул воротился от них в негодовании: «Какие же это доктора, помилуй, Иван Степаныч, – говорил он товарищу, – нашел к кому послать! Я понял, что они толкуют: говорят, у вас вывиха вовсе нет, а есть ушиб, пустяки. Если это не вывих, так какого же им еще вывиха?»
После нескольких дней поисков есаул воротился сияющий и, показывая свидетельство на французском языке, рассыпался в похвалах отысканному румынскому лекарю: «Вот доктор так доктор, этот понимает дело!» В бумаге было сказано, что «есаул такой-то, на всем скаку упавши с лошади, совершенно вывихнул плечо, чем надолго сделался неспособным садиться в седло и двигать рукой, требовавшей серьезного лечения». Очевидно, но этой бумаге не только следовало сейчас же с легким сердцем ехать домой на поправку, но и можно, даже должно было рассчитывать впереди на пенсию от комитета о раненых.
Вообще, к слову сказать, Сергей убедился, что казаки были совсем отличное от других войско, с понятием о храбрости тоже особенным. Суворовское правило: «бить неприятеля, а не считать» было для большинства их совершенно неправильно. Они, напротив, находили необходимым всегда сначала пересчитать врагов, а потом смекнуть, можно ли ударить? Коли казачьей силы больше, – бей, руби, круши! А коли, напротив, неприятель сильнее, – утекай! Не в пример солдату, казак не стеснится рассказать о том, как в таком-то деле они улепетывали – почему, зачем? Очень просто, потому что неприятеля было больше, и казак всегда сочтет за глупость лезть на сильнейшего или стоять в строю под выстрелами, теряя людей и лошадей. «За каждого человека, за каждую лошадь, – скажет полковой командир, – я должен буду дать ответ своим; как ворочусь домой, вдова убитого спросит: „Куда ты девал моего Григория?“» Логика неотразимая, имеющая свои достоинства и свои недостатки.
Вне этих посещений Сергею было не легче от самого милого раненого казачка, от его постоянных расспросов о том, скоро ли заключат мир и можно ли надеяться вскоре ухать домой под Ставрополь, где у него была молодая жена и семья; о том, как удобнее пересылать домой деньги, особенно золото, и, главное, на какую награду бравый сотник может рассчитывать. О «Станиславке» он и слышать не хотел, одна мысль о нем приводила казака в негодование; для «Аннушки» тоже не стоило трудиться, а «Владимира» не дадут, как, пожалуй, не дадут и «золотого оружия».
– А? как вы думаете, Сергей Иванович? Должно быть, третьей «Аннушкой» наградят, как вы полагаете, а?
Сергей должен был серьезно, со всех сторон, обсуждать вопрос и соглашался, что, пожалуй, ни «Владимира», ни георгиевского темляка не выйдет и дальше «Аннушки» дело не пойдет.
– Если бы была справедливость, меня следовало бы представить к «Георгию», – говорил сотник, нервно привставая на постели и упираясь глазами в соседа. – Ведь мы прогнали, смяли турок, наша ли вина, что нас отозвали, а?.. Сергей Иванович, ведь следовало бы мне «Георгия»?
Сергей, чтобы не отвечать категорически на такой щекотливый вопрос, иногда притворялся дремлющим, а один раз отвечал, что следует справиться со статутом ордена.
– Что штатут, какой тут штатут? – говорил с сердцем казак. – Справедливости у нас нет, а не в штатуте дело; и тут нужна протекция, вот что!
Те же самые вопросы сотник ставил и всем своим знакомым, приходившим навещать его, так что Сергею много раз пришлось выслушать жалобу на отсутствие справедливости вообще и неимение протекции в частности.
Нервы Верховцева раздражались ходом раны, начавшей сильно загнивать: боли сделались так сильны, что он готов был кричать при перевязках; лихорадка стала наседать сильнее и сильнее, – отпрыск страшной перемежающейся лихорадки, схваченной несколько лет назад на персидской границе и с тех пор никогда вполне не покидавшей его.
По ночам явился бред; вдобавок левая нога, при ране на правой, стала до того невыносимо ныть, что для уменьшения страданий пришлось прибегнуть к морфину.
Впечатление теплоты и благополучия, разливавшихся по всему телу больного после впрыскивания морфия, успокаивало и давало возможность спать, но лихорадка от того не уменьшалась, а нервность и беспокойство возрастали, аппетит же совсем пропал.
Сергея перевели в отдельную комнату и окружили полным покоем. Морфин сделался ежедневною потребностью[22 - Морфин сделался… потребностью… – также автобиографический момент, связанный с тяжело протекавшим выздоровлением Верещагина после ранения.], от которой доктора начали, наконец, предостерегать. Больной соглашался, решался не прибегать больше к уколам, но приходил вечер с невыносимыми болями, беспокойством, бессонницей, и он начинал упрашивать, чтобы впрыснули положенную дозу. Силы больного уменьшались, и от сознания этого он падал духом.
Положение Верховцева было часто невыносимо от невозможности объясняться: ни прислуга, ни фельдшера не говорили по-русски, а он не понимал ни слова по-румынски; когда он просил воды, сиделка тащила его вверх по подушке, полагая, что исполняет желание больного подняться. Он указывал знаком, чтобы затворили дверь, – его стаскивали пониже, в полной уверенности, что исполняют его просьбу.
Случалось, что в полузабытьи, полудремоте он чувствовал, если не сознавал, как чьи-то руки шарят у него под подушкой или в ящике столика, где лежали ключи и кошелек.
– Целы ли ваши деньги? – спросил раз смотритель госпиталя, отставной румынский полковник, ухаживавший за ним, как за сыном. – Знаете ли вы, сколько у вас было денег и сколько теперь?
– Право, не смотрел; почему вы об этом спрашиваете?
– Ваша сиделка отпросилась в деревню и так быстро собралась и ушла, что мы подозреваем, не попользовалась ли она чем-нибудь около вас?
– Конечно, попользовалась, – мог только заметить Сергей, когда смотритель освидетельствовал наличные деньги и из двух десятков золотых оказалось на месте только восемь.
Под постоянным действием морфина и удручающего сознания своей немощи и одиночества лежал раз так Верховцев в полудремоте-полусне, когда почувствовал над собою тихое движение воздуха и даже как будто шелест листьев. Что это, галлюцинация? Нет, он ясно слышал, что его обмахивают.
Больной приоткрыл глаза и увидел девушку, свежею веточкой отмахивавшую от него мух.
«Это сон», – подумал он, – девушка знакомая, Наталья Григорьевна, Наталочка; она смотрит добро, нежно и, видя, что он открыл глаза, пожалуй, заговорит, – улыбаясь, поднимает палец к губам: тшшь!
Сергей не шевельнулся, опять сомкнул веки в чувстве неизъяснимого блаженства, наполнившего все его существо; потом, совсем уже открывши глаза, ясно увидел милое, улыбавшееся лицо Наташи и понял, – понял, что свои приехали выручать его.
С этой минуты он стал бодрее духом, стал меньше скучать и больше верить в возможность выздоровления. По временам едва слышным голосом он перекидывался несколькими словами с Наталочкой и Надеждой Ивановной; последняя при виде беспомощного состояния угасавшего «красивого блондина» сменила гнев на милость и, понимая, чье присутствие ему особенно дорого, возможно чаще оставляла Наташу у постели днем, взявши на себя дежурство по ночам.
Ночи были особенно тяжелы с их лихорадочными приступами, в продолжение которых приходилось менять по дюжине рубашек – так быстро они намокали.
Спать при этих лихорадках раненый совсем не мог; как только закрывал он глаза и начинал забываться, страшные, дикие видения, настоящие картины Дантова ада представлялись ему: из неизмеримых темных пространств выносились вперед, освещенные точно заревом пожара, бесконечные вереницы сотен тысяч живых существ, будто ведьм и чертей на палках и метлах. Как только больной начинал дремать, все эти ватаги с искаженными, ярко залитыми красным светом лицами, адски хохотавшими прямо ему в глаза, быстро проносились мимо, уступая место следующим нескончаемым вереницам, и раненый с невольным стоном открывал глаза.
– Что вам, душа моя? – заботливо спрашивала Надежда Ивановна, – не хотите ли пить?
Она опускала нитяную кисточку в кружку с питьем и смачивала засохший язык больного. Тот снова пробовал забыться и снова изнемогал от страшных грез.
Иногда в тишине ночи он перебирал свое прошлое, вспоминал начатые и неоконченные работы: что с ними будет в случае его смерти, неужели станут рыться в его портфелях, самых интимных записках? Пожалуй, издадут в свет все неоконченное, только еще наброшенное?..
Случалось, он спрашивал себя, ладно ли сделал, бросивши, хотя и на время, писать и начавши помогать Скобелеву? Конечно, легко обвинять со стороны, – думал он, – но разве возможно здоровому и сильному человеку спокойно смотреть на кровь и страдания кругом себя, хладнокровно замечать разные недочеты, не стараясь помочь по мере сил? К тому же он много наблюдал, многому учился за это время, – этого не понимают…
Сергей начинал чувствовать, что, несмотря на все старания и усилия докторов, какая-то невидимая сила толкает его в лапы смерти, силы покидают, жизнь отходит. Это читал он и на смущенных лицах окружавших, на заплаканных глазах Наташи, замечал по предупредительности, чуть не нежности Надежды Ивановны.
В одну из бессонных ночей он поверил почтенной женщине маленький секрет. Ему было очень дурно, и тетушка, против обыкновения не клюкавшая носом, с беспокойством следила за его неровным дыханием, когда он назвал ее по имени.
– Что вам, душа моя? – спросила она, нагнувшись к нему, – не хотите ли напиться?
– Нет, наклонитесь еще, – шепнул он, – исполните одну мою просьбу… боюсь, что мне придется скоро умереть…
– Полноте, душа моя, может быть, вы еще выздоровеете…
Как ни был слаб Верховцев, а подумал: «Хорошо утешает; кажется, она совсем собралась хоронить меня».
– Возьмите кусок бумаги, – продолжал он, – запишите имя и адрес особы, которой я попрошу передать, в случае моей смерти, все, что останется после меня в векселе и деньгах.
Надежда Ивановна исполнила.
– Вы любили? – не утерпела она, чтобы не полюбопытствовать.
– Нет, – тихо выговорил Сергей. – Была привязанность и привычка, любви не было. Я полюбил раз в жизни только нынче летом и теперь продолжаю быть верным этой любви… Вы знаете, о ком я говорю, – прибавил он после небольшой паузы и потом замолк, совсем обессиленный.