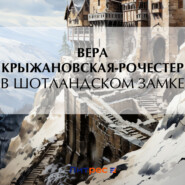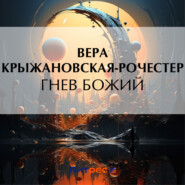По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рекенштейны
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я буду готов сопровождать вас, графиня. Что же касается роли Цербера, я счел бы ее слишком для себя лестной. Но есть ли надобность приставлять такого сторожа к графине Рекенштейн?
Его спокойный властный взгляд пронизал, как бы струей холодного воздуха, пламенный взор молодой женщины, и она быстро отвернулась.
Придя к себе, графиня с досады кинулась на диван. Этот дерзкий, человек осмеливался избегать чести сопутствовать ей. Неужели он настолько неуязвим, что один из всех остается бесчувственным к ее красоте? Для непомерного самолюбия Габриелы равнодушие было оскорблением, и она решила во что бы то ни стало бросить его к своим ногам и хорошенько отомстить. Она не думала теперь о том, что это был человек подчиненный, принадлежащий к тому роду людей, которых она привыкла презирать; нет, после найденного сходства между ним и графом Жаном Готфридом, образ Готфрида Веренфельса преследовал ее; что-то бушевало в ее груди, что-то влекло к нему, и сама она не подозревала всей глубины этого неопределенного чувства.
На следующий день графиня уехала в город с сыном и с Веренфельсом. Она, казалось, забыла свое неудовольствие и все капризы, была весела, пленительна, и так как Танкред все время ел, спал или глядел в окно, Готфрид в течение всего пути служил предметом ее искусного кокетства. Как человек хорошо воспитанный и артистичный, он отвечал любезностями хорошего тона на любезность этой очаровательной женщины. И в самом добро-согласии они приехали в Берлин, где Арно ожидал их на вокзале.
Рекенштейнский дом, старый, массивный, построенный в царствование Фридриха Великого, сохранил снаружи и внутри стиль и украшения XVIII века. Войдя в вестибюль, Габриела была приятно поражена, заметив, что все отделано заново и роскошно. Удовольствие ее увеличивалось по мере того, как они продвигались вперед по длинной анфиладе комнат. При виде своего будуара, этого изящного гнездышка, заново меблированного, с вишневого цвета обоями на стенах и такой же материей на мебели, с зеркалами в золоченых рамах и множеством душистых цветов, она вскрикнула от удовольствия:
– Благодарю вас, Арно, благодарю, это ваш подарок, я в этом уверена. Папа не подумал бы это сделать: порой он очень расчетлив.
– Нет, нет, все это от отца, а мой подарок на новоселье, дорогая Габриела, я покажу вам после обеда.
Графиня явилась к столу очаровательной и отдохнувшей. Она приняла ванну и оставила распущенными непросохшие волосы; лишь два маленьких коралловых гребешка придерживали их со обеих сторон; блестящие, шелковистые пряди спускались по ее простенькому платью из серого кашемира, отделанному широкой кружевной фрезой[1 - Фреза, фрез – воротник из туго накрахмаленных и уложенных в мелкую складку кружев или ткани.] вокруг шеи. Как бы не замечая восхищения молодых людей, она, смеясь, извинилась за свое вынужденное неглиже. После обеда, опираясь на руку Арно, графиня поспешила пойти взглянуть на обещанный сюрприз. Молодой человек, сияя радостью, повел ее в приемные комнаты и, пройдя бальный зал, остановился у двери, ведущей в зимний сад, которая прежде была заделана и завешена. Приподняв портьеру, он дал пройти Габриеле. Она остановилась, как очарованная. Все в этом волшебном месте было залито мягким и приятным светом, который отражался в каскадах и фонтанах; раззолоченные раковины горели, как в огне; в гротах царил таинственный полумрак. Танкред и Готфрид были тоже поражены, но мальчик прежде всех прервал молчание:
– Арно, ты волшебник! – воскликнул он, хлопая в ладоши.
Молодая женщина как бы очнулась от сна. И не думая о присутствии своего сына и его восхищении, с сияющим взглядом кинулась на шею молодого графа и, целуя его, твердила: «Благодарю, благодарю!»
Прислонясь к мраморной группе, Готфрид глядел на эту сцену с чувством сострадания к Арно, с чувством досады и отвращения к этой легкомысленной и безнравственной женщине, которая, пользуясь тем, что врожденная честность молодого человека делала его слепым, вливала в его душу смертельный яд. Конечно, так могла благодарить сестра своего брата, мачеха – своего пасынка; но Габриела была слишком опытной женщиной, чтобы не понимать, какие чувства волновали Арно и выражались в его взгляде. Зачем же позволять себе проявление благодарности в такой опасной форме? Арно не давал себе отчета в том, что происходило в его душе; но случай мог сорвать завесу с его глаз, и какое будет его нравственное состояние, когда в нем явится сознание, что он питает безумную страсть к жене своего отца.
Как бы почувствовав неодобрительный взгляд, тяготеющий на ней, Габриела обратила глаза на Готфрида; руки ее опустились, и яркий румянец залил ей щеки.
Арно ничего не заметил, так как был слишком возбужден.
– Я глубоко счастлив, что вы довольны, Габриела. Теперь позвольте мне отвести вас к диванчику, возле которого стоит наяда: она имеет нечто поднести вам.
Место, на которое он указывал, было особенно хорошо. Там, прислоненная к стене, украшенной сталактитами, виднелась огромная раззолоченная раковина, на которой стоял маленький диванчик для двух человек. Возле этой раковины мраморная нимфа держала в поднятой руке букет водяных цветов, в их лепестках скрывались лампы.
Когда Габриела села, Арно взял с подножия статуи шкатулку с перламутровой инкрустацией и подал ее графине.
– Это мне? – спросила она, рассматривая с любопытством прелестный ящичек с графской короной на крышке.
– Конечно, вам. Это дар, который нимфа приносит своей прекрасной царице.
И Арно показал молодой женщине, как открывается сек ретный замок шкатулки. Внутри она была обита голубым бархатом и разделена на две части; в одной из них лежало великолепное жемчужное ожерелье с рубиновым фермуаром[2 - Фермуар – застежка на ожерелье.], в другой – сапфировая парюра[3 - Парюра – набор ювелирных украшений, подобранных как по материалу, так и по цвету и орнаментальному оформлению.]. На минуту Габриела онемела от радости и удивления.
– Арно, – сказала она наконец, – чем заслужила я этот царский подарок, который мне совестно принять? Это, вероятно, ваша наследственная драгоценность.
– Не беспокойтесь, Габриела. Конечно, я не имею права располагать фамильными драгоценностями, но поднесенные вам парюры принадлежат моей бабушке. И кто больше вас достоин носить этот жемчуг, дорогую для меня память о ней, и эти сапфиры, несовершенное подобие ваших чудных глаз?
Он нежно поцеловал ее руку.
В эту минуту вошел лакей и подал графу на маленьком серебряном подносе визитную карточку. Взглянув на нее, молодой человек встал с большим неудовольствием.
– Простите, Габриела, что я оставлю вас на минуту. Я должен принять одного моего хорошего знакомого. Это молодой бразилец, с которым я познакомился в Рио-де-Жанейро, а затем встречался с ним в Париже. Теперь он здесь. Я назначил ему свидание вчера вечером, но он не мог приехать и отложил визит до сегодня, о чем я совсем позабыл.
Оставшись одна, Габриела еще раз полюбовалась на свои подарки; потом позвала Веренфельса и сына, чтобы и они поглядели на них, но лишь Готфрид, который тем временем осматривал сад, пришел на ее зов; Танкред же ничего не слышал, весь поглощенный созерцанием большого аквариума, который он нашел в одном из углублений стены.
– Поглядите, господин Веренфельс, какой великолепный подарок я получила от Арно. Как он добр; другие пасынки ненавидят своих мачех, а он выказывает мне самую преданную любовь.
Готфрид стоял наклонясь над шкатулкой, но при последних словах графини поднял голову и, устремив глубокий, пытливый взгляд в глаза молодой женщины, сказал:
– Да, графиня, это любовь, но любовь не к мачехе, а просто к женщине. Вы не можете не сознавать, какого рода чувство питает к вам Арно, а потому долг и сострадание разве не предписывают вам не платить ему за любовь злом, не губить его жизнь и его покой? Конечно, я не имею никакого права говорить вам это, я чужой, подчиненный человек в вашем доме, но ваш муж и молодой граф всегда относились ко мне как к другу, и совесть моя заставляет меня вам сказать: не злоупотребляйте, графиня, своей ослепительной красотой, не толкайте в пропасть вашего пасынка; Арно так благороден и так должен быть свят для вас, что вам нельзя обрекать его на гибель.
Габриела слушала его бледная и трепещущая. Ее приводили в бешенство не столько его слова, сколько холодное спокойствие больших черных глаз, устремленных на нее без всякого восторга; они, казалось, читали в глубине ее души и беспощадно осуждали ее преступное кокетство. Бросив парюры, она встала и гордо, презрительно смерила взглядом молодого человека.
– Вы, кажется, бредите среди белого дня, господин Веренфельс, или, быть может, фантастический вид этой залы так омрачил ваш рассудок, что простую дружбу Арно, его сыновнюю преданность, его братские чувства вы объясняете таким гнусным образом. Никто не может мне запретить любить Арно, самая строгая нравственность не может осудить мою любовь к сыну моего мужа. Вам, милостивый государь, я замечу, что уже не первый раз вы позволяете себе переступать границы, которые предписывает ваше положение. Дружба моего мужа не дает вам права поучать меня; вы приглашены воспитывать Танкреда, а не его мать. И без ваших советов я сумею охранить честь мою и моей семьи.
Бесстрастный вид Готфрида при этом жестком ответе, странная улыбка, скользнувшая по его губам, подняли бурю гнева в груди Габриелы. И когда он поклонился и проговорил без всякого волнения: «Не премину принять к сведению приказание графини», – она повернулась к нему спиной и быстро вышла из сада.
В своем возбуждении молодая женщина пошла к себе самой дальней дорогой, приемными комнатами. В одной из них она вдруг увидела Арно и незнакомого молодого человека, которые разговаривали с большим оживлением. Смущенная и недовольная, графиня остановилась; уйти она уже не могла, так как молодые люди заметили ее и поспешно встали.
– Извините, дорогая Габриела, что я не предупредил вас, что мы расположимся в этой проходной зале, – сказал Арно. – Но если уж на долю моего друга выпала такая счастливая случайность, то позвольте мне представить вам дона Рамона Диоза, boello у Arrogo графа де Морейра. – Затем, обратясь к гостю: – Моя мачеха, графиня Рекенштейн.
Иностранец низко поклонился, но его черные, пламенные глаза впились в лицо молодой женщины с таким страстным восхищением, что легкая улыбка шевельнула румяные губки Габриелы, она протянула руку бразильцу, приветливо пригласила его от имени мужа быть частым гостем в их доме, затем извинилась и ушла.
– Madre de Dios! – воскликнул дон Рамон; глаза его горели восторгом. – Не сон ли это? Ужели я видел живое сущест во, а не небесное видение! Ах, граф, как я завидую вам, что вы сын такой женщины. Чтобы видеть ее, беспрерывно любоваться ею, принадлежать ей, я был бы рад обратиться в ее болонку.
– Ну, дон Рамон, ваша тропическая кровь снова заговорила в вас с необузданной силой, – сказал Арно смеясь. – И без такой трудной метаморфозы вы можете видеть графиню и любоваться ею, если только останетесь в Берлине.
– Я не собираюсь уезжать, – ответил поспешно пылкий молодой человек.
За чаем Арно передал Габриеле свой разговор с доном Рамоном.
– Мало сказать: вы победили его сердце, вы убили его наповал, – заключил он смеясь. – И я боюсь, что мне будет стоить много хлопот, чтобы удержать в границах благоразумия кипящую лаву его чувств.
В следующие дни графиня была почти невидима; бегала по магазинам, делала бесчисленные покупки и заказы и деятельно приготовляла себе зимние туалеты. Габриела нашла в ящике своего стола портфель, туго набитый банковыми билетами. Она знала от кого это, и сердце ее наполнилось торжествующей радостью. Власть, которую она приобрела над Арно и его кошельком, открывала богатый источник для ее любви к расточительности; неведомый для мужа источник, из которого она готовилась черпать смелой рукой. Несмотря на эту неожиданную радость, на перспективу мотовства и безумной роскоши, которые готовила ей зима, Габриела не была вполне счастлива. Какое-то тайное беспокойство, какая-то непонятная пустота томили ее душу. И эта тоска сменялась порывами досады при виде человека, присутствие, голос которого, однако, заставляли биться ее сердце все с большей силой, человека, которого она хотела ненавидеть, но который ей нужен был как воздух, если она долго не видела его.
После тяжелой сцены в зимнем саду Готфрид держался крайне сдержанно, избегал, насколько возможно, присутствия графини, ограничивался той долей вежливости, которую он был обязан оказывать хозяйке дома, никогда не говорил с ней, а когда глаза их встречались, взгляд его скользил по ней с холодным равнодушием и, казалось, не видел ее. В подобные минуты сердце Габриелы переставало биться; она желала бы уничтожить дерзкого, но еще более желала бы повергнуть его к своим ногам.
Арно заметил эти натянутые отношения и решил спросить Габриелу, что это значит. Однажды утром, накануне приезда графа, Готфрид был свободен; у Танкреда болела голова, он не мог заниматься и прилег отдохнуть. Пользуясь этим, молодой человек пошел в библиотеку читать журналы. Он сидел у подоконника, погруженный в чтение интересной учебной статьи, как вдруг услышал, что кто-то вошел в соседнюю комнату; затем раздались голоса Арно и графини. Сперва он не обращал никакого внимания на их разговор, но одна фраза графа, произнесенная несколько громче, заставила его поднять голову.
– Я давно хочу спросить, что стало причиной столь прохладных отношений, которые установились между вами и Веренфельсом. Он как будто избегает вас.
– Право, не знаю. Меня мало занимает расположение служащих у меня людей, – отвечала небрежно Габриела, – и я не понимаю, какой еще тон может существовать в отношениях между господами и прислугой.
– Мне тяжело слышать, что вы говорите, Габриела, и умоляю вас, не употребляйте никогда таких несправедливых и неуместных выражений, когда речь идет о таким уважаемом человеке, которого я чту, как своего друга. Я подозреваю, что Готфрид рассердил вас чем-нибудь, но как вы можете до такой степени преисполниться гневом, чтобы уравнять со слугами того, кто воспитывает вашего ребенка. И потом я должен вам напомнить, что хотя несчастье и вынудило Готфрида стать в зависимое положение, он все-таки остается таким же дворянином, как и мы. Бароны Веренфельсы ведут свой род с крестовых походов, и последний их представитель не отличается от своих предков ни своей наружностью, вполне аристократической, ни своими благородными принципами.
Лицо Готфрида вспыхнуло от дерзких слов Габриелы, но, с трудом овладев собой, он остался на своем месте, прислушиваясь, что будет далее.
– Боже мой! Перестаньте бранить меня, Арно, из-за этого красавца, в которого вы с Вилибальдом решительно влюблены, – отвечала шутливо графиня. – Скажите лучше, какой цвет мне выбрать для первого бала, на который вы меня повезете первого декабря к барону X.
– Могу ли я вас бранить, Габриела! Неужели Веренфельс позволил себе что-нибудь в этом роде? Бедный малый! Какая злая доля – не понравиться самой красивой женщине в мире.
– Опять о нем! Это просто невыносимо. Впрочем, вы имее те способность угадывать. Мне кажется, что этот дуралей вменяет мне в преступление дары, которыми наделила меня природа. Ах, виновата, скажу иначе, так как вы этого желаете, Арно. Этот достойнейший человек, кажется, ничего не смыслит в красоте. Замечательный агроном, он в поле, в конюшне совсем на своем месте, но на паркете чувст вует себя неловко. Его идеал, «вероятно, здоровая, деревенская женщина с широкими, как валек, руками, толстощекая и румяная, как мак. Конечно, такую женщину он предпочел бы Венере Милосской, если только понимает разницу; но вернее всего, что он не умеет отличить коровы от порядочной женщины.
Графиня говорила с ожесточенным удовольствием, возвысив голос и отчеканивая каждое слово. И это потому, что она вдруг увидела Готфрида в зеркале, отражавшем через открытую дверь окно, возле которого он сидел и, казалось, был погружен в чтение журнала.