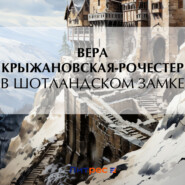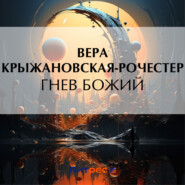По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рекенштейны
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молодой человек поклонился весьма удивленный, но, ничего не возражая, обвил рукой талию Габриелы и увлек ее в вихре вальса. Странное чувство охватило его; в первый раз он танцевал с Габриелей, и никогда еще эта обольстительная, опасная женщина не производила на него такого сильного впечатления. Графиня тоже, казалось, была в чаду упоения, с задумчивым взглядом и неизъяснимой улыбкой на полуоткрытых губах она легко и быстро неслась по паркету, увлекаемая своим кавалером.
Сделав тур, молодой человек остановился и хотел довести свою даму до стула, но графиня, указав на вход в зимний сад, возле которого они находились, сказала:
– Отведите меня в сад, я хочу отдохнуть немного.
Минуту спустя они шли под тенью пальм и других экзотических растений, направляясь к бархатной скамье, осененной зеленью померанцевых деревьев, покрытых цветами, и волшебно освещенной лампами, скрытыми в листьях. Разгоряченный танцем, Готфрид был взволнован, щеки его раскраснелись, и все черты оживились совсем новым выражением. Габриела заметила это и сказала ему с вызывающей улыбкой:
– Не чудо ли то, что я вижу? Бесстрастная, бесчувственная статуя Долга принимает вид простого смертного!
И Веренфельс в первый раз голосом, вовсе не похожим на его обычный тон холодной сдержанности, ответил ей:
– Ах, графиня, Пигмалион оживил мрамор, а ваша красота не есть ли небесный огонь? И как могу я остаться бесчувственным, как камень, когда живительный луч этого пламени коснулся меня, недостойного!
Габриела замерла на месте, словно обвороженная этими словами и пылающим взглядом, обращенным на нее. Какое-то новое чувство, какое-то беспредельное счастье, никогда ею не испытанное, охватило все ее существо. Устремив взгляд на красивое оживленное лицо своего собеседника, она, казалось, упивалась им, затем привлекла его к скамье и посадила возле себя. С минуту оба молчали; вдруг Габриела взялась за ствол дерева и потрясла его: облако белых душистых цветов осыпало их.
– Что вы делаете, графиня? – спросил вздрогнув Готфрид.
Она рассмеялась и, наклонясь к нему так близко, что дыхание ее касалось его щеки, прошептала:
– Статуя оживилась, это правда; но я надеюсь, что от прикосновения этих душистых цветов и сердце проснется и затрепещет, как у простого смертного.
В пылу увлечения Габриела забыла все. Она любила в первый раз всеми силами своей души и не могла скрыть своего чувства; оно отражалось в ее взгляде и на ее трепещущих устах. Это не было одно из тех мимолетных увлечений, которые испытывало порой ее ветреное, непостоянное сердце. Нет, то была сильная, глубокая страсть, охватывающая своим пламенем, требуя, выманивая одного взгляда, одного слова любви. В глазах Готфрида потемнело; Габриела была олицетворенным искушением, покоряющим его чувства своей красотой и рассудок самолюбием, свойственным каждому человеку. Он один дерзнул противиться львице и смирил ее, и сделался ее владыкой.
Он уже протянул руку, чтобы привлечь к себе Цирцею, устремившую на него взор, и губы его готовы были произнести роковые слова, которые связали бы их для измены и позора. Как вдруг пред его мысленным взором восстали образы графа Вилибальда и Арно и, по странному совпадению, портреты двух изменников в Арнобургской галерее, странной игрой случайности воскресших в нем и в Габриеле. Очнувшись как бы от опьянения, Готфрид провел рукой по своему лбу, покрытому холодным потом, и порывис то поднялся с места. Огонь угас в его черных глазах, лицо было бледно, но спокойно; перед графиней Рекенштейн стоял бесстрастный и сдержанный воспитатель ее сына. Графиня не знала, каких усилий это стоило его честной душе; она видела лишь внезапную перемену, поняла, что дело ее проиграно, и кровь бросилась ей в лицо, но эта крас ка сменилась тотчас мертвенной бледностью. Она знала, что выдала себя, но, собрав все свои силы, старалась скрыть свои чувства.
– Здесь одуряющий воздух, надо пойти в залу, – сказала она, обмахиваясь веером.
Очень кстати для них обоих раздались поспешные шаги, и минуту спустя показался Арно.
– Ах, вот вы где, Габриела, а я ищу вас. Но как вы бледны! Что с вами? Вам нездоровится?
– Нет, я только устала, должно быть, слишком много танцевала. И я попросила господина Веренфельса провести меня сюда на минуту. Не тревожьтесь, Арно, – присовокупила она, заметив беспокойство в его взгляде. – Вы так добры ко мне, но вы не знаете тоже, как я люблю вас.
Она сжала руку графа и устремила на него взгляд, в котором не было ничего материнского.
Злоба и отвращение пробудились мгновенно в душе Готфрида. Как могла она, еще трепеща от страстного влечения к нему, снова приняться за преступную игру с Арно? И когда взгляд графини встретился с его взглядом, в нем отразилось такое презрение, что молодая женщина вдруг встала, как бы движимая механической силой, и, опершись на руку Арно, поспешно удалилась, прикрывая веером смертную бледность своего лица.
Они вошли в залу, когда оркестр снова принялся играть. Дон Рамон стремительно подошел к графине. Приветливо улыбаясь и более чем когда-нибудь сияя весельем, она вмешалась в круг своих гостей, вызывая оживление везде, где появлялась.
Готфрид ушел тотчас к себе. Тишина и спокойствие ночи возвратили ему его хладнокровие, но мысль увидеть графиню была невыносима для него. И он решил во что бы то ни стало придумать предлог, чтобы безотлагательно уехать в Рекенштейн; отъезд семьи назначался через две недели. Случай помог ему. Когда на следующий день он увидел графа, то нашел его озабоченным: письма, полученные из замка, извещали его, что разлив реки причинил значительные повреждения, а к довершению этих неприятностей помощник управляющего упал с лошади и лежал прикованный к постели недели на три, по крайней мере.
– Граф, позвольте мне поехать с Танкредом. По вашему указанию я сделаю все нужные распоряжения и до вашего приезда буду наблюдать за всеми работами. Танкреду деревенский воздух и большие прогулки будут очень полезны.
– Благодарю вас, Веренфельс, я принимаю ваше предложение, так как оно выводит меня из крайнего затруднения. Но когда вы можете ехать?
– Завтра утром пятичасовым поездом.
– Отлично! Сегодня вечером я дам вам все нужные инструк ции.
Вечером, когда все собрались к чаю, Габриела отсутствовала. Вследствие утомления после бала, она весь день не выходила из своих комнат. Когда встали из-за стола, Готфрид сказал Танкреду, что он уезжает с ним завтра рано утром, и велел ему пойти проститься с матерью. Мальчик был поражен, так как ничего не знал об этом решении, но, когда отец повторил ему приказание, он, взволнованный, кинулся в комнаты графини.
Габриела лежала на кушетке, поглощенная бурными мыслями, когда сын, озабоченный, с пылающими щеками, ворвался в ее комнату. При виде обожаемого ребенка лицо молодой женщины просветлело.
– Мама, я пришел с тобой проститься! – кричал Танкред, кидаясь ей в объятия.
– О каком прощании ты говоришь, мой кумир? – спросила молодая женщина, покрывая его поцелуями.
Но когда мальчик сказал ей, что уезжает в Рекенштейн с Готфридом, она побледнела и прижалась лицом к кудрявой головке сына. Она понимала, что значит это решение. И буря любви, смешанной с ненавистью, поднялась в ее душе против энергичного молодого человека, который избегал ее, тогда как она не могла вырвать его из своего сердца.
– Бедный мальчик, отец твой неистощим, придумывая средства разлучить тебя с единственным существом, которое тебя любит; вполне беззащитным он отдает тебя в распоряжение твоего грубого воспитателя, – прошептала Габриела, и несколько горячих слез скатилось по ее щекам.
Танкред был сильно привязан к матери. В своем детском сердце он был горд своей мамой, такой красивой, снисходительной и так всеми любимой. А потому радость, которую внушало ему предстоящее путешествие, омрачалась; печальные мысли зароились в его голове, и, рыдая, он стал по-своему утешать ее.
– Не огорчайся, мама. Я буду вежлив и прилежен до твоего приезда, чтобы господин Веренфельс не имел повода наказывать меня. А потом, уверяю тебя, что теперь он добрый ко мне, а когда он мне рассказывает эпизоды из жизни животных или историю жизни знаменитых детей, то я готов слушать его целую ночь. И, право, я не понимаю, зачем он старается сердить тебя.
Разговор продолжался в том же духе, но, взглянув на часы, мальчик вскрикнул:
– Теперь пусти меня, мама. Господин Готфрид рассердится, если я не лягу скоро спать; он велел мне быть в постели в 10 часов, так как завтра надо встать в 4 часа утра.
Танкред вернулся в свою комнату, заплаканный и с огромной бонбоньеркой в руках.
Готфрид тоже только что вернулся к себе. Прощаясь с обоими графами, он просил их засвидетельствовать его почтение графине. Веренфельс укладывал в портфель бумаги с различными указаниями относительно дел, которые он взял на себя в Рекенштейне и в Арнобурге, когда воспитанник его вошел с покрасневшими глазами и с бонбоньеркой в руках.
– Поди сюда, милый мой, – обратился молодой человек к Танкреду, – и скажи, отчего у тебя такой печальный вид?
Мальчик неохотно подошел.
– Ты плакал? Отчего? Ведь ты, казалось, был так доволен отъездом в замок? – спросил Готфрид, привлекая его к себе.
Отношения между воспитанником и воспитателем значительно улучшились. Поведение Танкреда поправилось, что позволило Готфриду отступить от своей строгости. Он старался развивать мальчика, забавляя его и доставляя ему всякие развлечения, подходящие к его возрасту.
– Да, я был доволен, – отвечал Танкред нерешительным голосом. – Но отчего вы стараетесь непременно рассердить маму? Она сейчас плакала горькими слезами при мысли, что я буду беззащитно предоставлен вашей жестокости.
– Право! Мама плакала. Я очень жалею ее, но не находишь ли ты, что ее опасения преувеличены? Ты отлично себя чувствуешь, несмотря на мою жестокость.
Танкред взглянул на него с простодушным удивлением, затем разразился чистосердечным смехом.
Но через минуту, приняв снова серьезный вид, он озабоченно спросил:
– Скажите откровенно, господин Веренфельс, отчего вы ненавидите маму? Она так красива, и все так любят ее. На прошлой неделе я сам видел, как дон Рамон стоял перед ней на коленях и глядел на нее такими глазами, будто хотел ее съесть. Я не понял, что он говорил, что-то такое о смерти, о любви, о разбитом сердце. Но у него был такой смешной голос.
– А что мама отвечала на эти шутки дона Рамона? – спросил Готфрид, охваченный неприятным чувством.
– Она сказала: «Встаньте, дон Рамон, и сядьте на стул, а то я сейчас уйду от вас». Тогда он встал, целовал ей руки и, кажется, плакал. Она рассмеялась и сказала ему: «Потерпите, может быть, потом», – дальше я не помню.
– Танкред, – сказал Готфрид глухим голосом, – не говори никогда никому, что ты мне рассказал, особенно не говори папе и Арно. Это шутки, которые ты не понял, но, дурно перетолкованные, они могут причинить неприятности.
– Хорошо, буду молчать. Но вы мне не сознались, отчего вы ненавидите маму. Она говорит, что вы враждуете с ней из-за меня, но я ведь теперь вежлив и прилежен, за что же вам ссориться? Мама всегда то краснеет, то бледнеет со злости, когда я о вас говорю; а между тем то и дело расспрашивает меня о вас. Я все, все должен ей рассказывать, что вы делаете, что говорите и даже кому пишете. Вы, верно, обидели ее. А, вот и вы теперь покраснели, – воскликнул вдруг Танкред, всматриваясь подозрительно в своего воспитателя.