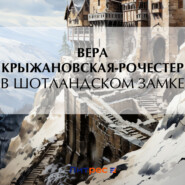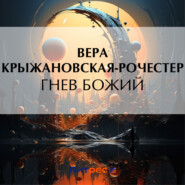По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рекенштейны
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это от удивления, что графиня так дурно судит обо мне, – ответил Готфрид, вставая. – Могу тебе сказать по совести, что у меня нет ненависти к твоей матери, и я искренно желаю видеть счастливыми как ее, так и твоего отца. А теперь, милый мой, ступай спать.
Он поцеловал мальчика, и ребенок, снова веселый и беззаботный, таким же искренним поцелуем ответил ему. Но оставшись один, молодой человек еще долго думал о странном и тяжелом положении, в которое ставила его злополучная любовь Габриелы.
На следующий день после приезда в Рекенштейн Веренфельс отправился к судье, с которым вел деятельную переписку в течение зимы. Лицо Жизели озарилось такой радостью при виде его, что молодому человеку не оставалось никакого сомнения насчет чувств, которые он ей внушил. Молодая девушка очень похорошела. Ее кроткое личико, чистый, откровенный взгляд голубых, как незабудки, глаз, девственная невинность, которая отражалась во всем ее существе, – все это в первую минуту подействовало на Готфрида, как живительный воздух полей после удушливой атмосферы теплицы.
Но в тишине и уединении ночи он размышлял, сравнивал, строго испытывал свое сердце и не без ужаса сознался себе, что незаметно увлекся на опасный путь, привык к тайной заманчивой борьбе с утонченным кокетством, с пылкой страстью, против которой он всегда должен быть настороже.
Готфрид был энергичной решительной натурой. Он твердо вознамерился жениться на Жизели, чтобы смирить безумную страсть графини к нему. Узнав, что сердце его занято другой, гордая, прихотливая женщина забудет его, а он найдет в обязанностях мужа и отца ограждение от праздных мыслей.
Ему хотелось обручиться до возвращения Габриелы. И вот однажды, когда Танкред, счастливый полученным позволением, пошел с женою судьи в погреб пробовать сыр и помогать ей снимать сливки с молочных крынок, Готфрид воспользовался своим тет-а-тет с Жизелью, чтобы сделать ей предложение. Простыми, прочувствованными словами он спросил ее, согласна ли она быть его женою, матерью его маленькой Лилии, будет ли она довольствоваться трудовой и скромной жизнью, которую он мог ей предложить, причем сообщил ей свои планы на будущее. Жизель слушала его, трепеща от счастья и волнения. Подняв на него свои чудные глаза, полные слез, она сказала тихим голосом:
– Я люблю вас, Готфрид, и ваш ребенок будет мне дорог, как мой собственный. Жить для вас, трудиться, чтобы усладить и украсить ваше существование, – такое огромное счастье, что я не смела никогда о нем мечтать. Не знаю, сумею ли я, простая несведущая девушка, составить ваше счастье, но достигнуть этого будет целью моей жизни.
Тронутый и признательный Готфрид привлек к себе и поцеловал невесту, давая мысленно клятву любить ее неизменно, отогнать прочь обаятельный образ, который пытался возникать между ним и русой головкой Жизели. В тот же вечер он заявил судье и его жене, что просит руки их племянницы. Предложение было с радостью принято. Молодой человек просил их только сохранять это в тайне, пока он не сообщит о своем намерении графу. Они обещали, и, таким образом, никто, ни даже Танкред, не узнал о важном событии, происшедшем в жизни воспитателя.
Отсутствие графа было более продолжительно, чем предполагали, и лишь через три недели он приехал с женой, с сыном и молодым итальянским художником, приглашенным, чтобы написать несколько портретов для фамильной галереи.
Арно казался печальней и еще бледнее, чем месяц тому назад. Отец его был мрачен, озабочен и раздражителен. Неудовольствие его достигло крайних пределов, когда он узнал, что дон Рамон де Морейра, от которого он надеялся, наконец, отделаться, приобрел себе недалеко от Рекенштейна имение, где уже шли деятельные приготовления к его приезду. Что касается Габриелы, она тоже побледнела, была нервна, утомлена и равнодушна. Готфрида она приняла холодно и, казалось, едва замечала его. Единственный человек, который, по-видимому, забавлял ее немного, был живописец; его блестящий разговор, исполненный интереса, изящные, приличные манеры делали его присутствие в доме приятным.
Гвидо Серрати – так звали итальянца – был красивый молодой человек, лет около тридцати. Его правильное ли цо имело несомненное сходство с портретом Цезаря Борджиа, писанным Рафаэлем, но его утомленные черты, несколько преждевременных морщин в углах губ показывали, что он не был чужд и буйных страстей той же исторической личности, на которую так походил своей наружностью.
Серрати сильно не понравился Готфриду. Ему казалось, что под этой пленительной наружностью таилось нечто неискреннее и злое. И вследствие этой тайной антипатии он избегал насколько возможно общества художника.
Несколько дней прошло без всяких случайностей. Но однажды утром в праздничный день графиня позвала к себе Танкреда с тем, чтобы он оставался у нее до самого обеда. Пользуясь этим, Готфрид пошел предложить своей невесте выйти с ним на прогулку; но не успели они пройти небольшое расстояние, как вдруг неожиданно встретили графа. Увидев Веренфельса под руку с дамой, граф с удивлением остановился, несколько подозрительная улыбка скользнула по его губам; неужели, думал он, строгий наставник затеял любовную интригу. Но Готфрид, хотя и против своего желания, тотчас вывел его из заблуждения, представив ему племянницу судьи как свою невесту. Граф был очень обрадован этой новостью, дружески поздравил обрученных и долго весело разговаривал с ними. Веренфельс давно не видел его в таком хорошем расположении духа.
И действительно, известие о женитьбе Готфрида обрадовало графа и рассеяло смутное, но тяжелое подозрение, которое мучило его в течение последних двух недель. Раз при получении письма от Веренфельса он вдруг уловил на лице Габриелы выражение, которое заставило его задуматься. Он совсем иначе взглянул на подозрительную ненависть между ними и вывел заключение, весьма близкое к истине. Конечно, он верил в честность Готфрида, но молодой человек мог легко быть увлечен и полонен такой неотразимой красотой. Узнав о его помолвке, он упрекнул себя внутренне за безрассудную мысль. Как мог он думать, что тщеславная и гордая Габриела, очарованная бразильцем, может интересоваться человеком, который не имеет известного общественного положения и находится в зависимом состоянии.
Проводив Жизель домой, Веренфельс с графом направились к замку.
– Прелестную девочку выбрали вы себе в жены, и, конечно, она составит ваше счастье. Когда же ваша свадьба?
– Не знаю, граф, это будет зависеть от обстоятельств, – ответил уклончиво Готфрид.
– Если хотите принять мой совет, то подождите до октяб ря. Тогда кончится контракт моего управляющего Петриса; хотя я им и недоволен, но все же не хочу его обидеть преждевременным отказом. Его место и при этом управление владениями Арно будет давать вам хороший доход. Что касается дома, в котором вы поселитесь, позвольте мне взять на себя его устройство. Это будет мой свадебный подарок в знак моей признательности вам.
Молодой человек горячо благодарил и радостный вернулся к себе, но вместе с тем он был встревожен: мысль увидеть за обедом Габриелу мучила его. Как примет она известие о его женитьбе?
Однако обед прошел очень спокойно, в тесном кругу, так как Арно и Гвидо Серрати уехали на весь день в Арнобург, чтобы выбрать там место для мастерской; портрет молодого графа предполагалось писать прежде всех других. К удивлению Готфрида, графиня была совершенно спокойна: ни тени перемены не замечалось в ее отношении к нему. «Ужели я ошибся из глупого фатовства? – спрашивал себя молодой человек. – Ужели принял за любовь то, что было лишь кокетством?» Но успокоение, которое он ощущал при этом, смешивалось с каким-то странным чувством, похожим на досаду.
После обеда перешли пить кофе в маленький зал, смежный с кабинетом графа. Габриела села на подоконник и глядела, как Танкред с помощью садовника работал в маленьком партере[4 - Партер – открытая часть сада или парка, украшенная газонами, цветниками, фонтанами и т. п.] среди цветов, предназначенных для отца. Граф ходил взад и вперед по комнате, затем пошел в кабинет читать письма, только что принесенные с почты. Веренфельс между тем рассеянно перелистывал номера иллюстрированного журнала, разбросанные по столу.
– У нас будут сегодня вечером гости, Габриела, – сказал граф, появляясь на пороге комнаты с раскрытым письмом в руке. – Мой старый друг адмирал Виддерс пишет, что он возвратился на днях из-за границы и хочет представить нам своего новобрачного сына с женой. Я очень рад свидеться с ним; бедняга был болен и провел три года в Италии.
Видимо, недовольная ожидаемым визитом, графиня, нахмурив брови, ощипывала цветок, вырванный из букета.
– Кстати о новобрачных, я должен сообщить тебе новость, Габриела. Ты можешь поздравить Веренфельса: он жених прелестной молодой девушки, с которой я встретил его сегодня.
Готфрид невольно взглянул на графиню, которая ничего не ответила. Ужас охватил его, и на лбу выступил холодный пот. Побледнев как смерть, Габриела, казалось, готова была лишиться чувств; выронив цветок, она протянула трепещущую руку, машинально ища опоры. Испуг молодого человека был понятен. Если бы граф бросил взгляд на жену, а для этого ему достаточно было поднять голову, правда бросилась бы ему в глаза.
С нервной дрожью Готфрид встал, не зная что делать, и эти несколько секунд показались ему веком. Но, к счастью, граф занялся вошедшим в эту минуту лесничим и, чтобы переговорить с ним, вышел в соседнюю комнату.
Готфрид вздохнул облегченной грудью. Счастливая случайность спасла его от беды, но он ненадолго успокоился. Переведя взгляд от дверей на графиню, он увидел, что она потеряла сознание и, скользя с подоконника, готова была упасть на пол. Как стрела он бросился к ней, удержал ее и посадил в кресло, затем кинулся в столовую, где слуги еще убирали со стола, взял стакан с водой и вернулся к графине, благословляя Бога, что был один свидетелем этого компрометирующего инцидента. Все будет скрыто в его душе и вычеркнуто из его памяти.
А между тем, когда он наклонился над Габриелей, чтобы обрызгать ее лицо водой, руки его дрожали и сердце билось так, что готово было разорваться; в первый раз он терял хладнокровие, и душа его проникалась глубоким, нежным состраданием к этой гордой пылкой женщине. Сраженная ревностью, она окончательно выдала тайну своей любви и предоставила себя его власти.
Обморок Габриелы был непродолжителен. Минуту спустя она открыла глаза, но, встретив тревожный взгляд молодого человека, прочитав в этом взгляде сожаление и сострадание, ясно показывающее, что он все понял, она вздрогнула как от прикосновения раскаленного железа; глухой вздох, подобный стону, вырвался из ее груди. Ей казалось, что она умрет под тяжестью такого унижения. До сих пор, несмотря на пожирающую страсть, она владела собой, Готфрид мог разве только подозревать ее чувства. Теперь же она выдала себя и именно в ту минуту, когда был нанесен смертельный удар ее самолюбию, когда он доказал, что любит другую.
Оттолкнув стакан, поднесенный ее врагом, свидетелем ее нравственного поражения, она закрыла лицо руками.
– Ради бога, графиня, придите в себя и постарайтесь успокоиться, – прошептал он, но, не получая ответа, осторожно отвел ее руки и, сжимая их, сказал: – Из сожаления ко мне, если только вы сохранили хоть тень доброго ко мне расположения, уйдите из комнаты, позвольте мне отвести вас в сад; подумайте, какие поднимутся сплетни, если кто-нибудь из слуг случайно войдет сюда. Свежий воздух возвратит вам силы.
Принудив встать, он взял ее под руку и увел в сад, но только тогда вздохнул свободно, когда они, не встретя никого, достигли густой тенистой аллеи. Габриела, бледная и безмолвная, дала себя увести. Сраженная, пожираемая стыдом и ревностью, она не старалась даже скрывать свои страдания. Буря, охватившая ее страстную душу, лишила ее в эту минуту всякой власти над собой.
Веренфельс посадил графиню на скамью и хотел уйти, чтобы дать ей свободно прийти в себя после нравственного потрясения, но едва он сделал несколько шагов, как вдруг услышал свое имя, произнесенное глухим голосом, и мгновенно остановился, как прикованный к месту. Преодолев свое волнение, он вернулся к Габриеле. Она позвала его, увлекшись порывом ревности, и ее выразительные глаза отражали хаос ее чувств. Взяв ее руки, Готфрид прижал их к губам:
– Простите мне тяжелые минуты, которые я невольно доставил вам, – прошептал он с волнением. – Для вас, для вашего мужа и для меня самого забудем этот злосчастный день.
Он повернулся и пошел к себе окольной дорогой. Трудно было бы описать состояние его души. Что не могли сделать ни красота, ни кокетство, ни сознание, что он любим, то сделало чувство сострадания, охватившее его сердце. Переходы от утонченного кокетства к презрительному пренебрежению, к каким прибегала Габриела, не действовали на него, а ее преступная игра с Арно и с доном Районом возмущала его и делала неуязвимым. Но теперь все было иначе. Гордая сирена обратилась в женщину, которая, будучи поражена в самое сердце, выдала всю свою слабость и потерпела жестокое унижение. Готфрид чувствовал себя обезоруженным. При воспоминании, каким страданием, какой страстью прозвучал ее голос, когда она произнесла его имя, сердце его сильно забилось, и густая краска выступила на его лице. Бедный Веренфельс, враждебность, ограждавшая его до сего дня от искушения, исчезла, и с силой, которую он и не подозревал, губительный яд наполнял его честное сердце.
В сильном волнении он ходил по комнате, спрашивая себя, чем кончится эта несчастная компликация[5 - Компликация – осложнение, запутанная ситуация.]. Он рассчитывал супружеством рассечь гордиев узел, но убедился, что только запутался еще более. Он обратился мысленно к Жизели, но образ его простодушной невесты с русой головкой померк, затмился блеском демонической красоты обольстительной женщины с черными как смоль кудрями и пламенным взором.
Приход Танкреда, необходимость отвечать на вопросы мальчика и следить за его уроками восстановили равновесие в душе Готфрида. И когда лакей вошел доложить, что чай подан, Веренфельс уже чувствовал, что к нему вполне возвратилась его холодная сдержанность.
Все общество было в сборе, когда маленький граф и его воспитатель вошли в зал. Бросив взгляд на Габриелу, Готфрид убедился, до какой степени женщины способны притворяться. Графиня переменила свой туалет, и кроме легкой бледности, ничто не напоминало нервного кризиса, через который она прошла. Она сидела на диване возле молодой баронессы Вейдерс. Арно, Гвидо Серрати и молодой барон разговаривали с дамами, меж тем как граф и адмирал ходили по комнате, толкуя о политике. Без малейшего смущения графиня представила гостям сына и Веренфельса, затем стала продолжать разговор с обычным оживлением и вскоре сделалась притягательным центром для всего мужского общества, не исключая даже и новобрачного. Никогда она не была так обольстительна и так беспечно весела. Маска была так искусна, что Готфрид спрашивал себя, не победила ли гордость любовь в изменчивом сердце этой тщеславной женщины, привыкшей к поклонению.
На следующий день все обитатели замка собрались за завтраком и разговор шел о фамильной Арнобургской галерее, приводившей в восторг молодого итальянца, когда вошел Веренфельс, несколько запоздавший. Как только он сел возле Арно, последний сказал ему с улыбкой, пожимая его руку:
– Извините, что до сих пор я не поздравил вас, но отец только сегодня сообщил мне, что вы помолвлены. Желаю вам полного счастья. Но я никогда бы не думал, что такая наивная девочка может победить ваше сердце.
– Отчего же? Разве она вам не нравится? – спросил Готфрид, чувствуя сильную неловкость. Он один заметил, что Габриела слегка побледнела и что ложка зазвенела в ее руке от нервной дрожи.
– О, нет! Напротив, – отвечал Арно смеясь. – Мадемуазель Жизель прелестная девушка, настоящий тип гётевской Маргариты, с русыми косами и ясным взглядом голубых глаз. И я поздравляю ее с Фаустом, которого она приобрела. Только не знаю, почему-то я думал, что Фауст-Готфрид имеет слабость к более строгой и более классической красоте, вроде вашей первой жены.
При имени Жизель Гвидо Серрати с живостью спросил, обращаясь к Арно:
– Не та ли прелестная девушка, которую мы видели у судьи, невеста господина Веренфельса?
– Да, она. И можно позавидовать такой победе нашего друга, – сказал веселым тоном граф Вилибальд. – Но по какому случаю вы попали вчера к судье?
– Мне надо было, – отвечал Арно, – попросить его устроить одно спешное дело, и мы зашли к нему по дороге. А пока я говорил с господином Линднером, мадемуазель Жизель так обворожила Серрати, что потом всю дорогу он только о ней и говорил. Примите это к сведению, Готфрид, – заключил он смеясь.
Веренфельс покраснел. Ему было невыносимо слушать разговор о красоте его невесты в присутствии графини, для которой каждое слово, каждая похвала были ножом в сердце. Никто не подозревал, какая драма разыгрывалась втайне. Оба графа подтрунили над смущением Готфрида, а итальянец теперь прямо обратился к нему:
– Не разрешите ли вы мне милость, о которой я хотел просить мадемуазель Жизель? Дело вот в чем. Мне заказали для Миланской церкви престольный образ Благовещения. Но я напрасно искал натуру, которая олицетворяла бы облик Мадонны, как я его воображаю. В мадемуазель Жизели я нашел воплощение моего идеала. Такое божест венное лицо я видел только на картинах фра-Анжелико. И вы окажете мне огромную услугу, позволив сделать ее портрет, или по крайней мере набросок ее головки.
Как ни было это неприятно Готфриду, он не мог отказаться, чтобы не выглядеть ревнивцем, особенно в присутствии графини. И без того ее возрастающая бледность вызывала в нем сильную тревогу, и он поспешил согласиться.
Разговор принял новое направление, толковали о заказанной картине, и Гвидо, ободренный благорасположением, которое ему оказывали, сказал, что счел бы свою работу вполне удавшейся, если бы при такой идеальной Мадонне моделью для архангела ему могла служить головка Танкреда.