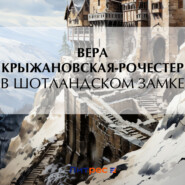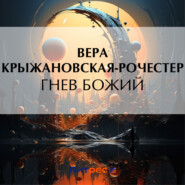По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рекенштейны
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Положив графиню на кушетку в ее будуаре, Готфрид открыл все окна, зажег лампу, затем взял с туалетного стола флаконы с солями, с уксусом и принес с постели подушку, чтобы подложить под голову графини.
Сначала все его старания оставались безуспешными. Напрасно он тер ей эссенциями виски, руки, давал нюхать соли, тряс ее в отчаянии – Габриела оставалась недвижимой. Дрожа, как в лихорадке, Готфрид провел рукой по ее лбу. Ужели в самом деле умерла эта пылкая молодая женщина, красивая, как спящая Психея? Но виноват ли он в этой смерти? Что мог он тут сделать? Ничего.
В эту минуту едва заметный румянец показался на бледном лице графини. Молодой человек вздрогнул и поспешно прижал ухо к ее груди. Он расслышал биение ее сердца, и легкое дыхание появилось на ее губах. «Габриела!» – крикнул он, наклоняясь к ней. Имя ее, как мучительный стон сорвавшееся с уст человека, так страстно ею любимого, казалось, пробудило жизненные силы молодой женщины; она протяжно вздохнула и открыла свои синие глаза. При виде Готфрида луч счастья озарил ее бледное лицо, но угас в то же мгновение.
– Габриела, Габриела, что вы сделали? Что вы хотели сделать? – шептал Готфрид с упреком. И, не получая ответа, добавил: – Я сейчас принесу вам немного вина, и, умоляю вас, успокойтесь. Необходимо, чтобы слуги ничего не подозревали; я сейчас вернусь.
Он прикрыл ей ноги плюшевой шалью, которую нашел на кресле, и поспешно направился к себе.
– Ну, что, нашли маму? – спросил Танкред, как только увидел его.
– Да, я пришел тебе сказать, что мама у себя в будуаре, но ей немного нездоровится, и она просила меня почитать ей. Будь же добрым мальчиком, вели Осипу зажечь лампы и займись без меня.
– Я буду умным. Но отчего вы так бледны? – спросил он, глядя на него с беспокойством.
– Это тебе так кажется. Я надеюсь на твое обещание и скоро вернусь.
Готфрид прошел поспешно в столовую, взял из буфета полрюмки вина и вернулся в будуар. Никто его не видел, так как большая часть слуг была на крестинах.
Габриела все еще лежала с закрытыми глазами в смертельном изнурении; тихие слезы катились по ее щекам. С неописуемым волнением Готфрид наклонился к ней; слезы ее, казалось, падали ему на сердце и жгли его, как огонь. Он чувствовал себя размягченным, обезоруженным и понял в эту минуту, что сам он неравнодушен, что для него было бы упоительным счастьем любить, назвать своею эту обворожительную женщину. И он знал, что ему стоит только протянуть руку, чтобы воспользоваться ее преступной страстью, заставить ее бросить дом и следовать за ним, куда бы он ни пожелал. Но снова честный порыв победил искушение. Чувство долга требовало, чтобы он преодолел свою слабость и употребил все свое влияние, чтобы и Габриелу поставить на путь долга, внушить ей силу позабыть свою несчастную страсть и самому быть для молодой женщины не любовником, но ее душевным врачом.
– Графиня, выпейте вина, оно подкрепит вас, – сказал он, приподнимая ее.
Габриела выпила без сопротивления, но зубы ее стучали по хрусталю, и нервная дрожь потрясала ее нежное тело.
Готфрид придвинул стул и, прижав к своим губам руку Габриелы, сказал с грустью:
– Мы одни, и так как случай дает нам возможность переговорить свободно, надо разъяснить тайну, которая тяготеет над нами. И так уже произошло слишком много, чтобы мешкать еще более, и я умоляю вас сказать откровенно, что понудило вас, замужнюю женщину и мать, покуситься на самоубийство.
– Я хотела положить конец моему унижению, – прошептала она прерывающимся голосом.
– Унижение можно чувствовать только перед врагом, но никак не перед другом, преданным всею душой. Или вы считаете меня пошлым фатом, способным гордиться злополучной любовью, которую я внушил вам совершенно невольно – Бог мне в том свидетель! – и надеюсь, Он научит меня и поможет мне возвратить вам утраченное спокойствие, вырвать горечь из вашего гордого сердца. Я понимаю, Габриела, как вы страдаете, но вы простите, быть может, другу, каким я желаю быть для вас, что он угадал вашу тайну, в которой желал бы сомневаться.
Графиня закрыла лицо руками и разразилась судорожными рыданиями.
– Не плачьте так, вы приводите меня в отчаяние. А между тем, что могу я иное, как только стараться поддержать вас в нравственной борьбе, которой я невольная причина… Нас разделяет пропасть. – Он наклонился и, заглянув блестящим, глубоким взглядом в глаза молодой женщины, спросил: – Разве вы хотели бы замарать ваше чувство ко мне связью, которая стоила бы вам чести и уважения даже того человека, который был бы так низок и воспользовался вашей любовью к нему. Поверьте, где нет уважения, там нет и настоящей любви. Обладать вами как законной женой, любить вас и быть вами любимым нераздельным чувством должно быть упоительным счастьем для того, кто мог бы этого достичь. – Последние слова он произнес глухим голосом. – Но мы с вами должны жить каждый в тех условиях, в какие Бог поставил нас.
Габриела быстро приподнялась, губы ее дрожали, и голосом, исполненным горечи, она воскликнула:
– Разве думают о последствиях, когда любят? Разве не вменяют себе в заслугу своего равнодушия ко всему? Я не краснея созналась бы в любви к человеку, который отвечал бы моей страсти, но когда знаешь, что служишь лишь предметом сострадания, то нет другого средства залечить рану самолюбия, кроме самоубийства.
– Вы ошибаетесь, Габриела, истинная привязанность доказывается сопротивлением искушению. Не трудно наслаждаться, когда не несешь даже ответственности, так как главная тяжесть позора ложится на обманутого мужа и на семью. А женщину, послужившую игрушкой, нравственно погубленную, можно оттолкнуть, бросить, когда она надоест, когда угаснет пламень этой минутной страсти. Я знаю, многие найдут меня безумным, но я имею свой взгляд на вещи. Я докажу вам мою глубокую дружбу и уважение, которое вы мне внушаете, спасая вас от самой себя, а не зло употребляя вашей слабостью. Я знаю, что вы предпочли бы мою любовь и все ее гибельные последствия жестоким словам, которые я вам говорю, но настанет время – вы отдадите мне справедливость и будете мне благодарны.
Габриела слушала, вздрагивая при каждом слове, как от удара ножом. Вдруг глаза ее загорелись.
– Хорошо, – воскликнула она с жаром, – я не имею для вас никакого значения и не нахожу никакой заслуги в том, что вы так упорно отталкиваете то, чем не желаете обладать. Но в таком случае, я спрашиваю вас, по какому праву вы вырвали меня у смерти, добровольно мной избранной и которая уже почти избавила меня от всего этого стыда и унижения, от этой адской, проклятой страсти, пока она не довела меня до преступления? – Сжимая на груди руки и трепеща от бешенства, она продолжала: – Бывали минуты, я придумывала, какою бы смертью уничтожить вас, которого я желала бы ненавидеть, но обречена любить. Ах, в этой мысли мой приговор, мое унижение, которое подавляет, убивает меня. Наслаждайтесь теперь вашей победой и презирайте меня: я это заслужила.
Голос ее оборвался, она хотела вскочить с дивана, но не имела уже на то сил.
Испуганный ее порывом, Готфрид встал.
– Вы искажаете смысл моих слов и не хотите понять меня, Габриела. Я вижу, что не могу благотворно повлиять на вас и быть вашим другом; но так как мое присутствие унижает вас, роняет вас в ваших собственных глазах до того, что вы решились на самоубийство, то мне остается только избавить вас от тягостного вам свидетеля вашей слабости. Я оставлю на днях ваш дом. И да хранит вас Бог, да поможет вам стать снова спокойной и счастливой. Прощайте.
Он взял ее руку, поцеловал и повернулся, чтобы уйти, но едва сделал несколько шагов, Габриела вскрикнула глухим голосом. Взволнованный, не зная, что делать, он снова подошел к дивану.
– Готфрид, останьтесь, я сделаю все по вашему указанию, только не уезжайте. А еще, – молвила она, сжимая крепко горячей ручкой руку молодого человека, – поклянитесь честью ответить откровенно на мой вопрос.
– Обещаю.
– Скажите, любили ли бы вы меня, если бы я была свободна, если бы честь и долг не становились между нами?
Лицо Готфрида вспыхнуло, на мгновение прошлое и будущее исчезли для него. Он чувствовал, он видел лишь чудный влажный взор, устремленный на него с выражением любви и мучительной скорби.
– Да, Габриела, если б я мог, не краснея, не делаясь бесчестным, обладать вами, как своей законной собственностью, я бы любил вас всеми силами своей души.
С улыбкой счастья на устах графиня упала на подушки и закрыла глаза. Румянец на щеках и ровное дыхание успокоили Веренфельса и дали ему надежду, что это злополучное приключение не будет иметь дурных последствий. Он придвинул к дивану столик, поставил на него колокольчик так, чтобы графиня могла его достать, и ушел. Но голова его горела, и множество тяжелых мыслей бушевало в ней.
Уложив после чая Танкреда, он намеревался выйти в сад, чтобы посмотреть оранжерею и придумать, если окажется нужным, какое-нибудь благовидное объяснение, как вдруг Сицилия, взволнованная, вбежала к нему в комнату.
– Ах, господин Веренфельс, что такое случилось? Мне кажется, графиня умирает: надо позвать доктора и дать знать графу.
– Что такое? Этого не может быть, – возразил Готфрид. – С графиней действительно произошел несчастный случай, но нет и часу, как я видел ее, и она чувствовала себя хорошо.
– А я покоя не имела на крестинах, что-то толкало меня вернуться домой, – говорила со слезами камеристка. – В половине десятого я уже возвратилась. Найдя графиню уснувшей на диване, я ушла из комнаты, но так как затем долго не было звонка, я вошла, чтобы узнать, не желает ли графиня чаю. И тут я заметила, что она в каком-то необыкновенном состоянии. Глаза были полуоткрыты, она мне не отвечала и, казалось, не слышала моих слов, а когда мы с Триной переносили ее на постель, тело ее казалось совсем бесчувственным. Лишь бы она не отравилась, я давно этого боюсь.
– Нет, нет, причина такого состояния, вероятно, – слишком сильный запах в оранжерее. Вернитесь к больной, а я пойду велю послать верхом одного гонца к графу, а другого к доктору.
– Бога ради, господин Веренфельс, придите на одну минуту взглянуть на графиню. Быть может, вы знаете, что делать в таком страшном состоянии до приезда доктора, – умоляла горничная.
– Хорошо, я приду, как только сделаю нужные распоряжения.
Десять минут спустя Готфрид снова наклонился над Габриелой. Она лежала на постели в полном упадке сил, сменившим нервное возбуждение. Была минута, он сам думал, что она умирает, и сердце его мучительно сжалось. Что делать? Как помочь?
– Графиня, бога ради, скажите, что вы чувствуете? – проговорил он с волнением. Его голос имел магическую силу и, казалось, вывел Габриелу из летаргии; веки ее медленно поднялись, и голосом слабым, как легкое дуновение, она прошептала:
– Ничего, слабость.
Мучимый беспокойством и страхом, Готфрид вышел в сад и стал ходить взад и вперед. Он желал, чтобы доктор и граф приехали скорей, и вместе с тем боялся, чтобы Габриела в бреду не выдала своей несчастной тайны. Какое тяжелое усложнение! Он прошел в оранжерею и осмотрел сломанную дверь. К своему крайнему удивлению, он увидел, что она была заперта снаружи садовником, который, вероятно, даже не подозревал, что графина находится там. Это обстоятельство могло быть благоприятно для объяснения случившегося.
В своем нетерпении Готфрид пошел ждать доктора и графов на дворе и вскоре увидел всадника, который мчался во весь опор на взмыленном коне. То был Арно, бледный и запыхавшийся от быстрой езды.
– Ну, что, жива она? – спросил он, соскакивая с лошади. – Скажите, бога ради, Готфрид. Я вижу по вашему лицу, что произошло нечто ужасное.
В коротких словах и держась насколько возможно правды, Веренфельс рассказал, что графиня пошла в оранжерею и была заперта там, вероятно, одним из садовников, конечно, не с намерением.
А когда по возвращении от судьи Танкред искал свою мать и не мог ее нигде найти, то он, Готфрид, боясь, не случилось ли что-нибудь, пошел в сад и, проходя мимо оранжереи (куда, как видели, направилась графиня), ему показалось, что он слышит слабый стон; тогда он выломал дверь и нашел молодую женщину в бессознательном состоянии.
Но так как она скоро пришла в себя, то он не полагал, что это может принять серьезный оборот.