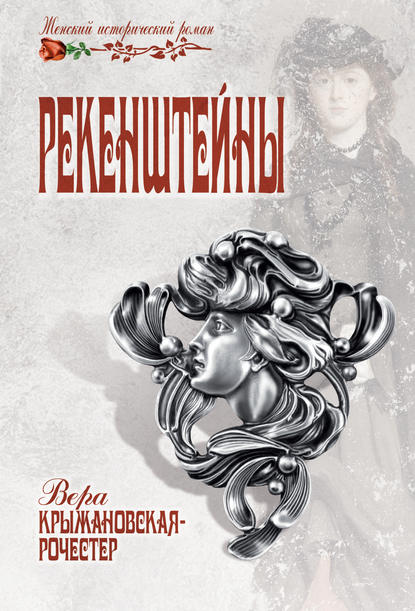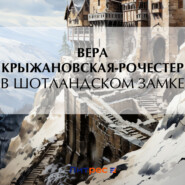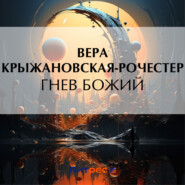По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рекенштейны
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Готфрид говорил без всякой задней мысли, но в Габриеле слова: «Вы ошибаетесь в ваших собственных чувствах» – вдруг подняли сильную бурю. Давно она подозревала, какого рода чувство внушал ей Веренфельс, и теперь ее волнение не оставляло ей никакого сомнения насчет несчастной страсти, покорившей ее ветреное сердце. И это сознание внушило ей мысль солгать, что она любит Арно.
Что значили слова Готфрида? Было ли то случайное мнение, или он подозревал истину, действительную причину ее ненависти, такой гордой, пылкой и страшной? Ей казалось, она умрет под тяжестью унижения от мысли, что холодный, сдержанный молодой человек угадал ее тайну. В эту минуту взоры их встретились, и в одно мгновение Готфрид понял то, что лишь подозревал. Под мимолетным впечатлением синие глаза выдали тайну, и лицо Габриелы вспыхнуло.
Графиня чувствовала себя сраженной; все фибры в ней дрожали, сердце ее билось так, что готово было разорваться, в глазах потемнело, и, боясь упасть с подоконника, она встала и ощупью искала спинку ближайшего кресла. Веренфельс невольно опустил глаза и хотел поспешно уйти, но, заметив смертельную бледность на лице Габриелы, которая с помутившимся взглядом едва держалась на ногах, он кинулся, чтобы поддержать ее.
– Боже мой! Вам дурно, графиня?
Его голос заставил ее очнуться; похолодевшие пальцы оттолкнули его руку, но едва она попробовала двинуться с места, как голова ее закружилась, и, изнеможенная волнениями этого дня, она упала без чувств на ковер.
Готфрид, не менее бледный, чем она, стоял с минуту, устремив глаза на простертую у его ног женщину. В нем тоже все бушевало и помрачало его обычное присутствие духа. Сознавать себя любимым – опасный яд.
Выйдя с трудом из своего нравственного оцепенения, он нажал пуговку звонка и, как только вошла Сицилия, хотел уйти, но камеристка удержала его.
– Сделайте милость, помогите мне отнести графиню на кровать. Эта глупая Гертруда станет болтать в людской, когда узнает, что графиня упала в обморок во время разговора с вами. Потому я и не хочу ее звать, а одной мне не справиться.
Ничего не отвечая, молодой человек поднял Габриелу и, сопровождаемый камеристкой, которая указывала ему дорогу, принес и положил графиню на кровать. Спальней Габриелы была прелестная комната, достойная своей обитательницы. Стены и мебель были обтянуты белым муаром; кровать с балдахином была украшена драпировкой из той же материи, с золотыми галунами и с вышивками; лампа под бледно-голубым колпаком разливала нежный свет, подобный свету луны.
Эта волшебная обстановка не могла не произвести некоторого впечатления на Готфрида. Со стесненным сердцем он стоял с минуту, устремив взор на Габриелу. Она лежала неподвижно на кружевных подушках, с закрытыми глазами, бледная и прозрачная, как идеальное видение. Затем вдруг, оторвав глаза от опасного созерцания, он поспешно ушел.
Сицилия стояла к ним спиной и озабоченно рылась в шкафчике, наполненном пузырьками с лекарствами. После ухода молодого человека она подошла к кровати и стала заботливо ухаживать за своей госпожой. Хитрая камеристка знала графиню до тонкости, была ее поверенной и имела на нее хотя и скрытое, но большое влияние. Для Сицилии причина ненависти Габриелы к воспитателю не была тайной, она угадывала ее, и эта скрытая любовь, более упорная среди многих мимолетных увлечений ее пылкой и прихотливой госпожи, не нравилась ей.
Веренфельс вернулся к себе тяжело взволнованный. Графиня любила его, он больше в этом не сомневался. Но какое фатальное положение создавала ему эта страсть.
«Уезжай, несмотря ни на что. Твой долг покинуть этот дом, – нашептывал ему его добрый гений. – Бороться против любви такой красивой женщины опасно, не играй с огнем, обожжешься!» Но другой голос, под внушением какого-то необъяснимого чувства, шептал ему: «Ты не можешь уехать, обещая остаться. Имеешь ли ты право вызывать семейную ссору?» И он чувствовал себя как бы прикованным невидимой цепью.
Молодой человек облокотился на стол, сжимая рукой пылающий лоб. Колеблясь между двух противоречивых внушений, он решился на компромисс, эту первую ступень падения. И сказал себе: «Я уеду, но не сейчас, буду ждать первого же приличного предлога».
Так как ему хотелось покончить скорей с этими колебаниями, он встал и тотчас пошел к графу, где нашел и Арно, который только что возвратился в замок.
– Граф, – сказал он после короткого обмена незначительными фразами, – я пришел извиниться за резкость моих вчерашних слов и благодарить вас за ваше доверие и доброту ко мне, превышающие мои заслуги; с глубокой благодарностью я остаюсь в вашем доме и по-прежнему буду заниматься воспитанием Танкреда.
– Вы объяснились с моей женой? Обещала она быть впредь благоразумней?
– Я сейчас говорил с графиней и обещал не делать ничего, что могло бы причинить ей неудовольствие. Ах, граф, вы поставили меня в очень неловкое положение; я и не воображал, что вы так строго отнесетесь к этому вопросу. Тяжело видеть, когда женщина вынуждена смириться, и графине было так трудно этому подчиниться, что, когда я ушел, ей сделалось дурно.
Арно слушал молча, но при последних словах у него невольно вырвалось глухое восклицание, и, как только Готфрид ушел, он сказал с волнением:
– Как ты мог, отец, отнестись к Габриеле с такой безжалостной суровостью? Личное извинение было совершенно излишне. Веренфельс мог бы удовлетвориться и чем-нибудь меньшим для того, чтобы остаться. Вчера он достаточно отплатил за обиду. Бедная женщина! Что, если ее здоровье пострадает от такого тяжелого унижения?
– Милый Арно, если б ты имел счастье быть, как я, одиннадцать лет мужем Габриелы, – сказал граф спокойно, с горькой улыбкой, – ее обморок не встревожил бы тебя так. Богу известно, каких мук мне стоило это завидное счастье. От души желаю, чтобы судьба избавила тебя от такой доли и послала тебе жену кроткую, чистую и любящую, какой была твоя мать. С нею я наслаждался истинным счастьем и душевным спокойствием. Но женщины, которые обладают такой демонической красотой, как Габриела, вызывающей страсть, но ничего не дающей сердцу, и поклоняются лишь самим себе, – неизбежно делают человека несчастным. Я привык к этим супружеским бурям, они разыгрывались всегда вследствие моей неуступчивости, моего нежелания сделаться нищим. Габриела разорила бы любого, будь он богат как царь, если бы дали ей волю.
Молодой граф опустил голову. Несмотря на свое ослепление, он чувствовал, что отец прав и что, конечно, он должен был много страдать, чтобы состариться прежде времени и иметь силу сопротивляться женщине, которую так страстно любил.
– Ты навестишь ее? – спросил он тихо.
– Нет, это вызвало бы новую сцену, – сказал спокойно граф. – Она очень сердита, что я осмелился принудить ее к чему-то, и не захочет меня видеть. Ко всему этому надо относиться терпеливо. Конечно, в первые годы нашего суп ружества такие раздоры отнимали у меня сон и мирное настроение духа, и я заплатил тяжелую дань нравственной борьбе, прежде чем приобрел необходимое спокойствие, чтобы выносить такие бури. Но ты, Арно, пойди к ней, поговори с ней серьезно и узнай, не нужно ли ей доктора.
– Я сейчас иду, отец, раз это ты позволяешь, и постараюсь ее успокоить.
Молодой человек вышел очень взволнованный посвящением в супружеские отношения отца и мыслью, что он проникнет в святилище этой пленительной женщины.
Сицилия радостно встретила его у дверей комнат графини.
– Слава богу, что вы пришли, граф, – воскликнула она. – Ваше присутствие, конечно, хорошо подействует на графиню; она в страшно нервном состоянии.
И, не предупредив Арно, что ее госпожа уже в постели, впустила его к ней.
Бледный, со стесненным сердцем он остановился на минуту у порога, затем легкими шагами приблизился к постели и склонился над Габриелой, которая лежала с закрытыми глазами, меж тем как слезы тихо катились по ее побледневшим щекам.
– Как вы себя чувствуете, дорогая Габриела? – спросил он, взяв ее за руку.
Молодая женщина открыла глаза и, стараясь улыбнуться, указала ему на стул возле кровати. Арно сел и ласковой речью старался ее утешить и успокоить. Габриела сначала слушала молча; затем вдруг приподнялась, привлекла его к себе и, прижав голову к его плечу, разразилась судорожными рыданиями.
Что значили слова Готфрида? Было ли то случайное мнение, или он подозревал истину, действительную причину ее ненависти, такой гордой, пылкой и страшной? Ей казалось, она умрет под тяжестью унижения от мысли, что холодный, сдержанный молодой человек угадал ее тайну. В эту минуту взоры их встретились, и в одно мгновение Готфрид понял то, что лишь подозревал. Под мимолетным впечатлением синие глаза выдали тайну, и лицо Габриелы вспыхнуло.
Графиня чувствовала себя сраженной; все фибры в ней дрожали, сердце ее билось так, что готово было разорваться, в глазах потемнело, и, боясь упасть с подоконника, она встала и ощупью искала спинку ближайшего кресла. Веренфельс невольно опустил глаза и хотел поспешно уйти, но, заметив смертельную бледность на лице Габриелы, которая с помутившимся взглядом едва держалась на ногах, он кинулся, чтобы поддержать ее.
– Боже мой! Вам дурно, графиня?
Его голос заставил ее очнуться; похолодевшие пальцы оттолкнули его руку, но едва она попробовала двинуться с места, как голова ее закружилась, и, изнеможенная волнениями этого дня, она упала без чувств на ковер.
Готфрид, не менее бледный, чем она, стоял с минуту, устремив глаза на простертую у его ног женщину. В нем тоже все бушевало и помрачало его обычное присутствие духа. Сознавать себя любимым – опасный яд.
Выйдя с трудом из своего нравственного оцепенения, он нажал пуговку звонка и, как только вошла Сицилия, хотел уйти, но камеристка удержала его.
– Сделайте милость, помогите мне отнести графиню на кровать. Эта глупая Гертруда станет болтать в людской, когда узнает, что графиня упала в обморок во время разговора с вами. Потому я и не хочу ее звать, а одной мне не справиться.
Ничего не отвечая, молодой человек поднял Габриелу и, сопровождаемый камеристкой, которая указывала ему дорогу, принес и положил графиню на кровать. Спальней Габриелы была прелестная комната, достойная своей обитательницы. Стены и мебель были обтянуты белым муаром; кровать с балдахином была украшена драпировкой из той же материи, с золотыми галунами и с вышивками; лампа под бледно-голубым колпаком разливала нежный свет, подобный свету луны.
Эта волшебная обстановка не могла не произвести некоторого впечатления на Готфрида. Со стесненным сердцем он стоял с минуту, устремив взор на Габриелу. Она лежала неподвижно на кружевных подушках, с закрытыми глазами, бледная и прозрачная, как идеальное видение. Затем вдруг, оторвав глаза от опасного созерцания, он поспешно ушел.
Сицилия стояла к ним спиной и озабоченно рылась в шкафчике, наполненном пузырьками с лекарствами. После ухода молодого человека она подошла к кровати и стала заботливо ухаживать за своей госпожой. Хитрая камеристка знала графиню до тонкости, была ее поверенной и имела на нее хотя и скрытое, но большое влияние. Для Сицилии причина ненависти Габриелы к воспитателю не была тайной, она угадывала ее, и эта скрытая любовь, более упорная среди многих мимолетных увлечений ее пылкой и прихотливой госпожи, не нравилась ей.
Веренфельс вернулся к себе тяжело взволнованный. Графиня любила его, он больше в этом не сомневался. Но какое фатальное положение создавала ему эта страсть.
«Уезжай, несмотря ни на что. Твой долг покинуть этот дом, – нашептывал ему его добрый гений. – Бороться против любви такой красивой женщины опасно, не играй с огнем, обожжешься!» Но другой голос, под внушением какого-то необъяснимого чувства, шептал ему: «Ты не можешь уехать, обещая остаться. Имеешь ли ты право вызывать семейную ссору?» И он чувствовал себя как бы прикованным невидимой цепью.
Молодой человек облокотился на стол, сжимая рукой пылающий лоб. Колеблясь между двух противоречивых внушений, он решился на компромисс, эту первую ступень падения. И сказал себе: «Я уеду, но не сейчас, буду ждать первого же приличного предлога».
Так как ему хотелось покончить скорей с этими колебаниями, он встал и тотчас пошел к графу, где нашел и Арно, который только что возвратился в замок.
– Граф, – сказал он после короткого обмена незначительными фразами, – я пришел извиниться за резкость моих вчерашних слов и благодарить вас за ваше доверие и доброту ко мне, превышающие мои заслуги; с глубокой благодарностью я остаюсь в вашем доме и по-прежнему буду заниматься воспитанием Танкреда.
– Вы объяснились с моей женой? Обещала она быть впредь благоразумней?
– Я сейчас говорил с графиней и обещал не делать ничего, что могло бы причинить ей неудовольствие. Ах, граф, вы поставили меня в очень неловкое положение; я и не воображал, что вы так строго отнесетесь к этому вопросу. Тяжело видеть, когда женщина вынуждена смириться, и графине было так трудно этому подчиниться, что, когда я ушел, ей сделалось дурно.
Арно слушал молча, но при последних словах у него невольно вырвалось глухое восклицание, и, как только Готфрид ушел, он сказал с волнением:
– Как ты мог, отец, отнестись к Габриеле с такой безжалостной суровостью? Личное извинение было совершенно излишне. Веренфельс мог бы удовлетвориться и чем-нибудь меньшим для того, чтобы остаться. Вчера он достаточно отплатил за обиду. Бедная женщина! Что, если ее здоровье пострадает от такого тяжелого унижения?
– Милый Арно, если б ты имел счастье быть, как я, одиннадцать лет мужем Габриелы, – сказал граф спокойно, с горькой улыбкой, – ее обморок не встревожил бы тебя так. Богу известно, каких мук мне стоило это завидное счастье. От души желаю, чтобы судьба избавила тебя от такой доли и послала тебе жену кроткую, чистую и любящую, какой была твоя мать. С нею я наслаждался истинным счастьем и душевным спокойствием. Но женщины, которые обладают такой демонической красотой, как Габриела, вызывающей страсть, но ничего не дающей сердцу, и поклоняются лишь самим себе, – неизбежно делают человека несчастным. Я привык к этим супружеским бурям, они разыгрывались всегда вследствие моей неуступчивости, моего нежелания сделаться нищим. Габриела разорила бы любого, будь он богат как царь, если бы дали ей волю.
Молодой граф опустил голову. Несмотря на свое ослепление, он чувствовал, что отец прав и что, конечно, он должен был много страдать, чтобы состариться прежде времени и иметь силу сопротивляться женщине, которую так страстно любил.
– Ты навестишь ее? – спросил он тихо.
– Нет, это вызвало бы новую сцену, – сказал спокойно граф. – Она очень сердита, что я осмелился принудить ее к чему-то, и не захочет меня видеть. Ко всему этому надо относиться терпеливо. Конечно, в первые годы нашего суп ружества такие раздоры отнимали у меня сон и мирное настроение духа, и я заплатил тяжелую дань нравственной борьбе, прежде чем приобрел необходимое спокойствие, чтобы выносить такие бури. Но ты, Арно, пойди к ней, поговори с ней серьезно и узнай, не нужно ли ей доктора.
– Я сейчас иду, отец, раз это ты позволяешь, и постараюсь ее успокоить.
Молодой человек вышел очень взволнованный посвящением в супружеские отношения отца и мыслью, что он проникнет в святилище этой пленительной женщины.
Сицилия радостно встретила его у дверей комнат графини.
– Слава богу, что вы пришли, граф, – воскликнула она. – Ваше присутствие, конечно, хорошо подействует на графиню; она в страшно нервном состоянии.
И, не предупредив Арно, что ее госпожа уже в постели, впустила его к ней.
Бледный, со стесненным сердцем он остановился на минуту у порога, затем легкими шагами приблизился к постели и склонился над Габриелой, которая лежала с закрытыми глазами, меж тем как слезы тихо катились по ее побледневшим щекам.
– Как вы себя чувствуете, дорогая Габриела? – спросил он, взяв ее за руку.
Молодая женщина открыла глаза и, стараясь улыбнуться, указала ему на стул возле кровати. Арно сел и ласковой речью старался ее утешить и успокоить. Габриела сначала слушала молча; затем вдруг приподнялась, привлекла его к себе и, прижав голову к его плечу, разразилась судорожными рыданиями.