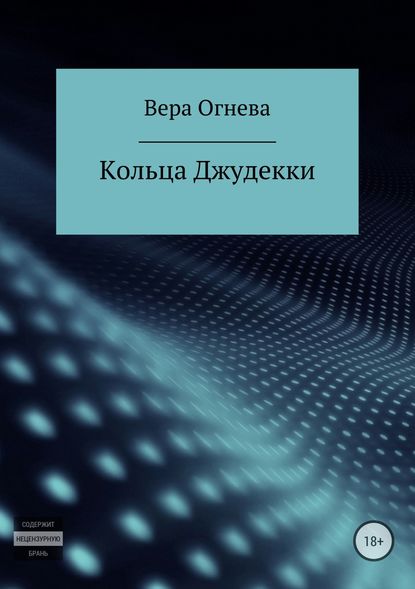По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кольца Джудекки
Автор
Год написания книги
2003
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Название, эва, много раз менялось. Борисовкой, Пучиной, помню звали, Скуратовкой, потом Томазовкой, Симоновкой, потом много еще как. Однова Ленскими горами нарекли.
– Может Ленинскими?
– Ага, ага. Дитлаг был. Еще Эль… не выговорю.
– Сейчас-то как зовется?
– Решили по имени слободского головы название давать. Стало быт сейчас – Алмазовка.
За разговором жуть и темная душная пелена немного отпустили. Слегка понужаемый стражем, Илья поднялся. Они двинулись в сторону площади, с которой началась жизнь Донковича /если оно – жизнь/ в городе Дите.
Площадь, по трезвом рассмотрении, оказалась совсем маленькой. Посередине пыльным монументом торчал колодец, в плиты которого стучи, не стучи – бес толку.
Они свернули в широкий пролом между домами, за которым начинались щели и повороты. Улочки петляли и загибались до ощущения, будто топчешься на одном месте. Илья уже решил, что его специально морочат, когда очередной переулок вывел к перекрестку. Та же брусчатка, тот же скудный городской ландшафт. Но здесь наличествовали люди. Илья остановился. За ним встал страж:
– Осмотрись маленько, только близко не подходи.
– Нельзя?
– В карантине, – слово «байкер» выговорил тщательно как иностранное, непонятное и важное, – отсидишь, тогда – да. Тогда – пожалуйста, путешествуй, где тебе вздумается. Можешь даже к суседям податься. Тока плохо у них.
Что там за соседи и плохо ли, хорошо ли живут, Илью пока не очень занимало. Он устал, будто в горку, отдышался маленько и спросил:
– Карантин для чего?
– Однова чуть город не вымер. Проявился, стало быть, человек с купырьями. Я как раз его принимал. Пока он от меня бегал – а и все бегают – пока ловили, да не враз поймали, он через мост в Игнатовку сиганул и в развалины ушел. А когда нагнали, он возьми и помри у нас на руках. Дохтур прежний сказывал, что он и бегал-то в беспамятстве. И пошло. Больше полгорода вымерло. С того и повелось, проявленца в карантин сажать.
– Сам-то ты не заболел?
– Заболел. Отлежался. Нас таких по-пальцам перечесть можно. Теперь только мы у колодцев дежурим.
– Жалование получаешь? – Донкович слушал, с более чем оправданным, интересом.
– Ага. И жена отдельная. Оружие, опять же.
Замечание про жену несколько обескуражило, но расспрашивать Илья не стал. Факт лег отдельным камешком в не складывающуюся пока мозаику местных нравов.
Держась ближе к домам, они обогнули невеликое пространство площади. По середине раскорячилось толстостенное каменное сооружение – нечто среднее между запущенным городским фонтаном и поилкой для скота. Неопределенного возраста и социального положения женщина, перевесившись через бортик, стирала белье. Рядом сидел мужчина в невероятных обносках, по виду – типичный бомж. Он опустил до невозможности грязные ноги в воду и прижмурился, подставив морщинистое лицо, невидимому солнцу. На женщину бич не обращал никакого внимания, впрочем, как и она на него. Напротив, молчаливой парочки, с уханьем и приговорками плескался восточного вида мужчина весь курчавый как женский лобок. К пробиравшимся под стеной Илье и стражнику группа не проявила никакого интереса.
– А почему у сухого колодца, ну там где я… проявился, людей не видно?
– Не селются. Не хочут. Зараза там сильно погуляла. Дома выжигать пришлось. Да и Сытый Туман рядом. Ушли оттуда люди.
За разговором они миновали открытое пространство и опять углубились в лабиринт переулков, где уже явно и по нарастающей присутствовали следы человеческой жизнедеятельности. Через улочку от дома к дому тянулись веревки, а то и перильца, с висевшими на них, неопрятного вида тряпками, циновками, похожими на водоросли лентами. На одной из веревок болталась целая рубаха. Илья присмотрелся. Материал незнакомый, на вид рогожа, но белая как снег. Нечто похожее он видел в Каирском институте папируса. Но там лист, изготовленный по всем правилам древнего папирусоделия, звенел от сухой жесткости и по цвету напоминал свежую солому. Балахон же тряпично шевелился под ветерком. Илья хотел потрогать. Стражник придержал:
– Нельзя.
– Прости, забыл. Не пойму, что это такое.
– Осока местная. В верховьях речки растет. Вернулся оттуда кто-то. Только там такую одежу выделывают. – И себе под нос, в задумчивости, – Надо же, вернулся. Или посылку передали?
Дальше некоторое время пробирались молчком, пока Илью не начали распирать новые вопросы:
– Сколько ты тут живешь?
– Кто ж знает? В возраст здесь уже вошел.
– А какой год у вас на дворе?
– Не считают тута годов.
Примолкни. Помолчи. Не распускай язык. Дай равнодушию, пропитавшему все вокруг, захватить и тебя. Успокойся. Так как, по большому счету, находишься ты, Илюша, на ТОМ СВЕТЕ. И переваривай себе, пожалуйста, полученную информацию особо не вдаваясь. Желательно, конечно, не рехнуться в самом начале, ум сохранить и душевные силы. И то, и другое ой как еще пригодится. Взять, хотя бы, состояние некоторой отрешенности в окружающих. Сколько Илья ни крутил головой по сторонам, ответного интереса не заметил.
А дома сейчас скучный вечер… телевизор поганые новости гонит…По виду местных палестин до техники тут еще не додумались. И страж косноязыкий попался, ничего от него толком не добьешься. Но вопрос Илья таки задал:
– У вас все по-русски говорят? Или есть другие языки? Лингва, мова, лэнгвидж…
– Да понял я. На каком кому нравится, на том и разговаривает. Есть, которые так и не научатся по-людски. Тараторят по-своему.
– А основной язык, государственный?
– У нас в слободе – как мы с тобой говорят. В Игнатовке шпанцев много. Там: донде, сьемпре, амиго, трабахо. В Крюковке же, тьфу – по фене.
– Как? – опешил Илья.
– Язык у них так называется. И понятно вроде, да уж больно срамно.
За разговором, как оказалось – пришли.
– Видишь притвор, где доски черные с клепками? – ткнул стражник в сторону боковой двери. – Не перепутай, в белый не сунься.
Илья взялся за тяжелое медное кольцо. Оно мягко провернулось, и дверь, не скрипнув, подалась. Из темного мрака пахнуло холодком, застоявшейся подвальной сыростью и водорослями.
Проводник слегка подтолкнул в спину. Илья шагнул. Страж протиснулся следом, потянул притвор на себя; тот мягко чмокнув, встал на место.
– Стой тут. Я доложу. Не ходи никуда. Придут за тобой. Только… – стражник замялся. – Не ерепенься, если что. Тута всяко бывает. Стерпи.
И канул в темноту.
Со света помещение показалось черной ямой. Только чуть погодя проступили углы, потолок, основание лестницы. Откуда-то сверху проникал серый свет. Илья потрогал дверь. Ручки или кольца с этой стороны не нашлось. Только короткая скоба. Подергал – не поддается. Так и остался стоять, переминаясь с ноги на ногу, в темноте и в сутолоке мыслей.
Оно потом конечно накроет. Железный Илья потом еще согнется, скрутится в спазме отчаяния. Или здешняя жизнь, /если оно жизнь/ покажется нормальной, приемлемой, милой? Ни хрена! Это все равно, что оторвать кусок плоти, положить его в лоток и смотреть: оживет, не оживет, зашевелится, не зашевелится.
Чтобы переключиться Илья зажмурил глаза. Перед внутренним взором поплыли лица коллег. Завтра на работе хватятся… Поганкин, по паспорту Головин, – зло съехидничает по случаю. Не любит Ильи. И не надо. Но отсюда даже его противная во всех отношения физиономия показалась родной. Проплыла и канула. Так вот будешь потом собирать по крупицам разные мелочи. И то, что вызывало раздражение и неприятие, из твоего далека станет роднее родного.
За что? Прорвался пустой вопрос. У кого спрашивать? У ТОГО? – невидящий взгляд к темному потолку. А Он, скорее всего, непричем. Происшедшее не похоже на мистический акт, скорее на неведомый физический эффект.
Так и положим. На том и успокоимся. Смерть, в конце концов, тоже просто физиологический акт. А за ним, как оказалось, Алмазовка. До нее были Ленинские Горы – это же с ума сойти можно! Дитлаг – понятно каждому. Алмазовка, однако! Это кого же так обозвали? Или, фамилия?