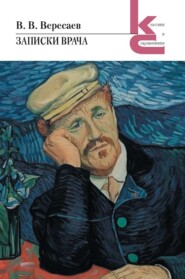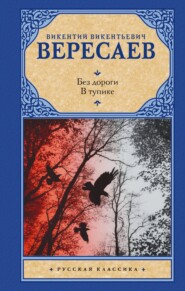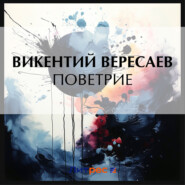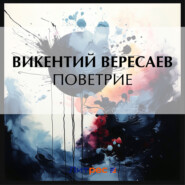По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гоголь в жизни
Жанр
Серия
Год написания книги
1932
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А. В. Никитенко, II, 292.
У вас много было забот и развлечений, и вместе с тем сосредоточенной в себя самого жизни, и было вовсе не до меня, и мне, тоже подавленному многими ощущениями, было не под силу лететь с светлой душой к вам навстречу. Душе моей были сильно нужны пустыня и одиночество. Я помню, как, желая вам передать сколько-нибудь блаженство души моей, я не находил слов в разговоре с вами, издавал одни только бессвязные звуки, похожие на бред безумия, и, может быть, до сих пор оставалось в душе вашей недоумение, за кого принять меня, и что за странность произошла внутри меня.
Гоголь – В. А. Жуковскому. Письма, II, 184.
Мне пришлось еще зиму просидеть в Ганау. Брат Петр Михайлович отправился отсюда в Дрезден, а потом и далее в Питер и на Русь, вместе с Гоголем, который провел с нами целый месяц, ожидая решения судьбы моей на будущий год, если бы мне ехать. Гоголь сошелся с нами; обещался жить со мною вместе, т. е. на одной квартире, по возвращении моем в Москву. Он, кажется, написал много нового и едет издавать оное. Он премилый, и я рад, что брат Петр Михайлович не один пустился в дальний путь, а с товарищем, с которым не может быть скучно и который бывал и перебывал в чужих краях и знает все немецкие обычаи и поверия. Гоголь обещался приехать пожить и в Симбирске, чтобы получить истинное понятие о странах приволжских.
Н. М. Языков (поэт) – своей сестре, 19 сент. 1841 г., из Ганау, Шенрок. Материалы, IV, 42.
Гоголь рассказал мне о странностях своей (вероятно, мнимой) болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных болезней; также и об особенном устройстве головы своей и неестественности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх ногами. Вообще, в Гоголе чрезвычайно много странного, – иногда даже я не понимал его, – и чудного; но все-таки он очень мил; обещался жить со мною вместе.
Н. М. Языков в письме к брату (в сент. 1841 г.), из Ганау. Шенрок. Материалы, IV, 43.
Достигли мы Дрездена благополучно… Вообще, ехалось хорошо… Дорожное спокойствие было смущено перелазкой из коляски в паровой воз, где, как сон в руку, встретились Бакунин (М. А., вскоре эмигрант, известный анархист) и весьма жесткие деревянные лавки. То и другое было страх неловко… Но мы в Дрездене. Петр Михайлович (Языков) отправился к своему семейству, а я остался один и наслаждаюсь прохладой после кофия, и много всего идет ко мне: идет то, о чем я ни с кем не говорю, идет то, о чем говорю с тобою… Нет, тебе не должна теперь казаться страшна Москва своим шумом и надоедливостью; ты должен теперь помнить, что там жду тебя я и что ты едешь прямо домой, а не в гости. Тверд путь твой, и залогом слов сих недаром оставлен тебе посох. О, верь словам моим!.. Ничего не в силах я тебе более сказать, как только: «верь словам моим». Есть чудное и непостижимое… Но рыдания и слезы глубоко вдохновенной и благодарной души помешали мне вечно досказать… и онемели бы уста мои. Никакая мысль человеческая не в силах себе представить сотой доли той необъятной любви, какую содержит бог к человеку!.. Вот все. Отныне взор твой должен быть светло и бодро вознесен горе: для сего была наша встреча. И если при расставании нашем, при пожатии рук наших не отделилась от моей руки искра крепости душевной в душу тебе, то, значит, ты не любишь меня. И если когда-нибудь одолеет тебя скука и ты, вспомнивши обо мне, не в силах одолеть ее, то, значит, ты не любишь меня. И если мгновенный недуг отяжелит тебя и низу поклонится дух твой, то, значит, ты не любишь меня… Но я молюсь, молюсь сильно в глубине души моей в сию самую минуту, да не случится с тобою сего, и да отлетит темное сомнение обо мне, и да будет чаще, сколько можно, на душе твоей такая же светлость, какою объят я весь в сию минуту… Уведоми меня в Москву, что ты получил это письмо; мне бы не хотелось, чтобы оно пропало, ибо оно написано в душевную минуту.
Гоголь – Н. М. Языкову, 27 сент. 1841 г., из Дрездена. Письма, II, 117.
IX
В России
(Октябрь 1841 г. – июнь 1842 г.)
В начале октября ст. стиля Гоголь в Петербурге, где пробыл пять дней.
А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 45.
Возвратившись из Царского Села в шестом часу, вдруг вижу вошедшего ко мне Гоголя. Он прибыл на житье и, напечатав здесь «Мертвые души», переселится в Москву.
П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 7 окт. 1841 г., из Петербурга. Переписка Грота с Плетневым, I, 408.
Воскресенье 12 окт. 1841 г. У меня обедал Гоголь. Понедельник 13 окт. Обедал и вечер провел у Балабиных, где был и Гоголь.
П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 14 окт. 1841 г. Переписка Грота с Плетневым, I, 411.
В 1841 году Гоголь приехал из-за границы в Москву через Петербург. Он сперва намерен был печатать «Мертвые души» здесь, но потом раздумал. В этот приезд он, между прочим, явился у А. О. Смирновой, в собственном доме ее на Мойке; был в хорошем расположении духа, но о «Мертвых душах» не было и помину. Тут она узнала, что он находится в коротких отношениях с семейством графов Виельгорских; это, впрочем, было для нее понятным: ибо она знала о его тесной дружбе с покойным графом Иосифом.
А. О. Смирнова по записи П. А. Кулиша. Кулиш, I, 302.
Меня предательски завезли в Петербург. Там я пять дней томился. Погода мерзейшая, – именно трепня.
Гоголь – Н. М. Языкову. Письма, II, 127.
Гоголя мы уже давно ждали, но, наконец, и ждать перестали; а потому внезапное появление его у нас в доме 18 октября 1841 г. произвело такой же радостный шум, как в 1839 году письмо Щепкина, извещавшее о приезде Гоголя в Москву. В этот год последовала сильная перемена в Гоголе, не в отношении к наружности, а в отношении к его нраву и свойствам. Впрочем, и по наружности он стал худ, бледен, и тихая покорность воле божией слышна была в каждом его слове: гастрономического направления и прежней проказливости как будто не бывало. Иногда, очевидно без намерения, слышался юмор и природный его комизм; но смех слушателей, прежде не противный ему или незамечаемый им, в настоящее время сейчас заставлял его переменить тон разговора. Проявление последней его проказливости случилось во время переезда Гоголя из Петербурга в Москву. Он приехал в одной почтовой карете с П. И. Пейкером и сидел с ним в одном купе. Заметя, что товарищ очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверил его, что он не Гоголь, а Гогель, прикинулся смиренным простачком, круглым сиротой и рассказал о себе преплачевную историю. Притом на все вопросы отвечал: «нет, не знаю». Пейкер оставил в покое своего неразговорчивого соседа. Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас. Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание видеть его. Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день. Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и бодрою походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он узнает в Гоголе несносного своего соседа Гогеля. Мы не могли удержаться от смеха, но Пейкер осердился. Невинная выдумка возвращала Гоголю полную свободу, и он, подняв воротник шинели выше своей головы (это была его любимая поза), всю дорогу читал потихоньку Шекспира или предавался своим творческим фантазиям. Между тем многие его за это обвиняли. Мы успокоили Пейкера, объяснив ему, что подобные мистификации Гоголь делал со всеми. Впоследствии они обедали у нас вместе, и Гоголь был любезен со своим прежним соседом.
Гоголь точно привез с собой первый том «Мертвых душ», совершенно конченный и отчасти отделанный. Он требовал от нас, чтоб мы никому об этом не говорили, а всем бы отвечали, что ничего готового нет. Начались хлопоты с перепискою набело «Мертвых душ». Покуда переписывались первые шесть глав, Гоголь прочел мне, Константину и Погодину остальные пять глав. Он читал их у себя на квартире, т. е. в доме Погодина, и ни за что не соглашался, чтоб кто-нибудь слышал их, кроме нас троих. Он требовал от нас критических замечаний, не столько на частности, как на общий состав и ход происшествия в целом томе. Я решительно не был тогда способен к такого рода замечаниям; частности, мелочи бросались мне в глаза во время чтения, но и об них я забывал после. И так я молчал, но Погодин заговорил. Что он говорил, я хорошенько не помню; помню только, что он, между прочим, утверждал, что в первом томе содержание поэмы не двигается вперед; что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода. Я принялся спорить с Погодиным, доказывая, что тут никакого коридора и никаких уродов нет, что содержание поэмы идет вперед, потому что Чичиков ездит по добрым людям и скупает мертвые души… Но Гоголь был недоволен моим заступлением и, сказав мне: «сами вы ничего заметить не хотите или не замечаете, а другому замечать мешаете…», просил Погодина продолжать и очень внимательно его слушал, не возражая ни одним словом.
С. Т. Аксаков. История знакомства, 51.
Я спрашивал Гоголя о запорожской трагедии. Он, махнув рукой, не сказал ни слова.
С. Т. Аксаков. Русь, 1880, № 6, 16.
Я в Москве. Дни все на солнце, воздух слышен свежий, осенний, передо мною открытое поле (Гоголь жил в доме Погодина на Девичьем Поле), и ни кареты, ни дрожек, ни души, словом – рай… Кофий уже доведен мною до совершенства; никаких докучных мух и никакого беспокойства ни от кого… У меня на душе хорошо, светло.
Гоголь – Н. М. Языкову, 23 окт. 1841 г., из Москвы. Письма, II, 128.
Пишу к тебе после долгой болезни, которая было меня одолела и которой начало уже получил я в Петербурге. Теперь мне гораздо лучше, хотя я исхудал сильно… Дело мое, по причине болезни, почти не начиналось. Теперь только началась переписываться рукопись («Мертвых душ»).
Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 25 ноября 1841 г., из Москвы. Письма, II, 129.
Обычный, формальный ход рукописи «Мертвых душ» встретил в Москве какого-то рода затруднения. Гоголь еще не знал, на что решиться, когда, пользуясь случайным пребыванием Белинского в Москве, он назначил ему в доме одного общего знакомого свидание, но, как следовало ожидать, под условием величайшего секрета. Пренебречь ропотом друзей, завязав откровенные сношения с критиком, он не мог даже по убеждениям своим. Мы знаем положительно, что Гоголь вместе с другими членами обыкновенного своего круга был настроен не совсем доброжелательно к Белинскому, и особенно потому, что критик стоял за суровую, отвлеченную, идеальную истину и, при случае, мало дорожил истиной исторической, а еще менее преданием, связями и воспоминаниями кружков. Гоголь несколько раз выражал недовольство свое критикой Белинского еще в Риме. С другой стороны, несмотря на тогдашнюю бдительность литературных партий и строгий присмотр за людьми, Гоголь понимал опасность оставаться безвыходно в одном кругу, да и сочувствие к деятельности Гоголя, высказанное не раз Белинским, сглаживало дорогу к сближениям; отсюда – секретные сношения, первый пример которых подал, как известно, Пушкин, посылавший тайком Белинскому свои книги и одобрительные слова. При первом таинственном свидании Гоголя с Белинским Гоголь решился на пересылку своей рукописи в Петербург, и тогда же обсуждены были меры для сообщения ей правильного и безостановочного хода, Белинский, возвращавшийся в Петербург, принял на себя хлопоты по первоначальному устройству этого дела, и направление, которое он дал ему тогда, может быть, решило и успех его. С ним, как мы слышали, пошла в Петербург и самая рукопись автора…
П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, 58.
Гоголь послал рукопись «Мертвых душ» в Петербург, кажется, с Белинским, по крайней мере, не сказав нам с кем. У нас возникло подозрение, что Гоголь имел сношение с Белинским, который приезжал на короткое время в Москву, секретно от нас; потому что в это время мы все уже терпеть не могли Белинского, переехавшего в Петербург для сотрудничества в издании «Отечественных записок» и обнаружившего гнусную враждебность к Москве, к русскому человеку и ко всему нашему русскому направлению.
С. Т. Аксаков. История знакомства, 54.
Принимаюсь за перо писать тебе, и не в силах… Но ты все узнаешь из письма к Александре Осиповне (Смирновой), которое доставь ей сейчас же, отвези сам, вручи лично. Белинский сейчас едет. Времени нет мне перевести дух, я очень болен и. в силу двигаюсь. Рукопись моя запрещена. Проделка и причина запрещения – все смех и комедия. Но у меня вырывают мое последнее имущество. Вы должны употребить все силы, чтобы доставить рукопись государю. Ее вручат тебе при сем письме. Прочтите ее вместе с Плетневым и Александрой Осиповной (Смирновой) и обдумайте, как обделать лучше дело. Какая тоска, какая досада, что я не могу быть лично в Петербурге! Но я слишком болен, я не вынесу дороги. Употребите все силы. Ваш подвиг будет благороден. Клянусь, ничто не может быть благороднее!
Гоголь – В. Ф. Одоевскому, начало января 1842 г., из Москвы. Письма, II, 135.
Расстроенный и телом, и духом, пишу к вам. Сильно хотел бы ехать теперь в Петербург; мне это нужно, я это знаю, и при всем том не могу. Никогда так не в пору не подвернулась ко мне болезнь, как теперь. Припадки ее приняли теперь такие странные образы… Но бог с ними! Не об болезни, а об цензуре я теперь должен говорить.
Удар для меня никак неожиданный: запрещают всю рукопись («Мертвых душ»). Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву, который несколько толковее других, с тем, что, если он находит в ней какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил мне прямо, что я тогда посылаю ее в Петербург. Снегирев через два дня объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной и в отношении к цели, и в отношении к впечатлению, производимому на читателя, и что, кроме одного незначительного места – перемены двух-трех имен (на которые я тот же час согласился и изменил), нет ничего, что бы могло навлечь притязанья цензуры самой строгой. Это же самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнал, что он представляет мою рукопись в комитет. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо обвинения, все без исключения, были комедии в высшей степени. Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название «Мертвые души», – закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия». В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мертвые значит ревижские, произошла еще большая кутерьма. «Нет, – закричал председатель и за ним половина цензоров, – этого и подавно нельзя позволить хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа; уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права». Наконец сам Снегирев увидел, что дело зашло уже очень далеко; стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям; что здесь совершенно о другом речь; что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупщика и на всеобщей ералаши, которую произвела такая странная покупка, что это ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но ничего не помогло.
«Предприятие Чичикова, – стали кричать все, – есть уже уголовное преступление». – «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», – заметил мой цензор. «Да, не оправдывает, а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя – душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет».
Эти главные пункты, основываясь на которых произошло запрещение рукописи. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, как-то в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец!» – сказал цензор Каченовский. Тут, по поводу, завязался у цензоров разговор, единственный в мире. Потом произошли другие замечанья, которые даже совестно пересказывать, и наконец дело кончилось тем, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места.
Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня в добавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь есть. Но дело, между прочим, для меня слишком серьезно. Из-за комедий или интриг мне похмелье. – У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существование заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод. Другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное мое расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее начатый труд. Светлых минут у меня немного, а теперь просто отымаются руки. Дело вот в чем. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись к государю. Я об этом пишу к А. О. Смирновой. Я просил ее чрез великих княжен или другими путями. Это – ваше дело; об этом вы сделаете совещание вместе. Рукопись моя у кн. Одоевского. Вы прочитайте ее вместе, человека три-четыре, не больше; не нужно об этом деле производить огласки.
Гоголь – П. А. Плетневу, 7 января 1842 г., из Москвы. Письма, II, 135.
Вы уже знаете, какую глупую роль играет моя странная фигура в нашем родном омуте, куда я не знаю, за что попал. С того времени, как только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине. Вижу знакомые, родные лица; но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то их в другом месте, кажется, видел; и много глупостей, непонятных мне самому, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно что в этой голове нет ни одной мысли, и если вам нужен теперь болван, для того чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь теперь к вашим услугам. Вы на меня можете надеть и шляпку, и все, что хотите, можете сметать с меня пыль, мести у меня под носом щеткой, и я не чихну, и даже не фыркну, не пошевелюсь…
Гоголь – М. П. Балабиной, январь 1842 г., из Москвы. Письма, II, 140.
Голова у меня одеревенела и ошеломлена так, что я ничего не в состоянии делать, – не в состоянии даже чувствовать, что ничего не делаю. Если б ты знал, как тягостно мое существование здесь, в моем отечестве. Жду и не дождусь весны и поры ехать в мой Рим, в мой рай, где я почувствую вновь свежесть и силы, охладевающие здесь… О, много, много пропало, много уплыло!.. Приезжай когда-нибудь, хоть под закат дней, в Рим, на мою могилу, если не станет уж меня в живых. Боже, какая земля! какая земля чудес! и как там свежо душе!..
Гоголь – М. А. Максимовичу, 10 генваря 1842 г., из Москвы. Письма. II, 139.
Что ж вы всё молчите все? что нет никакого ответа? Получил ли ты рукопись? получил ли письма? Распорядились ли вы как-нибудь? Ради бога, не томите. Граф Строганов теперь велел сказать мне, что он рукопись пропустит, что запрещение и пакость случились без его ведома, и мне досадно, что я не дождался этого неожиданного для меня оборота; мне не хочется также, чтобы цензору был выговор. Ради бога, обделайте так, чтобы всем было хорошо, и, пожалуйста, не медлите. Время уходит, время, в которое расходятся книги.
Гоголь – В. Ф. Одоевскому, вторая половина января 1842 г., из Москвы. Письма, II, 140.
Под весну я получила от Гоголя письмо очень длинное, все исполненное слез, почти стону, в котором жалуется с каким-то почти детским отчаянием на все насмешливые отметки московской цензуры. К письму была приложена просьба к государю, в случае что не пропустят первый том «Мертвых душ». Эта просьба была прекрасно написана, очень коротко, исполнена достоинства и чувства, вместе доверия к разуму государя, который один велел принять «Ревизора» вопреки мнению его окружавших. Я, однако, решилась прибегнуть к совету графа М. Ю. Виельгорского; он горячо взялся за это дело и устроил все с помощью князя М. А. Дондукова, бывшего тогда попечителем университета.