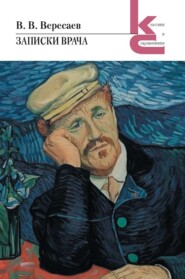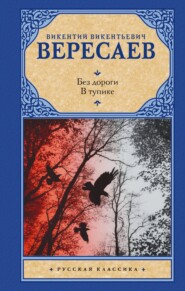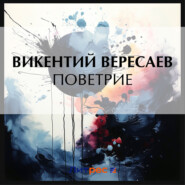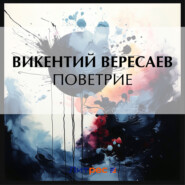По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гоголь в жизни
Жанр
Серия
Год написания книги
1932
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А. О. Смирнова. Записки, 315.
Граф! Узнав о стесненном положении, в котором находится г. Гоголь, автор «Ревизора» и один из наших самых известных современных писателей, нуждающийся в особом содействии, думаю, что исполню по отношению к вам свой долг, если извещу вас об этом и возбужу в вас интерес к молодому человеку. Может быть, вы найдете возможным доложить о нем императору и получить от него знак его высокой щедрости. Г. Гоголь строит все свои надежды, чтоб выйти из тяжелого положения, в которое он попал, на напечатании своего сочинения «Мертвые души». Получив уведомление от московской цензуры, что оно не может быть разрешено к печати, он решил послать ее в Петербург. Я не знаю, что ожидает там это сочинение, но это сделано по моему совету. В ожидании же исхода Гоголь умирает с голоду и впал в отчаяние. Я нимало не сомневаюсь, что помощь, которая была бы оказана ему со стороны его величества, была бы одной из наиболее ценных.
Граф С. Г. Строганов (попечитель Моск. учебн. округа) – гр. А. X. Бенкендорфу (шефу жандармов), 29 янв. 1842 г. Мих. Лемке. «Николаевские жандармы». СПб., 1909. Стр. 135. (Франц.)
Попечитель Моск. учебн. округа генерал-адъютант гр. Строганов уведомляет меня, что известный писатель Гогель находится теперь в Москве в самом крайнем положении, что он основал всю надежду свою на сочинении своем под названием «Мертвые души», но оно московскою цензурою не одобрено и теперь находится в рассмотрении здешней цензуры, и как между тем Гогель не имеет даже дневного пропитания и оттого совершенно упал духом, то граф Строганов просит об исходатайствовании от монарших щедрот какого-либо ему пособия. Всеподданнейше доношу вашему императорскому величеству о таком ходатайстве гр. Строганова за Гогеля, который известен многими своими сочинениями, в особенности комедией своей «Ревизор», я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего вашего величества повеления о выдаче в единовременное пособие пятьсот рублей серебром.
Граф А. X. Бенкендорф в докладе императору Николаю. На докладе пометка царя: «Согласен». Деньги были посланы через несколько дней. М. Лемке, 135.
Я был болен, очень болен, и еще болен доныне внутренне. Болезнь моя выражается такими страшными припадками, каких никогда еще со мною не было; но страшнее всего мне показалось то состояние, которое напомнило мне ужасную болезнь мою в Вене, а особливо когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки; наконец, совершенно сомнамбулическое состояние. И нужно же, в довершение всего этого, когда и без того болезнь моя была невыносима, получить еще неприятности, которые в здоровом состоянии человека бывают потрясающи! Сколько присутствия духа мне нужно было собрать в себе, чтобы устоять! И я устоял; я креплюсь, сколько могу; выезжаю даже из дому, не жалуюсь и никому не показываю, что я болен, хотя часто, часто бывает не под силу. Теперь я вижу, что мне совсем не следовало приезжать… А главное, – что хуже всего, – я не в силах здесь заниматься трудом, который для меня есть все. Зато с каким нетерпением ожидаю весны!.. Покамест я все еще не здоров. Меня томит и душит все, и самый воздух. Я был так здоров, когда ехал в Россию, думал, что теперь удастся прожить в ней поболее, узнать те стороны ее, которые были доселе мне не так коротко знакомы. Все пошло, как кривое колесо…
Гоголь – М. П. Балабиной, в феврале 1842 г., из Москвы. Письма, II, 147.
Я получил ваше уведомление о том, что рукопись пропускается. Дай бог, чтоб это было так, но я еще не получил ее, хотя три дни уже прошло после полученья вашего письма. Я немножко боюсь, что она попала к Никитенке (цензор). Он кроме своих цензорских должностных взглядов, понимает звание цензора в смысле древних цензоров римских, то есть наблюдателей за чистотою нравов, и потому многие мои выражения пострадают сильно от него. Словом, не могу еще предаваться надежде, пока вовсе не окончится дело. Дай бог, чтоб оно было хорошо. Я уже ко всему приготовился… Нельзя ли на Никитенку подействовать со стороны каких-нибудь значительных людей, приободрить и пришпандорить к большей смелости? Добрый граф Виельгорский! Как я понимаю его душу! Но изъявить каким бы то ни было образом чувства мои – было бы смешно и глупо с моей стороны. Он слишком хорошо понимает, что я должен чувствовать.
Гоголь – П. А. Плетневу, 17 февр. 1842 г., из Москвы. Письма, II, 146.
Я помню, как ленивый и необщительный Гоголь, еще до появления своих «Мертвых душ», приехал в одну середу вечером к Чаадаеву. Долго на это он не решался, сколько ни упрашивали общие приятели упрямого малоросса; наконец он приехал, и, почти не обращая никакого внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать и потом, прохрапев весь вечер, очнулся, пробормотал два-три слова в извинение и тут же уехал. Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения.
Д. Н. Свербеев. Воспоминания о П. Я. Чаадаеве. Рус. Арх., 1868, 995.
В разговорах, как мы слышали из разных источников, Гоголь часто не принимал участия, молча и презрительно поглядывая на собеседников; в иных зарождалась даже мысль, что этот прием употреблялся им в некоторых случаях нарочно для прикрытия своего невольного смущения.
В. И. Шенрок. Материалы, IV, 757.
Однажды Булгакова (К. А. Булгаков, дилетант – любитель живописи, известный в 40-х годах чудак и повеса) посетил Гоголь и пресерьезно осматривал его коллекцию портретов и рисунков. Не заметив, что на диване сидел какой-то важный генерал, и к тому же очень щепетильный. Гоголь долго стоял над диваном, рассматривая висевшую над ним картину, не замечая сидевшего генерала, бесившегося от злобы. «Я заметил, – рассказывал Булгаков, – что Гоголь, не видя этого петуха, осеняет его своим длинным носом, и стал их представлять. «Mon cher, – сказал я генералу, моему старому приятелю, – je te presente la personne du celebre Gogol, lecrivain». Тогда надо было видеть, как флегматический Гоголь опустил свой длинный нос на моего бедного генерала, побагровевшего от неслыханного sans fagon обращения, и как они оба в унисон промычали что-то вместо приветствия.
П. П. Соколов. Воспоминания. Л., 1930. Стр. 134.
Я был болен и очень расстроен и, признаюсь, не в мочь было говорить ни о чем. Меня мучит свет и сжимает тоска, и как ни уединенно я здесь живу, но меня все тяготят здешние пересуды, и толки, и сплетни. Я чувствую, что разорвалися последние узы, связывавшие меня со светом. Мне нужно уединение, решительное уединение. О, как бы весело провели мы с тобой дни вдвоем за нашим чудным кофием по утрам, расходясь на легкий, тихий труд и сходясь на тихую беседу за трапезой и ввечеру! Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха. Я приеду сам за тобою… Здоровье мое сделалось значительно хуже. Мне советуют ехать в Гастейн… как кстати!.. Я бываю часто у Хомяковых; я их люблю; у них я отдыхаю душой.
Гоголь – Н. М. Языкову, 10 февр. 1842 г., из Москвы. Письма, II, 144.
Гоголь до невероятности раздражителен и самолюбив, как-то болезненно, хотя в нем это незаметно с первого взгляда, но тем хуже для него! В Москве он только и бывает, что у Хомяковых.
Н. М. Языков – Е. П. Языковой. Шенрок. Материалы, IV, 167.
Гоголь всегда держал себя бесцеремонно у Хомяковых: он капризничал неимоверно, приказывая по нескольку раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли ему налить по вкусу: чай оказывался то слишком горячим, то крепким, то чересчур разбавленным; то стакан был слишком полон, то, напротив. Гоголя сердило, что налито слишком мало. Одним словом, присутствующим становилось неловко; им только оставалось дивиться терпению хозяев и крайней неделикатности гостя.
П. И. Бартенев по записи В. И. Шенрока. Материалы, IV, 757.
В конце 1841 и в начале 1842 года начали возникать неудовольствия между Гоголем и Погодиным. Гоголь молчал, но казался расстроенным; а Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнимание к хозяевам, т. е. к нему, к его жене, к матери и теще, которые будто бы ничем не могли ему угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жалобы и обвинения Погодина казались так правдоподобными, что сильно смущали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева. Я, однако, объясняя себе поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми с издетства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать всякий вздор для скрытия истины, я старался успокоить других моими объяснениями. Я приписывал скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употреблял иногда Гоголь, когда его уличали в неискренности, единственно странности его характера и его рассеянности. Будучи погружен в совсем другие мысли, разбуженный как будто от сна, он иногда сам не знал, что отвечает и что говорит, лишь бы только отделаться от докучного вопроса; данный таким образом ответ невпопад надобно было впоследствии поддержать или оправдать, из чего иногда выходило целое сплетение разных мелких неправд. Впрочем, я должен сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками. Мне нередко приходилось объяснять самому себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их другим, т. е. что мы не можем судить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому-то, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных. На такое объяснение Погодин с злобным смехом отвечал: «разве что так». Я тогда еще не вполне понимал Погодина и потому не догадывался, что главнейшею причиною его неудовольствия было то, что Гоголь ничего не давал ему в журнал, чего он постоянно и грубо требовал, несмотря на все письма Гоголя. После объяснилось, что Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже записками, требуя статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, которые посылал ежедневно к нему снизу наверх. Такая жизнь сделалась мучением для Гоголя и была единственною причиною скорого его отъезда за границу. Теперь для меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина не могла иначе поступать с натурою Гоголя, самою поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. Погодин сделал много добра Гоголю, хлопотал за него горячо всегда и везде, передавал ему много денег (не имея почти никакого состояния и имея на руках большое семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в доме и по всему этому считал, что он имеет полное право распоряжаться в свою пользу талантом Гоголя и заставлять его писать в издаваемый им журнал. Погодин всегда имел добрые порывы и был способен сделать добро даже и такому человеку, который не мог заплатить ему тем же; но как скоро ему казалось, что одолженный им человек может его отблагодарить, то он уже приступал к нему без всяких церемоний, брал его за ворот и говорил: «я тебе помог в нужде, а теперь ты на меня работай».
Докуки Погодина увенчались, однако, успехом. Гоголь дал ему в журнал большую статью под названием «Рим», которая была напечатана в № 3 «Москвитянина». Он прочел ее в начале февраля предварительно у нас, а потом на литературном вечере у князя Дм. Вл. Голицына (у Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина). Несмотря на высокое достоинство этой пиесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было генерала-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пиесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей.
Многие дамы, незнакомые лично с Гоголем, но знакомые с нами, желали его видеть; но Гоголя трудно было уговорить придти в гостиную, когда там сидела незнакомая ему дама. Одна из них желала особенно познакомиться с Гоголем; а потому Вера и Константин (дети Аксакова) так пристали с просьбами к Гоголю, что каким-то чудом уговорили его войти в гостиную. Это точно стоило больших трудов Константину и Вере. Они приставали к нему всячески, убеждали его; он отделывался разными уловками: то заговаривал о другом, то начинал им читать вслух что-нибудь из «Моск. Ведомостей» и т. д. Наконец, видя, что он уступает, Константин громко возвестил его в гостиной, так что ему уж нельзя было не войти, и он вошел; но дама не сумела сказать ему ни слова, и он, оставшись несколько минут, ушел. Константин проводил его и благодарил, но он был не совсем доволен, и на вопрос Константина, как он нашел эту даму, он сказал, что не может судить о ней, потому что не слыхал от нее ни слова, «а вы мне сказали, что она желает со мною познакомиться».
С. Т. Аксаков. История знакомства, 54–58.
Когда Гоголь напечатал свой «Рим» в «Москвитянине», то, по условию, выговорил себе у Погодина двадцать оттисков, но тот, по обыкновению своему, не оставил, сваливая вину на типографию. Однако Гоголь непременно хотел иметь их, обещав наперед знакомым по оттиску. И потому, настаивая на своем, сказал, разгорячась мало-помалу: «А если вы договора не держите, так прикажите вырвать из своего журнала это число оттисков». – «Но как же, – заметил издатель, – ведь тогда я испорчу двадцать экземпляров». – «А мне какое дело до этого?.. Впрочем, хорошо: я согласен вам за них заплатить, – прибавил Гоголь, подумав немного, – только чтоб непременно было мне двадцать экземпляров моей статьи, слышите? Двадцать экземпляров!» Тут я увел его в комнату наверх, где сказал ему: «Зачем вам бросать эти деньги так на ветер? Да за двадцать целковых вам наберут вновь вашу статью». – «В самом деле? – спросил он с живостью. – Ах, вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком!» – «Так зачем же вы связываетесь с ним?» – подхватил я. «Затем, что я задолжал ему шесть тысяч рублей ассигнациями: вот он и жмет меня. Терпеть не могу печататься в журналах, – нет, вырвал-таки у меня эту статью! И что же, как же ее напечатал? Не дал даже выправить хоть в корректуре. Почему уж это так, он один это знает». Ну, подумал я, потому это так, что иначе он не сумеет: это его природа делать все, как говорится, тяп да ляп.
М. С. Щепкин по записи О. М. Бодянского. Выдержки из дневника Бодянского. Сборник Об-ва Любит. Рос. Словесности на 1891 г. М., 1891. С. 118.
Вот уже вновь прошло три недели после письма вашего, в котором вы известили меня о совершенном окончании дела, а рукописи нет как нет. Уже постоянно каждые две недели я посылаю каждый день осведомиться на почту, в университет и во все места, куда бы только она могла быть адресована, – и нигде никаких слухов! Боже, как истомили, как измучили меня все эти ожиданья и тревоги! А время уходит, и чем далее, тем менее вижу возможности успеть с ее печатаньем.
Ничем другим не в силах я заняться теперь, кроме одного постоянного труда моего («Мертвые души»). Он важен и велик, и вы не судите о нем по той части, которая готовится теперь предстать на свет. Это больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится. Труд мой занял меня совершенно всего, и оторваться от него на минуту есть уже мое несчастие. Здесь, во время пребывания моего в Москве, я думал заняться отдельно от этого труда, написать одну-две статьи, потому что заняться чем-нибудь важным я здесь не могу. Но вышло напротив: я даже не в силах собрать себя.
Притом уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живой мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся, во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. Открытого горизонта нет передо мною. Притом здесь, кроме могущих смутить меня внешних причин, я чувствую физическое препятствие писать. Голова моя страдает всячески: если в комнате холодно, мои мозговые нервы ноют и стынут, и вы не можете себе представить, какую муку чувствую я всякий раз, когда стараюсь в то время пересилить себя, взять власть над собою и заставить голову работать; если же комната натоплена, тогда этот искусственный жар меня душит совершенно: малейшее напряжение производит в голове странное сгущение всего, как будто бы она хотела треснуть… Давно остывши и угаснув для всех волнений и страстей мира, я живу своим внутренним миром, и тревога в этом мире может нанести мне несчастие, выше всех мирских несчастий… Боже, думал ли я вынести столько томлений в этот приезд мой в Россию!
Гоголь – П. А. Плетневу, 17 марта 1842 г., из Москвы. Письма, II, 155.
Во время еще пребывания своей сестры у Раевской, месяца за два до отъезда, у нее в доме Гоголь познакомился короче с одной почтенной старушкой Над. Ник. Шереметевой, которая за год перед сим, не зная еще Гоголя лично, упросила Раевскую взять его сестру. Шереметева была глуха и потому, видев Гоголя несколько раз прежде, не говорила с ним почти и совсем его не знала. Но по случаю болезни Раевской, просидев с Гоголем наедине часа два, она была поражена изумлением, найдя в нем горячо верующего и набожного человека. Она, уже давно преданная исключительно молитве и добру, чрезвычайно его полюбила и несколько раз сама приезжала к нему, чтобы беседовать с ним наедине.
С. Т. Аксаков. История знакомства, 63.
Многие знали в Москве в старые годы благочестивую старушку, избравшую своим призванием помощь бедным, больным и всякого рода страждущим. Она помогала не только деньгами, но являла всегда готовность служить многочисленным клиентам словом утешения и живейшим задушевным участием, весьма охотно присутствовала при соборовании и приходила на похороны людей, составлявших предмет ее страдания и материнских попечений. Эта старушка была Надежда Николаевна Шереметева, когда-то потерявшая зятя, Ивана Дмитриевича Якушкина (мужа ее дочери), сосланного в Нерчинские рудники за участие в деле 14 декабря 1825 г. В личности ее было что-то привлекательное, что заставляло забывать о недостатках ее развития и образования, хотя, конечно, она часто не могла быть интересной собеседницей для тех самых людей, которые высоко ценили ее нравственные качества… Не принадлежа к роду графов Шереметевых и находясь с ними в очень отдаленном родстве, она не располагала слишком большими средствами, но, напротив, жила скудно и даже нуждалась, часто отказывая себе в необходимом, чтоб иметь возможность хоть сколько-нибудь помогать бедным. Род. в 1775 г., ум. 1850.
В. И. Шенрок. Материалы, IV, 123, 130.
Были случаи, в которых я никак не умел объяснить себе поступков Гоголя: именно в течение первых четырех месяцев 1842 года был такой случай. Приехал в Москву старый мой, еще по гимназии, товарищ и друг, Д. М. Княжевич; он был прекраснейший человек во всех отношениях. Кроме того, что он, по крайней мере до издания «Мертвых Душ», понимал и ценил Гоголя, он был с ним очень дружески знаком в Риме и, как гостеприимный славянин, не один раз угощал у себя Гоголя. Княжевич очень обрадовался, узнав, что мы с Гоголем друзья и что он бывает у нас всякий день. Я думал, что и Гоголь этому обрадуется. Что же вышло? В первый раз, когда Княжевич приехал к нам при Гоголе и стал здороваться с кем-то за дверьми маленькой гостиной, в которой мы все сидели, Гоголь неприметно юркнул в мой кабинет, и когда мы хватились его, то узнали, что он поспешно убежал из дому. Такой поступок поразил всех нас, особенно удивил Княжевича. На другой день продолжалась такая же история, только с тою разницею, что Гоголь не убежал из дому, когда приехал Княжевич, а спрятался в дальний кабинетец, схватил книгу, уселся в большие кресла и притворился спящим. Он оставался в таком положении более двух часов и так же потихоньку уехал. На вопросы, что с ним сделалось, он отвечал самыми детскими отговорками: в первый приезд Княжевича он будто вспомнил какое-то необходимое дело, по которому надобно было ему сейчас уехать, а в другой раз – будто ему так захотелось спать, что он не мог тому противиться, а проснувшись, почувствовал головную боль и необходимость поскорее освежиться на чистом воздухе. Мы все были не только поражены изумлением, но даже оскорблены. Я хотел даже заставить Гоголя объясниться с Княжевичем; но последний упросил меня этого не делать и даже взял с меня честное слово, что я и наедине не стану говорить об этом с Гоголем. Он думал, что, вероятно, Гоголю что-нибудь насказали и что он имеет на него неудовольствие. Княжевич так любил горячо и меня и Гоголя, что буквально счел бы за несчастие быть причиною размолвки между нами. Несмотря на то, наше обращение с Гоголем изменилось и стало холоднее. Гоголь притворился, что не примечает того. На третий день опять приехал Княжевич с дочерью, тогда как мы с Гоголем сидели все в моем кабинете. Мы все сейчас встали, пошли навстречу своему гостю и, затворив Гоголя в кабинете, расположились в гостиной. Через полчаса вдруг двери отворились, вбежал Гоголь и с словами: «Ах, здравствуйте, Дмитрий Максимович!» протянул ему обе руки, кажется даже обнял его, и началась самая дружеская беседа приятелей, не видавшихся давно друг с другом… Точно он встретился с ним в первый раз после разлуки, и точно прошедших двух дней не бывало. Покорно прошу объяснить такую странность! Всякое объяснение казалось мне так невыгодным для Гоголя, что я уже никогда не говорил с ним об этом.
С. Т. Аксаков. История знакомства, 55.
Гоголя, как человека, знали весьма немногие. Даже с друзьями своими он не был вполне, или, лучше сказать, всегда, откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о своих делах семейных… Разные люди, знавшие Гоголя в разные эпохи его жизни, могли сообщить о нем друг другу разные известия… Но даже в одно и то же время, особенно до последнего своего отъезда за границу, с разными людьми Гоголь казался разным человеком. Тут не было никакого притворства: он соприкасался с ними теми нравственными сторонами, с которыми симпатизировали те люди, или, по крайней мере, которые могли они понять. Так, например, с одними приятелями, и на словах, и в письмах, он только шутил, так что всякий хохотал, читая эти письма; с другими говорил об искусстве и очень любил сам читать вслух Пушкина, Жуковского и Мерзлякова (его переводы древних); с иными беседовал о предметах духовных, с иными упорно молчал и даже дремал или притворялся спящим. Кто не слыхал самых противуположных отзывов о Гоголе? Одни называли его забавным весельчаком, обходительным и ласковым; другие – молчаливым, угрюмым и даже гордым; третьи – занятым исключительно духовными предметами… Одним словом. Гоголя никто не знал вполне. Некоторые друзья и приятели, конечно, знали его хорошо; но знали, так сказать, по частям. Очевидно, что только соединение этих частей может составить целое, полное знание и определение Гоголя.
С. Т. Аксаков. История знакомства, 204.
Вот уже 30 марта, а рукописи все нет как нет. Всякий день я посылаю разведывать на почту, и все бесплодно… Клянусь, это непостижимо, что делается с моею рукописью. Это во всех отношениях чудеса, и всякий другой мог бы давно сойти с ума. Я сам дивлюсь, как у меня не переворотилось все в голове.
Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 30 марта 1842 г. Письма, II, 162.
Гоголь третьего дня приходил обедать к нам. Я очень люблю его: он не так глубок; как другие, и поэтому с ним гораздо веселее. Он все нехорошо себя чувствует: у него пухнут ноги. Крепко собирается к вам и говорит, что будет счастлив, когда сядет в карету и уедет из Москвы.
Е. М. Хомякова – Н. М. Языкову, 1 апр. 1842 г., из Москвы. Соч. А. С. Хомякова, VIII, стр. 107.
Рукопись получена 5 апреля. Задержка произошла не на почте, а от цензурного комитета. Уведомивши Плетнева, что отправлена 7 марта, цензурный комитет солгал, потому что девятого только подписана она цензором. Выбросил у меня целый эпизод – «Копейкина» («Повесть о капитане Копейкине»), для меня очень нужный, более даже, нежели думают они. Я решился не отдавать его никак.
Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 9 апр. 1842 г. Письма, II, 164.
Уничтожение «Копейкина» меня сильно смутило. Это одно из лучших мест в поэме, и без него – прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет. Характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо. Присоедините ваш голос и подвиньте, кого следует. Вы говорите, что от покровительства высших нужно быть подальше, потому что они всякую копейку делают алтыном. Клянусь, я готов теперь рублем почитать всякую копейку, которая дается на мою бедную рукопись. Но я думал даже, что один Никитенко может теперь ее пропустить… Передайте ему листы «Копейкина» и упросите без малейшей задержки передать вам для немедленной пересылки ко мне, ибо печатанье рукописи уже началось.
Гоголь – П. А. Плетневу, 10 апр. 1842 г. Письма, II, 165.
Посылаю письмо Гоголя к вам и переделанного «Копейкина». Ради бога, помогите ему, сколько возможно. Он теперь болен, и я уверен, что если не напечатает «Мертвых душ», то и сам умрет. Когда решите судьбу рукописи, то, не медля ни дня, препроводите ко мне для доставления страдальцу. Он у меня лежит на сердце, как тяжелый камень.
П. А. Плетнев – А. В. Никитенко, 12 апр. 1842 г. В. Гиппиус. Гоголь. Изд. «Федерация». Стр. 226.
Скажу вам несколько слов о приключениях в Питере рукописи Гоголя. Приехав в Питер, я только и слышал везде, что о подкинутых в гвардейские полки, на имя фельдфебелей, безымянных возмутительных письмах. Правительство было встревожено; цензурный террор усилился. К этому наделала шуму повесть Кукольника «Иван Иванович Иванов, или Все заодно». Предводитель дворянства хотел жаловаться; министр флота, князь Меншиков, в Государственном совете сказал членам: «а знаете ли вы, дворяне, как вас бьют холопы палками» и пр. Дошло до государя и, по его признанию, граф Бенкендорф вымыл Нестору голову. Вследствие этого Уваров приказал цензорам не только не пропускать повестей, где выставляется с смешной стороны сословие, но где даже есть слишком смешное хоть одно лицо. К этому еще Башуцкий написал пошлую глупость «Водовоз», в которой увидели невесть что; опять дошло до царя, и Башуцкий был у Бенкендорфа… Ну, сами посудите, как было тут поступить? Вы, живя в своем Китае-городе, ничего не знаете, что делается в Питере. И вот Одоевский передал рукопись графу Виельгорскому, который хотел отвезти ее к Уварову; но тут готовился бал у великой княгини, и его сиятельству некогда было думать о таких пустяках, как рукопись Гоголя. Потом он вздумал, к счастию, дать ее (приватно) прочесть Никитенко. Тот, начавши ее читать как цензор, промахнул как читатель, и должен был прочесть снова. Прочтя, сказал, что кое-что надо Виельгорскому показать Уварову. К счастию, рукопись не попала к сему министру погашения и помрачения просвещения в России. В Питере погода на это меняется сто раз, и Никитенко не решился пропустить только кой-каких фраз, до эпизода о капитане Копейкине.