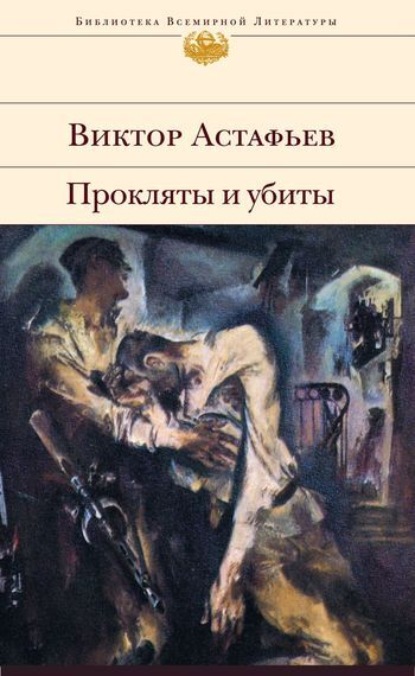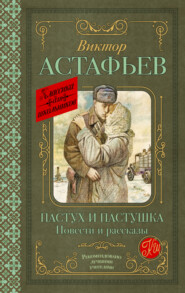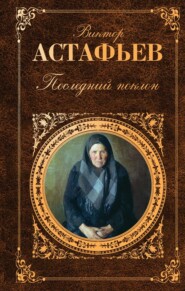По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прокляты и убиты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Меж столов сновали серые тени опустившихся, больных людей – не успеет солдат выплюнуть на стол рыбью кость, как из-за спины просовывается рука, цап ту кость, миску вылизать просят, по дну таза ложкой или пальцем царапают. Этих неприкаянных, без спроса ушедших из казармы людей ловили патрули, дневальные, наказывали, увещевали. Но доходяги утратили всякое человеческое достоинство, забыли, где они и зачем есть, дошли даже до помоек, отбросных ларей, что-то расковыривали там палками, железом, совали в карманы, уносили в леса к костеркам.
Казахи, а их в первой роте закрепилось человек десять, во главе с Талгатом, которого из-за трудности выговора бойцы кликали Толгаем, презирали доходяг, плевались: «Адрем кал!» (Фу на тебя!) – брезгливо выбрасывали из супа или из толченой картошки комочки свинины. Начался обмен: казах русскому – кроху мяса, русский казаху – ложку картохи либо корочку хлеба. Но и неистовые азиаты, больше других страдающие oт холода и недоеда, один по одному сдавались: сначала начали хлебать суп, сваренный со свининой, потом и мясо, отвернувшись, украдчиво бросали в рот. Кругом дразнятся: «Уу, чушка поганая! Хрю-хрю, чушка!..» – чтобы забрезговали, не ели мяса казахи. И пришел срок, когда Талгат повелительно сказал:
– Сайтын алтыр! (Черт бы тебя побрал!) Ешьте все! Ешьте! Аллах разрешил из-за трудности момента. Ослабеете, будете как они, – презрительно махнул он ложкой на сзади толпящихся, ждущих подачки доходяг.
Давясь, плача, казашата ели суп со свининой. Наевшись, выкрикнув: «Астапрала!» – отбегали от стола в угол столовой – поблевать.
Дисциплина в полку не просто пошатнулась – с каждым днем управлять людьми становилось все труднее. Парнишки в заношенной одежде, в обуви хрустящей, точнее по-собачьи визжащей, тявкающей на морозе, ничего уже не боялись, увиливали от занятий, шныряли по расположению полка в поисках хоть какой-нибудь еды. Утром их невозможно было поднять, вытолкать из казармы.
Начиналось все довольно бодро. Дневальные первой и второй рот одновременно заводили громко, песенно: «Пааа-адъем! Па-ааа-адъем!» – но никто в казарме не только не поднимался, даже не шевелился. Тогда второй дневальный, спаривая голос с первым, орал: «Подъем! Сколько можно спать?»
Постепенно расходясь в праведном гневе, накаляясь, дежурный по роте, им чаще всего был Яшкин, тоже шибко сдавший, совсем желтый, начинал сдергивать бойцов с нар, которые оказывались поближе. Всех ближе на нижних нарах ютились горемыки больные, на которых дуло из неплотно закрытой двери, тянуло от сырого пола, и, как им ни запрещали, как их ни наказывали, они волокли на себя всякое тряпье, вили на нарах гнезда. Стащенные за ноги, сброшенные на пол, снова и снова упрямо заползали на нары, лезли в грязное, развороченное, но все же чуть утепленное гнездо – только бы не на улицу, только бы не на мороз в мокрых, псиной пропахших штанах, побелевших от мочи на заду и в промежности.
Не лучше дело обстояло и на третьем ярусе. Тех, наверху, за ногу не стащить – лягаются. Их били макетами винтовок, били без выбора, случалось, попадали даже в голову, крепко ушибали человека, тогда он подскакивал, спинывал дневального вниз. Дневальный хватался за столб, вопил:
– Товарищ старшина! Товарищ старшина! Оне дерутся!
И тут на свет казарменной лампады выскакивал из каптерки старшина Шпатор в солдатском бельишке, в серых валенках, обутых на босу ногу, сухонький, с искрящейся редкими волосами стриженой головой, с крылато раскинутыми усами.
– Это арьмия, памаш? – нервно вопрошал он. – Арьмия?.. А ну, встать! Встать!!.. Не то я вас…
Старшина для примера сбрасывал со второго или третьего яруса первого попавшегося бойца. Тот, загремев вниз, ударившись об пол, вопил, ругался; осатаневшие дневальные лупили уже всех подряд прикладами макетов, с боем сгоняли служивых с третьего яруса нар на второй, где они, сгрудившись, пробовали дремать дальше, со второго их спихивали на первый, с первого вытесняли серую массу в коридор, затем к дверям, на лестницу, никто не торопился открывать двери. Наконец, благословясь, тычками, пинками, выдворяли на мороз разоспавшихся вояк, и тут же начинался отлов симулянтов: их вытаскивали из-под нар, выковыривали из казарменных щелей, где и таракану-то не спрятаться.
Выжитые из казармы служивые тем временем пританцовывали на морозе, ругались, грозились, когда очередного симулянта выбрасывали на улицу, встречали его в кулаки.
Щусь, как всегда подтянутый, ладный, но тоже недоспавший, явившись из землянки, терпеливо ждал в стороне результатов.
– Р-равня-айсь! Х-хмиррна! – наконец взлетал над сбившимися в строй красноармейцами вызвеневший голос помкомвзвода Яшкина. Скользя, спотыкаясь, поддерживая на боку кирзовую сумку, доставшуюся ему еще на фронте, в которой было все личное имущество помкомвзвода, он подбегал к Щусю и докладывал: – Товарищ младший лейтенант, первая рота для следования на занятия выстроена!
– Здравствуйте, товарищи бойцы! – щелкнув сапогами, поставив ногу к ноге, бодро выкрикивал Щусь. В ответ следовало что-то невнятное, разбродное. – Не слышу! Не понял! Здравствуйте, товарищи бойцы! – подпустив шалости в голос, громче кричал Щусь.
Так иногда повторялось до четырех раз, иногда и до пяти, пока не раздавалось наконец что-то гавкающее:
– Здрас тыщ-щий лейтенант!
– Вот теперь, чувствую, проснулись. Р-рота, в столовую для приема пищи шагом арш!
Перед тем как спуститься в каптерку к старшине, чтоб обсудить с ним план занятий и жизни на сегодняшний день, Щусь смотрел еще какое-то время вослед качающемуся под желтушно светящимися фонарями, пар выдыхающему, отхаркивающемуся, не очень-то ровному и ладному строю. И снова подступала, царапала сердце ночная дума: «Ну зачем это? Зачем? Почему ребят сразу не отправили на фронт? Зачем они тут доходят, занимаются шагистикой? На стрельбище, как и прежние роты, побывают два-три раза, расстреляют по обойме патронов – не хватает боеприпасов. Копать землю многие из них умеют с детства, штыком колоть, если доведется, война научит. Зачем? Зачем здоровых парней доводить до недееспособного состояния?» Ответа Щусь не находил, не понимал, что действует машина, давняя тупая машина, не учитывающая того, что времена императора Павла давно минули, что война нынче совсем другая, что страна находится в тяжелейшем состоянии, и не усугублять бы ее беды и страдания, собраться бы с умом, сосредоточиться, перерешить многое. То, что годилось для прошлой войны или даже для войны с Наполеоном, следовало отменить, перестроить, упростить, да не упрощать же до полного абсурда, до убогости, нищеты, до полной безнравственности, ведь бойцы первой роты по одежде, да и по условиям жизни и по поведению мало чем отличаются от арестантов нынешних времен. И Попцов, да что Попцов, разве он один, разве его смерть кого образумит, научит, остановит?
Между завтраком и выходом на занятия была пауза, небольшая по времени, но достаточная для того, чтобы служивые снова позабирались на нары, присели возле печки, привалились к прелой стене, но лучше, выгодней всего к ружейной пирамиде. Тонкий стратегический расчет тут таился: как только раздавалась команда «разобрать оружие!», у пирамиды поднималась свалка – каждый норовил схватить деревянный макет, потому как он был легок и у него не было железного затыльника на прикладе, от которого коченела ладонь и уставала рука. С меньшей охотой разбирались настоящие, отечественные винтовки, и никто не хотел вооружаться винтовками финскими, из железа и дерева сделанными. Как, для чего они попали в учебные роты – одним высокоумным военным деятелям известно.
Финские тяжеленные винтовки всегда стояли в дальнем конце пирамиды, там и оставались они после расхватухи, никто их не замечал, учено говоря, бойцы игнорировали плененное оружие. С ножевыми штыками, пилой, зазубренной по торцу, – «чтобы кишки вытаскивались, когда в брюхо кольнут, – заключали ребята и добавляли возмущенно: – Изуиты! Вон у нашего винтаря штык как штык, пырни – дак дырка аккуратна».
Тем бойцам, которые в боях сразу не погибнут и поучаствуют в рукопашной, еще предстояло узнать, что ранка от нашего четырехугольного штыка – фашисту верная смерть, заживает та рана куда как медленней, чем от всех других штыков, сотворенных человеком для человека. Остается благодарить Бога за то, что в этой войне рукопашного боя было мало, редко он случался.
А пока по казарме угорело носился старшина Шпатор с помкомвзвода Яшкиным.
– Кому сказано – разобрать оружие! – заполошно орали.
Дело кончалось всегда тем, что самых бесхитростных, неизворотливых бойцов силой подгоняли иль за шкирку подтаскивали к пирамиде. Будто в революционном Питере, красноармейцу лично вручалось грозное оружие. Наглецы и ловкачи, расхватавшие оружие по уму и таланту, между тем толпились у выхода из подвала, гогоча поддавали жару:
– Вооружайсь, вооружайсь, товарищи красные бойцы!
– Стоим на страже всегда, всегда, но если скажет страна труда.
– Скажет она.
– Рыло сперва умой!
– Рыло сперва умой, потом иди домой!
– Поэт нашелся, еп твою мать!
– Поэт не поэт, а лепит!
– Какая курва там дверь открыла?
– Да старшина это, на прогулку приглашает.
– Пущай сам и гуляет!
– Эй, доходяги, сколько можно ждать?
– Кончай волынить, товарищ младший лейтенант на улице чечетку в сапогах бьет.
– Шесто колено исполняет.
– Раньше выдем – раньше с занятий отпустят.
– Отпустят, штаны спустят!
– Поволыньте еще, поволыньте, заразы, так мы сами возьмемся вас на улку выгонять! Не обрадуетесь!
– Сами с усами! – лаялся Яшкин. – Чего тут столпились? Кто разрешил курить?
– Сорок оставь, Вась!
– Скоро уж посрать нельзя будет без твоего разрешения.
– Разговорчики, памаш! – врезался в толпу старшина. – Марш на улицу! Ну арьмия, ну арьмия! Помру я скоро, подохну от такой арьмии.
– От такой не сдохнешь, от такой…
– Р-разговорчики!
Кто с оружием, кому повезло, кто без оружия, доходяги, больные, симулянты, дневальные, промысловики, разгильдяи, шлявшиеся по расположению полка и по общепитам, переловленные патрулями иль с вечера еще надыбанные докой Шпатором, получившие от старшины по наряду вне очереди – больше он не может, на большее его власти не хватает, – дрогнут на дворе, ждут и знают: старшина так просто, без внимания никого не оставит, он, прокурор в законе, попросит у старшего командира добавки к уже определенному нарушителям наказанию.
Но вот и строй какой-никакой сотворен, вся рота наконец-то в сборе. Старшина семенит вдоль рядов поплясывающего воинства, под сапогами его крякает снег, крошатся ледышки. Натуго застегнутый и подпоясанный, в шапке со звездою, в однопалых рукавицах, в яловых сапогах, должно быть еще с империалистической войны привезенных, усохший, в крестце осевший, но все еще пряменький, чисто выбритый, старшина в желтушном свете двух лампочек, горящих над входом в расположение первой роты – для второй роты существует другой вход, со своими лампочками, – кажется подростком, как эти вот орлы двадцать четвертого года рождения, заметно исхудавшие, телом опавшие за каких-нибудь неполных два месяца прохождения службы. Но только этот вот шебутной подросток – главная самая власть над ними, от нее, от этой власти, вся досада и надсада, от нее, как от болезни, ни откреститься, ни скрыться.