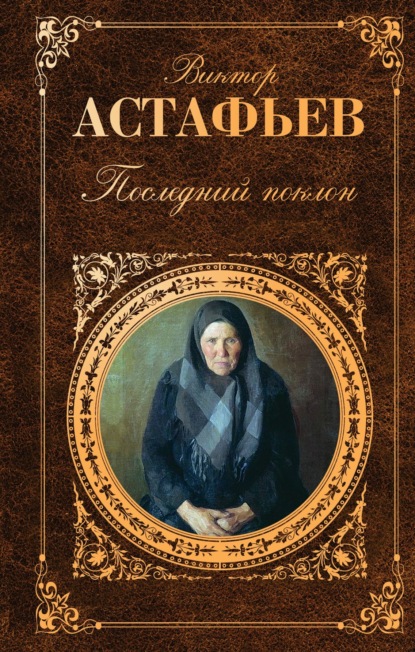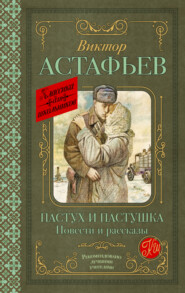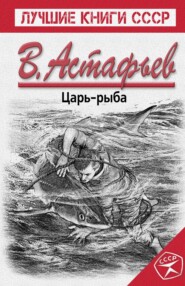По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний поклон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине назывались монпансье, а у нас попроще – лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек! Их у нас на куличи прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись.
У бабушки все есть! И все надежно укрыто. Шиша два найдешь! Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось:
– На уж, oкаянная твоя душа! – И в руку мне, давно уже ожидательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной, но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку.
– He-e-е…
– А чего же тебе? Ремня?
– Штаны-ы-ы…
Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине:
– Эт-то што жа он, кровопивец, слов не понимат? Я ему русским языком толкую – сошью! А он нате-ка! Уросит! А? Возьмешь конфетки или запру?
– Сама ешь!
– Сама? – Бабушка на время теряет дар речи, не находит слов. – Сама? Я т-те дам, сама! Я т-те покажу – сама!
Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет, и я вел снизу вверх:
– Э-э-э-э…
– Поори у меня, поори! – взрывалась бабушка, но я перекрывал ее своим рёвом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умасливать. – Сошью, скоро сошью! Уж, батюшко, не плачь уж. На вот конфетки-то, помусли. Сла-а-аденькие лампасеечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий…
Поговаривая елейно, по-церковному, бабушка окончательно сламывала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампасейки, штук пять – уж не обсчитается! Вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы, утешенного и довольного.
Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к Первому мая штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах и если уж свалилась, то надолго.
Ее переселили в горницу, на чистую, мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось как в чужом доме – полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, больницей, люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, – очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.
Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала:
– Покор… покормили ли ребенка-то?.. Там простокиша… калачи… в кладовке все… в ларе.
Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее, накормлен, мол, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться ни о чем не надо и, как доказательство, подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила:
– Помрет вот бабушка, чё делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О Господи, Господи! – Она косила глаза на лампадку: – Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска! – звала она тетку Августу. – Корову доить будешь, дак вымя-то теплой водой… Она… балованная у меня… А то ведь вам не скажи…
И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась бы, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела.
Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался и не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с нею можно было сколько угодно.
– Чё же за болезнь такая у тебя, бабушка? – как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе:
– Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я семая была да своих десятину подняла… Это легко только сказать. А вырастить?!
Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились – радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер – тоже радость. Обновка себе или детям – радость. Урожай на хлеб хороший – радость. Рыбалка была добычливой – радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала и косоручкой не сделалась – это ли не радость?
Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама, глядел на ее большие, рабочие руки в жилках, на морщинистое, с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее, торчащие, будто у девчонки, в разные стороны, – и такая волна любви к родному и до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете и все-все вокруг нас живое и доброе.
– Видишь вот, и не сшила я тебе штаны к празднику, – гладила меня по голове и каялась бабушка. – Обнадежила и не сшила…
– Сошьешь еще, куда спешить-то?
– Да уж дай только Бог подняться…
И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку, измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове:
– О Господи прости, что это со мною? Чисто с угару!
Но все-таки мерила хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскроенный кусочек трека, раза два поддала уж, чтоб я не вертелся лишку, отчего мне сделалось веселей, – ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления.
Кроила штаны бабушка почти целый день, шить их принялась назавтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь и поднялся до свету. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась, перешла на свою походную постель, поближе к кухне и к русской печи.
Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку «Зигнер», уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменяла эту машинку у ссыльных на городской пристани за годовалую нетель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку ту, совсем почти целую, ссыльные так и не вернули. Ну да какой с них спрос – ссыльные и есть ссыльные – варначье да чернолапотники, а то еще и чернокнижники какие-то перед переворотом валом валили.
Стрекочет машинка «Зигнер». Крутит ручку бабушка. Осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит, аж ручки не видно делается – так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блескучее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот, когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит – так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получился.
Бабушка и разговаривала со мной про хорошее, про штаны:
– Комиссару без штанов никак нельзя, – перекусывая нитку и глядя в шитье на свет, рассуждала она. – Маленький комкссар да с пуговкой и лямка через плечо. Наган подвесить – и форменный ты комиссар Вершков будешь, а может, и сам Шшэтинкин!..
В тот день я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все большие основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки: не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенно издавал:
– Н-не-е-е!
– Ты только не ври, потом поздно будет поправлять.
– Правда-правда, – подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу.
Особенно сосредоточена и пристальна была бабушка, когда дело дошло до прорехи – все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить – штаны до срока сопреют, и «петушок» на улицу выглядывать станет. Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе «петушка», и мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне по загривку.
Так без обеда мы с нею проработали до самых сумерек – это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за реку и коснулось верхних хребтов, бабушка заторопилась – вот-вот коров пригонят, а она все копается, и вмиг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне был бы желательней карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукою.
– Ну, слава Богу. Пуговицы уж после отпорю от чего-нибудь да пришью.
В это время на улице забренчали ботала, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил.
Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать.
Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню, но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стираная беленькая рубашка в полоску, рядом с кроватью распространяли запах горелой березы починенные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем, с желтыми, совершенно новыми союзками.
Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей, и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя.
– Ну вот, – сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась: – Видела бы мать-то твоя, покойница…
Я хмуро потупился.