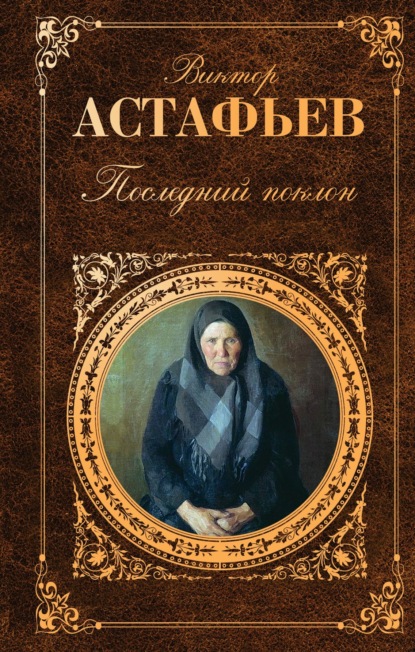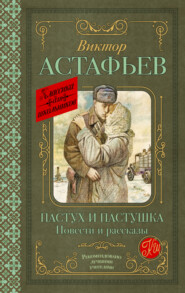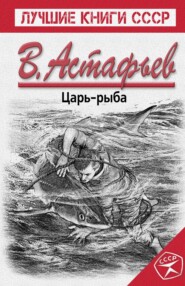По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний поклон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Монах в новых штанах! – Он и еще добавить чего-то хотел, да придержал язык, дедушки постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому что Саньке – сам-то сроду не нашивал новых штанов, а сапоги да еще с новыми союзками – и во сне ему не снились.
Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели драчёну – мятую картошку, запеченную с молоком и маслом, ели харюзов и жареных сорожек – Санька вечером надергал, после пили чай, заваренный типичным корнем, с бабушкиными подмоченными постряпушками.
– Плавал на шаньгах-то? – полюбопытствовал Санька.
Дед ничего не спрашивал.
– Плавал! – отшил я Саньку.
После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. В старую кринку с отбитым краем я поставил ромашки, были они уже сникшие, но скоро поднялись, закучерявились густой зеленью, насорили желтой пыли и лепестков на стол.
– Хы! Как ровно девчонка! – снова взялся ехидничать Санька. Но дед, укладывавшийся после обеда отдохнуть на печке, окоротил его:
– Не цепляй парня. Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысел есть, значенье свое, нам непонятное. Вот.
Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся. Санька сразу примолк. То-то, брат! Это тебе не с теткой Васеней зубатиться, либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил:
– Овод схлынет, пасти погоним. Сапоги-то и штаны сыми.
Мы вышли во двор, и я спросил:
– Чё это дед сегодня такой разговорчивый?
– Не знаю, – пожал плечами Санька. – Обрадел, должно, при таком расфуфыренном внуке. – Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными, сорожьими глазами на меня, спросил: – Чё будем делать, монах в новых штанах?
– Додразнишься – уйду.
– Ладно, ладно, обидчивый какой! Понарошке ведь.
Мы побежали в поле. Санька показывал мне, где он боронил, сказал, что дедушка Илья учил его пахать, и еще добавил, что школу он бросит, как поднатореет пахать, станет зарабатывать деньги, купит себе штаны не трековые, а суконные – так и бросит.
Эти слова окончательно убедили меня – заело Саньку. Но что дальше последует – не догадывался, потому что простофилей был и остался.
За полосою густо идущего в рост овса, возле дороги была продолговатая бочажина. В ней почти не оставалось воды. По краям гладкая и черная, будто вар, грязища покрылась паутиной трещин. В середине, возле лужицы с ладошку величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В Мане и Манской речке вода быстрая – опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко – пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног – это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины и об лопух вытер ноги.
– А тебе слабо!
– Мне-е? Слабо-о? – запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санькину уду, и не перечесть, сколько имел через это неприятностей, бед со всякими последствиями. «Не-е, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше!»
– Цветочки только рвать! – зудил Санька.
«Цветочки! Ну и что! Что ли это худо? Вон дед-то говорил как…» Но тут я вспомнил, как на селе презрительно относятся к людям, которые рвут цветочки и всякой такой ерундой занимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелось – пропасть. На пашне старики, бабы да ребятишки управляются. Мужики все на Мане из ружей палят да рыбачат, еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки в подарок женам привозят с базара, из стружек цветочки, синие, красные, белые – шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы цепляют. А чтобы жарков, стародубов или саранок нарвать – этого мужики никогда не делают и детей своих сызмальства приучают дразнить и презирать людей вроде Васи-поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцова и всяких других самоходов, падких на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла.
И Санька туда же! Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, рабо-о-отник! А я, значит, так себе! Придурок, значит? Размазня? Так я себя распалил, так разозлился, что с храбрым гиком ринулся поперек бочажины.
В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягуха, я разом, с отчетливой ясностью понял – снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз-другой, но увидел Санькины разлапистые следы от лужицы в стороне – дрожь по мне пошла. Съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, будто у пьянчужки глазами, сказал:
– Гад!
Сказал и перестал бороться.
Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки:
– Аа-а, вляпался! А-га-га-а, дохвастался! А-га-га-а, монах в новых штанах! Штаны-то ха-ха-ха! Сапоги-то хо-хо-хо!
Я сжимал кулаки и кусал губы, чтобы не заплакать. Знал я – Санька только того и ждет, чтоб я расклеился, расхныкался, и он совсем меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам холодно. Меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтоб Санька вытаскивал меня, и не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да скоро уж прискучило ему это занятие, насытился он удовольствием.
– Скажи: «Миленький, хорошенький Санечка, помоги мне ради Христа!» Я, может, и выволоку тебя!
– Нет!
– Ах, нет?! Сиди тоды да завтрева.
Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою, дескать, последнее пристанище отбили, злыдни.
– Уйди с глаз моих! Уйди, гад, лучше! Уйди! – закричал я и начал швырять в Саньку горстями грязи.
Санька ушел. Я вытер руки об рубаху. Над бочажиной, на меже шевельнулись листья белены – Санька в них спрятался. Из ямины мне видно только белену эту, репейника вершинку да еще часть дороги видно, ту, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый, любовался местностью и никакой бочажины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду?
Санька вылез из бурьяна, видно, осы его выгнали, может, и терпенья не хватило. Жрет какую-то траву. Пучку, должно быть. Он всегда жует чего-нибудь – живоглот пузатый!
– Так и будем сидеть?
– Нет, скоро упаду. Ноги уже остомели.
Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится.
– Но ты, падина! – крикнул он, стягивая с себя штаны. – Упади только!
Стараюсь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясет от холода, качает от усталости.
– Безголовая кляча! – лез в грязь и ругался Санька. – Сколько я его надувал, он все одно надувается! – Санька пробовал подобраться ко мне с одной, с другой стороны – не получалось. Вязко. Наконец приблизился, заорал: – Руку давай! Давай! Уйду ведь! Взаправду уйду. Пропадешь тут вместе с новыми штанами!..
Я не дал ему руку. Он сгреб меня за шиворот, потянул, но сам колом пошел в жидкую глубь ямы. Он бросил меня, ринулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его тут же затягивало черной жижей, пузыри возникали в следах, с шипом и бульканьем лопаясь.
Санька на берегу. Глядел на меня испуганно, молча, что-то пытаясь сообразить. Я глядел мимо него. Ноги мои совсем подламывались, грязь мне казалась уже мягкой постелью. Хотелось опуститься в нее. Но я еще живой до пояса и маленько соображаю – опущусь и запросто могу захлебнуться.
– Эй, ты, чё молчишь?
Я ничего на это не ответил погубителю Саньке.
– Иди за дедушкой, гадина! Упаду ведь счас.
Санька заныл, заругался, будто пьяный мужик, матерно и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дергать так, что я взревел от боли и принялся тыкать кулаком Саньке в морду, раз-другой достал. Дальше меня не засасывало, я, должно быть, достиг ногами твердого грунта, может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки ни силенок, ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть.
– Иди за дедушкой, гад!
Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги.