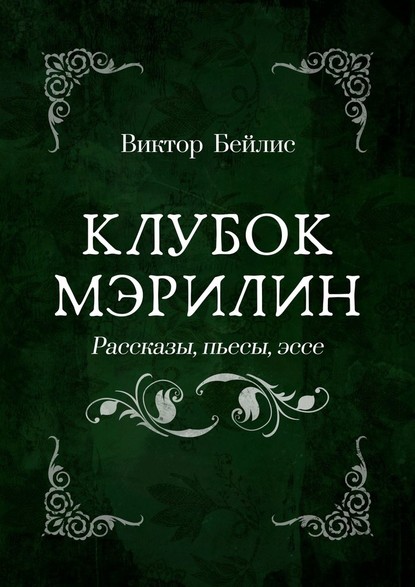По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клубок Мэрилин. Рассказы, пьесы, эссе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это и до сих пор образцовый перевод (кстати, «Пиковая дама» однажды издавалась во Франции под именем самого Мериме, а в другой раз было написано, что это перевод произведения Онегина). Язык Мериме в этом переводе обаятелен, хотя и несколько суховат и отличается французской изысканностью 18 века. В новелле есть некоторый налет готичности, но нет пушкинской влажности и тайны. Все равно это большое удовольствие для читающих по-французски проартикулировать труд Мериме.
Итак, «Пиковая дама».
Немедленно возникает ассоциация с именем Чайковского. Но Петр Ильич не был первым сочинителем оперы под таким названием. Первым был Жак Франсуа Фроманталь Эли Галеви (Жак Алеви), учитель и тесть другого композитора, Жоржа Бизе, помимо оперы «Кармен» по новелле Мериме, создавшего оперу «Иван Грозный» (лишь недавно обнаруженную в архивах и в России не исполнявшуюся).
Вот такой французско-русско-иллирийский клубок. Я гляжу на него умиленно-растроганный. Что из того, что я, конечно же, не пожимал руку ни Пушкину, ни Мериме, ни Бизе, что я, черт побери, не прикасался к божественному бюсту Мэрилин? Этот клубок, стоит только захотеть, можно запустить в любом направлении, и что за удовольствие распутать его и вновь скатать, зная все его узелки и сплетения! Задайте себе два «далековатых» понятия – и в путь: две точки скоро сойдутся самым удивительным способом, неправда ли, Мэрилин?
Завтрак на пленэре
В августе я понял, что мне невмоготу, надо все бросить, отдохнуть, ничего не делать. Я поехал в маленький городок, окруженный лесами, на берегу реки. Здесь я собирался удить рыбу, ходить по грибы, фотографировать. Сойдя с поезда, я забрался в автобус – единственный в городе, – где сразу же свел знакомство с веселой бабешкой, предложившей мне незадорого комнату в своем доме. Мы столковались, и через час я уже был полностью устроен и даже успел взять в прокате велосипед.
Вечером мы с хозяйкой выпили купленную мною бутылку водки, но ее оказалось недостаточно, и на столе появился самогон.
– Тебя как звать-то? – в который уже раз спрашивала хозяйка.
– Алексеем Сергеевичем, – монотонно отвечал я.
– А я Мария Константиновна, – сообщала хозяйка.
Она рассказывала о своих прежних, по всей видимости, именитых постояльцах, и я заметил, что, чем уважительнее она говорит о человеке, тем вероятнее она назовет его «Ныколаичем». Поначалу я путался в ее «Ныколаичах» и спрашивал:
– Это который же Николаич? Николай Николаич?
– Так нет же! Я ж говорю – Ныколаич!
Вскоре я стал различать Ныкалаичей по интонации, с какой они назывались, и оказалось, что и сам я из Алексея Сергеевича превратился в Ныколаича.
Однажды Мария Константиновна, оговорившись, назвала меня Сергеичем, но тут же спохватилась:
– Ой, ты прости, Ныколаич. Это сосед у меня тут Сергеич, так я и тебя Сергеичем.
У нас установились добрые отношения – хоть я и не стал Ныколай Ныколаичем, но Ныколаичем все же был, а это обеспечивало мне веселое дружелюбие и уважительность. Я всюду разъезжал на велосипеде, пил у ларька пиво, горожане меня признали, мальчишки – товарищи по рыбалке – показывали грибные места – я отдыхал, я отдыхал! Меня зауважал один пьяница-хохол, которому я однажды, когда он страшно ругался возле магазина, сказал по-украински:
– Та що ж ти так сваришся?
– Що ти кажеш? – вскинулся он.
– Хiба ж так можна? – продолжал я.
– Земляче! – радостно завопил он. – Микола, так звiдки ж ти? Ти ж, кажуть, з Москви? А я Петро з Чернiгова.
Он предложил мне выпить, осуждал меня, что я покинул Родину, и мой ответ, что он-мол тоже не на Украине, не казался ему резонным. Я часто видел его пьяным, и он горестно говорил:
– Ось бачиш, Микола, знову туга и так хмарно, так хмарно!
Я подружился со старым сапожником-евреем Мозей. Таких я видел в детстве и думал, что их уже нет.
– Молодой человек кое-что скрывает, – сказал он мне, когда я проходил мимо его мастерской, – это нехорошо, ай, как нехорошо!
– Что нехорошо? – изумился я.
– Молодой человек говорит, что его папу звали Николай. Николай – разве это имя для аида? Коля! Калман – вот как звали вашего папочку. У меня в молодости был друг – Борух – так он был вылитый вы. И между прочим, его папа тоже был Калман. Фамилия Марксштейн – вы, случайно, не родственники?
Я объяснил, как обстоят дела с моими именем, отчеством и фамилией, и он ошеломленно покачал кудрявой седой головой:
– Кто бы мог подумать – вы так похожи на еврея. Вы извините, что я спрашиваю, но может быть, ваша мама – еврейка? Нет? Ай-я-я-яй!
Мы много разговаривали, меня очень смешили его притчи – по любому поводу – и толкования Библии. А ссылался он чаще всего на Пушкина и Иисуса Христа. Однажды он пригласил меня к себе, и его жена Рива угощала нас чаем и вареньем.
– Познакомься, Ривочка, – сказал он, – ты можешь себе представить – молодой человек – не еврей!
Рива была удивлена.
– Но он не антисемит, – быстро добавил Мозя. Рива горячо одобрила это.
– Между прочим, Пушкин тоже не был антисемит. Он даже носил на руке перстень с еврейскими буквами. Этот перстень Пушкин называл своим талисманом. Вы помните эти стихи: Храни меня, мой талисман?
И Мозя прочел стихотворение от начала до конца, нигде ничего не переврав, но смешно интонируя.
И наконец, – как бы это сказать, не переступая границ скромности? – в меня совершенно по-женски влюбилась пятилетняя девочка, Ирочка. Все видели, как она расцветала улыбкой и, завидев меня, здоровалась на любом расстоянии:
– Здравствуй, Ныколаич, – слышал я издалека, еще не различая ее в группе детей.
Вблизи она как бы застенчиво, а на деле кокетливо, опускала ресницы и отвечала на мои вопросы еле слышно. У нас стали принятыми подарки: я подносил ей конфеты и мороженое, а она подарила мне ценнейший фантик – обертку от американской жвачки, и однажды – розу. Не знаю, где она взяла ее, но это была свежая благоухающая пунцовая королевская роза. Я поцеловал ее ручонку, и она – клянусь! – покраснела и меня самого вогнала в краску. Сказать, что я был польщен, – недостаточно: меня просто распирало – никто еще так не тешил мою мужскую гордость. Я был благодарен моей маленькой даме и старался не оскорбить ее чувств взрослой снисходительностью. Я был с нею серьезен и грустен. Думаю, что за мою печаль она и полюбила меня.
Дни были длинными и наполненными. Ничто не мешало ни моему уединению, ни общению с кем бы то ни было. Мне не надо было ни с кем знакомиться:
если я заговаривал с человеком, то он отвечал мне как Ныколаичу, и я в конце концов и почувствовал себя Ныколаичем – Главным Ныколаичем города – и находил в этом удовольствие и отдохновение. Я даже стал обращаться к самому себе в третьем лице:
– Ну что, Ныколаич, не посмотреть ли сегодня закат на реке?
И я брал лодку, плыл на зеленый островок и оставался там до одиннадцати вечера – в полном одиночестве.
– Давай-ка, Ныколаич, сыграем сегодня в футбол с мальчишками, – говорил я себе. И становился на ворота, принося, по общему мнению, победу своей команде.
– Ныколаич, – сказал я себе как-то… и запнулся, не хотел договаривать. Но я сделал это: я сел у себя в комнате на кровать, положил на колени книгу, на книгу листок бумаги и карандашом написал письмо. Такое:
Послушай!
Здесь живут Они и живу я. Почему-то понадобилось сказать кому-то: «Ты». Пусть это будешь ты. Ты никогда не была для меня Ты – всегда только Она, женщина, с неопределенным артиклем – а woman. Я без тебя – просто без женщины. Мне хорошо, и только отсутствие женщины понудило меня сказать тебе: «Ты».
Я вижу, как ты злишься, скорей погляди в зеркало: от злости ты дурнеешь, возьми же себя в руки. Успокоилась? Ну, припудрись немного и читай дальше – ты ведь дочитаешь, правда? Впрочем, я твердо знаю, что дочитаешь.
Я здесь испытываю совершенно ребяческие радости, и нет дня, когда бы я не вспоминал самые счастливые минуты в моей жизни. Знаешь ли ты, что это за минуты? Это было, когда я впервые привез своего сынишку к Черному морю. Что такое море, он не знал, а дорога к нему шла через парк, где были пруды с золотыми рыбками. Увидев пруды, он решил, что ради них-то его и привезли сюда, и я долго не мог уговорить его пойти дальше. Наконец, он с неохотой оторвался от рыбок, и мы вышли на берег. Тут он высвободил свою руку из моей, подошел к самой кромке и неожиданно громко запел. Он пел в полном беспамятстве, потом, увидев, как я бросаю в воду камешки, понял, что ничего лучше этого не бывает, и, не прерывая пения, тоже стал бросать камешки. Слов в его песне не было, но контрапунктом он владел лучше Баха: он соотносился с морем, и небом, и деревьями и легко переходил от симфонии к антифонии, одновременно производя фонемы, которые никто не в состоянии был бы воспроизвести. Я чувствовал, что к моему горлу подступает счастье, мое горло набухло счастьем… На следующий день сын заболел тяжелой ангиной…
Так вот, здесь я почти пою, как некогда мой – теперь уже взрослый – сын. Правда, счастья, равного тому, я не испытываю: мои отношения с природой гораздо суше тех, что мне хочется установить с людьми. Тогда же мое счастье происходило не из общения с природой, а из совершенного контакта между мною (Я) и сыном (Ты). В немногих женщинах и очень нечасто мое Я встречалось с Ты, но только один раз Я с такой полнотой был захвачен Ты и переливался в него.
Я всегда искал этого, и кто же, кроме женщины, может стать для мужчины Ты. О, только не ты! Я не в состоянии объяснить нашу связь. Какая сила соединила нас? Кто так долго удерживал нас друг подле друга? Я не могу быть с женщиной, если не чувствую в ней возможности хоть ненадолго стать для меня Ты. Непереходимая граница между нами пролегала там, где Ты и не пахло; там было другое Я или что-то еще – толком не знаю. Мне это было понятно с первой минуты нашего знакомства – и тем не менее я, вопреки своей природе, не только смог вступить в связь с тобою, но и сумел в течение трех лет поддерживать эту связь, не находя в себе сил прервать ее – такую же противоестественную для меня, как, например, гомосексуализм.