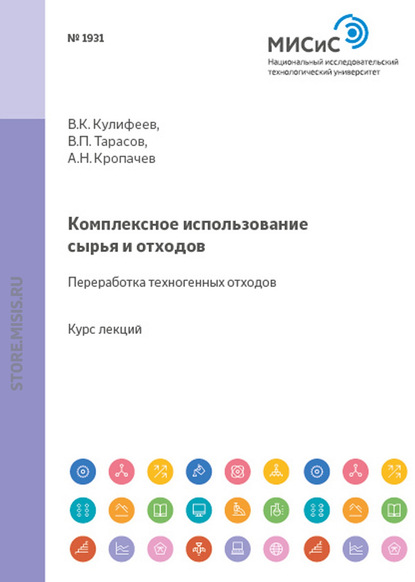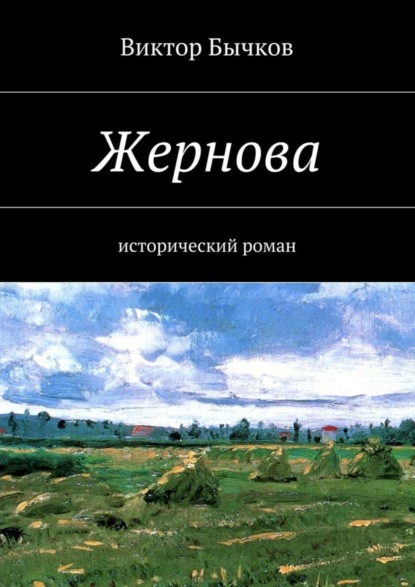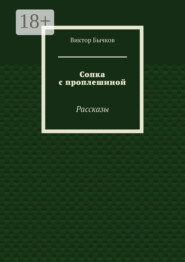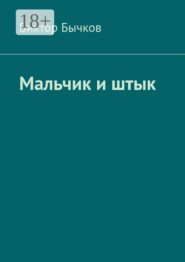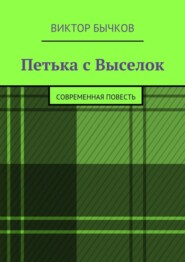По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жернова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Достаточно хорошо изучив жизнь руководимой им банды изнутри, понимал, что законы преступного мира жестоки. От него можно ждать в равной степени как безоговорочной, бескорыстной поддержки, так и удара в спину. Поэтому сразу же в камере не влился в компанию «блатных», а сблизился с двумя ничем не примечательными сидельцами. Это потом уже с удивлением узнал, что один из них – Тит, родной брат однополчанина, командира взвода пулемётной роты Гулевича Фёдора Ивановича. Земля, оказывается, очень маленькая. Впрочем, чему удивляться? Основную массу защитников Руси всегда составляли крестьяне. Вот и японская кампания не стала исключением.
И они сдружились. То ли возраст один? То ли беда объединила их? То ли их сблизил, подружил Иван Фёдорович Гулевич – прекрасный офицер и надёжный фронтовой товарищ для одного, и родной брат для другого? Однако, как бы то ни было, но столбовой дворянин и офицер царской армии сдружился с простолюдином – обычным крестьянским парнем.
В одну из ночей поведал другу о своей заветной мечте возродить род Трухановых, вернуть родовое поместье, объединить семью.
– Деньги, деньги мне нужны, вот и… Как ещё прикажешь их заработать, деньги эти по нынешним временам?
Тогда же узнал и мечту нескольких поколений семьи Гулевичей о собственной мельнице, и как её, мечту эту, порушили злые люди. Тит не рассказал сразу, что знает, кто это сделал. Просто изложил в подробностях, и замолчал. Молча лежал у стены и ждал, что скажет Пётр Сергеевич Труханов – тот самый Петря, который встал непреодолимой преградой на пути Гулевичей к мечте.
– Так значит… это ты овины Прибыльского? – осенила вдруг догадка, резко повернулся, приблизился к другу, задышал прерывисто.
– Ты, да? Твоя работа, скажи честно?
– А это не ты со своими разбойниками – вольными людьми у нас на мельнице нашу мечту поджигал да по брёвнышку раскатывал по просьбе известного тебе барина? – зло зашипел в ответ Тит. – Матерился, бежал потом к карете, хромая. Я же видел, гражданин хороший. Иль крики мои не помнишь уже, память отшибло, как орал я в ночи, чтобы мою мечту не рушил, не сжигал? Благодетель, твою мать, – заматерился от возмущения. – О своей мечте он помнит, а моя тогда как? Каким боком моя мечта к твоей мечте прислонилась, страдалец, что ты её так, а? Не думал тогда, что кому-то делаешь плохо? Не понимал, что зарабатывал деньги на несчастье других людей? Что и им бывает больно и обидно?
Разговор на этом оборвался. Спустя какое-то время Петр Сергеевич нашёл в темноте руку Тита, крепко, с чувством пожал, прошептал виновато над ухом:
– Должник я твой, ты уж меня прости.
Потом полежал ещё с мгновение, добавил:
– Ваш должник, всей вашей семьи. Значит, отныне к моей мечте присоединилась и твоя. Я тебе обещаю, что исполню, клянусь!
– Давай спать, – только и ответил Тит. – Бог… он воздал уже и воздаст ещё по заслугам каждому.
Больше к этой теме не возвращались: так и коротали дни в тюремной камере, зная друг о друге почти всё. Нет, не стало от этого лучше, но от души всё же отлегло. Как грех с неё сняли, как исповедовались друг другу.
Однако этот ночной разговор не поссорил товарищей, а, казалось, ещё больше, ещё теснее сблизил. По крайней мере, Пётр чувствовал в молодом Гулевиче внутренний стержень: крепкий, несгибаемый, крепче, чем у него самого. Как у его брата Фёдора там, на фронте. Было видно, что Тита не сломили обстоятельства, тюрьма, последующая за ней каторга. Он сохранил себя, не паниковал. Может где-то глубоко-глубоко в душе и бушевали нешуточные страсти, однако внешне парень оставался спокойным, надёжным товарищем, рассудительным, уравновешенным. От него исходила какая-то атмосфера добра, несгибаемая сила воли. Он не обозлился на белый свет. Злился на себя, искал причины в себе, и находил силы противостоять судьбе. Это притягивало Петра Сергеевича интуитивно, на подсознательном уровне. Ему Тит нравился, как сильный, волевой человек. Известно, что слабого человека всегда тянет к сильному. Хотя себя Пётр не считал слабым.
Там же, в камере, в первую ночь после суда, когда Труханова Петра Сергеевича осудили на двенадцать лет каторги, а Тит Гулевич уже до этого получил пятнадцать, они и решили бежать. Как оно там будет на каторге – ещё не известно. Да и куда сошлют – тоже не ведомо. Вроде как сдружились, а вдруг разлучат? И даже не это страшило: оба не терпели неволи. Не могли смириться с мыслью, что такую огромную часть жизни придётся жить в неволе. Это противоречило их вольнолюбивым натурам. Вот и стали разрабатывать план побега.
Здесь заключённых водили на работы. Попасть в эту команду – не проблема. Предложил Петря. Тит согласился. Отправили на погрузку леса. Решение бежать именно сегодня с пристани приняли во время первого перекура. Обстановка благоволила: или сейчас, или… Ивана Наумовича в известность не ставили. Хороший он мужик, однако…
Утром тайком шепнул на ухо знакомому возчику леса. Тот тут же выпряг коняшку из роспуска, ускакал верхом. Обернулся быстро. За ним сразу же появился в коляске с извозчиком, тоже своим человеком, один из подельников, член банды Петры, который сейчас оставался за главаря – Яков Шипицын по кличке Спица. Он организовал и с кучером, с деньгами, и с одеждой. Молодец, даже успел и с лодкой. Ну-у, а дальше…
И вот уже Петр Сергеевич ведёт своих товарищей сквозь чащу, ведёт туда, где его должны ждать.
Это только его спутникам этот лес кажется непроходимым, а уж он, Петря, хаживал по нему и не раз. Ещё осталось пройти с сотню-другую метров, и будет журчащий ручеёк с кристальной водой поперёк пути, что бежит параллельно реке. Это – как постоянный ориентир. Обойти стороной его нельзя. А уж потом продвинуться ещё немного вверх по течению, и откроется небольшая полянка среди чащи. Там, в углу полянки, между двумя старыми дубами, где ручей круто поворачивает от Днепра, стоит избушка: новое имение столбового дворянина Труханова Петра Сергеевича, как в шутку называл это жилище Петря. Он здесь отсиживался, пережидал тяжёлые времена в своей разбойничьей жизни. Это были его личные хоромы. Для подчинённых достаточно было шалашей в другом месте.
Об этом домике в глухом лесу на берегу Днепра знали четыре человека. В живых осталось двое, Петр Сергеевич в числе живущих. Тех двоих мужиков, что непосредственно строили избушку, уже нет с прошлой весны: пьяные, утонули в реке во время ледохода. Он сам лично был свидетелем, как пытались перейти на тот берег строители; как прыгали с льдины на льдину; как уходили под воду один за другим…
Жив ли ещё один свидетель и обитатель этого домика? Пётр Сергеевич торопился, с волнением подходил к избушке.
В прошлом году открывали церковь Святого Духа в деревне Талашкино, что недалеко от Смоленска. Мама слёзно просила сына съездить туда, низко поклониться и поблагодарить одну женщину – княгиню Тенишеву. Когда-то дружили домами столбовые дворяне Трухановы и княгиня Тенишева. Это она, Мария Клавдиевна, построила храм в родовом имении, пригласила для строительства и росписи церкви знаменитых архитекторов и художников. Она же и жертвовала средства на содержание приюта мадам Мюрель. Уж очень признательны и благодарны обитатели приюта своей благодетельнице.
Пётр Сергеевич съездил, сделал всё, как и просила мама. Переночевал там же, в имении Тенишевых в гостевом доме. Зашёл и в церковь, побыл на заутренней службе. Уже выходил из храма, когда вдруг на паперти дорогу ему преградила нищенка. Стояла и молчала, лишь выжидающе смотрела снизу вверх на Труханова.
Что-то знакомое, до боли родное было в том взгляде. Но вот так сразу нельзя было разглядеть, не смог узнать. Да и как можно было узнать сквозь лохмотья, что свисали с нищенки? И лицо – грязное, в кровоподтёках. Только глаза, только взгляд…
– Петю-у-уня-а! – это было как гром среди ясного неба.
Этот голос он не смог бы спутать ни с чьим другим.
Его, этот голос, он слышал с первых минут своей жизни, с первых осмысленных звуков в его детской головке. Это ласковое певуче-протяжное:
– Петю-у-уня-а! – сопровождало его всю жизнь.
И даже на японской войне, когда его ранило в первый раз, когда он терял сознание, когда балансировал на грани жизни и смерти из уст сорвались самые родные, самые милые сердцу и душе слова:
– Ма-а-ама, ма-а-аменька Дуся.
– Маменька Дуся? – опешил Пётр Сергеевич, и в тот же миг обнял, прижал к себе, целовал грязное, но такое родное лицо своей кормилицы и няньки.
Они родили в один день: барыня Ирина Аркадьевна и деревенская девка при кухне Евдокия Гурьянова. Роды у барыни принимал дежуривший при ней доктор Давид Исаакович Голдин.
У Евдокии никто не принимал. Она понесла в девках. От кого? Слухи ходили разные: осторожно, шепотом и тайком называлось имя барина Сергея Сергеевича. Так оно или нет – девка не рассказывала никому об отце ребёнка. И рожала сама, одна. Даже не пригласила к себе бабку-повитуху в помощь. Не смогла, слишком быстро всё началось. Укрылась, спряталась на печи в собственной сиротской, оставшейся от умерших родителей развалюхе-избушке. Сил не было истопить печку. Вот там, в холодной, стылой и промёрзлой избе на печи появился мальчик. Когда, почувствовав неладное, в хату забежала соседка баба Егориха, молодая мама лежала без сознания, и ребёнок уже не подавал признаков жизни. Еле-еле смогла старушка откачать, привести в чувство роженицу. А вот мальчика спасти не удалось.
Кормилицей для маленького барчука была выбрана Дуся. Это потом уже Пётр Сергеевич Труханов поймёт, что всю свою нерастраченную любовь женщины-матери деревенская девка выплеснула на него, Петю. Он, барчук, для неё был всем: и сыном, и братом, и другом, и последней отрадой в жизни. Светом в окошке. Ребёнок тоже прикипел душой к кормилице. И даже очень удивился и расстроился, когда начал понимать, что мама у него одна – Ирина Аркадьевна, а маменька Дуся – совершенно чужая женщина.
Евдокия так и не вышла замуж. Никого не винила, и даже видом своим не показывала, что страдает от этого. Она понимала, что замуж её, сироту, без приданного, девку порченную, никто не возьмёт. Вот и держалась барского дома, маленького барчука.
И он тоже привязался к кормилице и няньке, как к родной матери, и называл её не иначе, как маменька Дуся. Родители долго наблюдали за сыном и кормилицей, и первое время были склонны разлучить их. Но потом всё же приняли мудрое решение: оставили как есть. И сейчас, спустя столько лет, Пётр Сергеевич Труханов безумно благодарен родителям и судьбе, что в его жизни были и есть две прекрасные женщины – мама и маменька Дуся.
– Петю-у-уня-а! – и не было другого имени у барчука.
Отъезд в военное училище своего любимца женщина перенесла стоически. Каждую неделю писала ему письма, благо, обучилась грамоте при барском доме. А уж когда Пётра Сергеевича отправили на фронт, каждый день маменька Дуся ходила в церковь. Ставила свечку и заказывала молитву за здравие барчука. Может, благодаря её молитвам и остался жив капитан Труханов? Кто его знает, но без молитв маменьки Дуси точно не обошлось.
А потом… потом Трухановы разорились, и женщина пошла по миру, превратилась в побирушку. Несколько раз Ирина Аркадьевна пыталась разыскать её, но безуспешно. Да она и сама избегала бывшей барыни, не хотела быть лишней обузой, не желала создавать лишних трудностей ей. И вот встреча у храма Святого Духа в Талашкино… Воистину, Господь Бог уподобил встретиться, помог…
Они ушли тогда вместе: бывший барчук и нынешняя нищенка.
К тому времени в лесу уже заканчивали строительство избушки. Пётр Сергеевич предложил маменьке Дусе поселиться в ней.
– Это ненадолго. Ещё немного, я утрясу все свои дела, и мы опять будем в нашем родном поместье.
– При тебе, Петюня, я готова жить хоть в аду, – и с благодарностью прижалась к любимцу.
Она не спрашивала, почему её отрада живёт в лесу. Да и вообще она не интересовалась его делами. Довольствовалась тем, что он считал нужным сам лично рассказать. И не уточняла ничего. Ей было важно, что он рядом с ней, она может его видеть, слушать голос, кормить обедами, хотя и не так часто Петя появлялся здесь. Однако она всегда готовила для него его любимый картофельный суп с грибами. Готовила в маленьком глиняном горшочке на раз поесть. Но готовила. Чаще всего сама же и съедала его поздним вечером, а утром опять приступала готовить картофельный суп с грибами. А вдруг её родной Петюня придёт, а поесть нечего? Вот и готовила.
Женщина не знает, что его арестовали. Она так и осталась в неведении. У него была возможность через подельников сообщить маменьке, рассказать ей, но он не сделал этого специально: о домике в лесу никто не должен знать. Да, мучила совесть, терзался мыслями, но так и не послал никого. Известно, что самые сильные боли, самые сильные мучения причиняются самыми близкими людьми самым близким людям. Случай Петра Сергеевича с маменькой Дусей не был исключением. Почему так? Он не знает, да и не хочет разбираться, лишний раз терзать собственную душу.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: