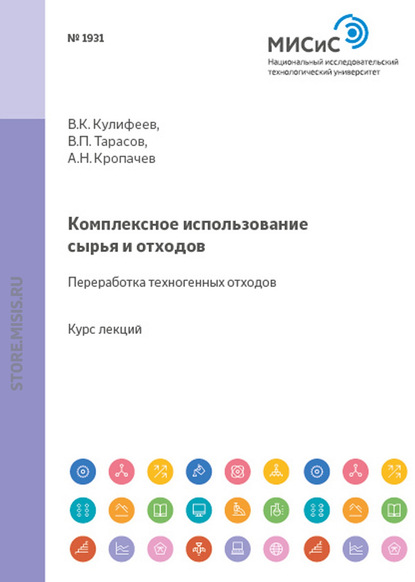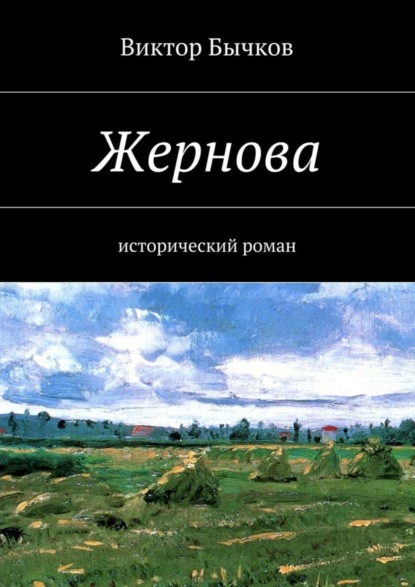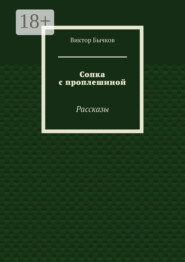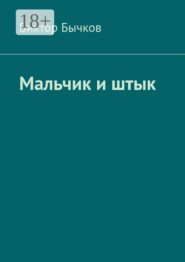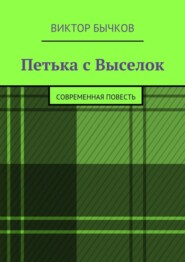По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жернова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Когда он меня с ног сбил первым ударом, вот тогда я и упал прямо рядом с этим камнем. Под руку попал булыжник, когда я на земле лежал.
– Тем более, – утвердительно кивнул полицейский. – Вот и стой на своём, чтобы с тобой не делали.
Снял с дышла деревянное ведро, ополоснул, потом из родника ковшиком наполнил до краёв. Отнёс коню. Терпеливо ждал, пока животина напьётся.
– Но-о-о, пошла, шалая! – и только после этого дёрнул за вожжи, тронулись дальше.
Всю дорогу Тит шёл как не своими ногами. До последнего не верилось, что это произошло именно с ним – Гулевич Титом Ивановичем. Казалось – сон это. Страшный, но сон. Вот сейчас проснётся, откроет глаза, скажет, глядя на окно: «Куда ночь – туда и сон», и всё прервётся, закончатся кошмары, будет светлое и чистое пробуждение. И снова первой мыслью подумает о мельнице, о своей мельнице. И тихая волна радости и умилённой благодати укутает душу, мягко коснётся сердца, вышибая слезу из глаз. Будет радостное пробуждение, будет ожидание ещё большего счастья. Как же, в двадцать лет он стал владельцем самой настоящей, своей, личной водяной мельницы! Её начали строить ещё с отцом, а заканчивал уже он один: батька умер в этом году по весне в самый паводок. Походил по талой воде, всё запруду поправлял, всё ладил, вот и застудился, не встал более, а потом и помер перед святой Пасхой. Но и умирая, просил Тита отвезти его на мельницу, положить у жерновов на стеллаж из досок, куда складывают мешки с зерном перед тем, как высыпать в бункер, а затем пустить в ящик-дозатор с заслонкой, которой регулируют подачу зерна на жернова.
– Хочу, сынок, умереть на своей мельничке. Душа моя радоваться станет, прощаясь с телом, с делами земными. Ведь иметь собственную мельницу – не только моя мечта, а мечта всех поколений Гулевичей. Её, мечту эту, передал мне мой родитель, а ему – его. Сколько поколений мечтало, а выпало счастье нам с тобой, сынок. Гордись! Вот только жаль, что духом хлебным не захлебнусь на прощание. И всё равно это ж благодать Господня умереть здесь. Так что, уважь, родимый, исполни мою последнюю волю, – блаженно улыбался старый мельник перед смертью.
Уважил батю сын.
Там и умер отец, у жерновов Богу душу отдал с улыбкой на устах.
Пришлось сыну самому достраивать, доделывать, доводить до ума. Сделал. Провёл и пробный помол. Мелет хорошо, тонко, чисто. Лучше, чем на ветряной мельнице Прибыльских. Жернова-то вместе с вертикальным валом заказывали и везли аж из самого города Смоленска! Оттуда же привезли и водяное колесо, обшитое тонкой жестью с такими же лёгкими металлическими лопастями для нижнего боя: износу не будет. Сам горизонтальный приводной вал с шестерней-маткой тоже брали в Смоленске. Не стали делать у себя: заводской надёжней. И не прогадали. Вот и мололи жернова чудно, на зависть. Отдельно изладил крупорушку при мельнице, проверил её в работе, и снова получилось так, что душа пела от счастья. Вот что значит хорошее оборудование на мельнице!
Мечтали с отцом поставить дополнительное колесо и пристроить к мельнице пильню и сукновальню. Леса вокруг, материала в избытке, сколько ж можно вручную доску пилить? За шерсть и речи нет. Специальный журнал выписали из самой Москвы-города. Там всё сказано, что и как с сукновальней, с пильней. Но… не судьба!
Готовился к помолу нового урожая. Сколько надежд возлагал на него, какие только мечты не приходили в голову?! Уже мужики из Горевки, из Никодимово приезжали на мельницу для знакомств. Мол, самим лично посмотреть надо, руками пощупать, что и как тут будет, каков помол. А то вдруг из новой мельницы муку хозяйки не примут, забракуют, не по нраву будет? Вдруг тесто грубым получится, плохо подходить станет? Со старой мельницы привыкли уже. А тут новая. Сомнения – куда им деться среди крестьянского люда? Да по какой цене молоть решил Тит? Деньгой брать будет или мучицей? Иль зерном может? Много ль хлебушка за помол себе оставлять станет? Так же как и у Прибыльского иль чуток поменьше? Тот-то с пуда зерна без малого четыре фунта чистой мучицы забирал.
Гулевичи ещё при живом отце решили брать с давальческого зерна по два с половиной фунта муки. Посчитали, что так и сами в накладе не останутся, и народ должен быть доволен. Всё же сэкономить полкило муки с пуда зерна – это не кот начихал. Но и жадничать не след. Проклянут люди, не рад будешь этой мучице, поперёк горла калач встанет. Да и не по-христиански это.
По такой оплате с голоду семья Гулевичей не помрёт – это уж точно, ещё и в хороших барышах будет, а если добавить в семейные закрома муку из пшенички, что вызреет на собственных десятинах, так куда с добром! Ещё и излишек можно будет продать в уезде на ярмарке. Продать зерно – это половина дела, это – от безысходности, от нужды. Мучица – вот это уже товар, что надо! Конечный продукт в крестьянской работе. И цена муки – неровня зерну. А ещё лучше – хлебушек! Пекарню можно было открыть. Благо, в окрестности нет её, разве что в уезде есть. А в волости – нет.
Хорошая слава шла о новых мельниках, хорошая. Даже несколько раз приезжали из деревни Никитихи, что рядом с уездным городом, тоже интересовались, обещались привезти зернецо. Молва о новой мельнице быстро разнеслась по округе.
Да-а, планы строили…
А третьего дня под утро прибежал от мельницы мальчонка, младший брат Прошки Зеленухина – Илюшка. Он подсобным рабочим был там, помогал. Весь дрожит, в слезах. Незнакомые люди налетели средь ночи на мельницу, связали дядьку Николу, что за сторожа был. Он, Илюшка, ускользнул, скрылся в темноте, затаился в камышах на заводи и уже оттуда наблюдал.
Порушили запруду разбойники, спустили воду, раскатали по брёвнышку мельницу, а что не смогли – облили керосином и подожгли.
Когда Тит прилетел на жеребце к мельнице, спасать уже было нечего: догорала. Вокруг лежали разбросанные брёвна. Лишь колесо и горизонтальный вал уцелели.
Успел только услышать голос с хрипотцой одного из бандитов, увидеть довелось в лунном свете, как бежал он, хромая, до брички.
Кинулся, было, вдогонку, так вот незадача: на полном скаку жеребец попал в ямку, что вырыли кроты, сломан ногу. Беда не ходит одна. Слава Богу, сам уцелел, только больно ударился о землю. А жеребца пришлось убрать: хромой конь в хозяйстве – обуза.
Рано поутру обследовал всю местность вокруг мельницы. Обратил внимание на следы от сапог: Один след полный, а второй – только носок сапога. Пятки не было, не оставила следа пятка на правой ноге. Уверовал ещё больше Тит в тот момент, что один из бандитов слишком приметный: хромой и голос с хрипотцой. Именно его видел средь ночи тогда на мельнице. Искать станет лиходея по этим приметам. А из хромых в бандитах ходит только Петря. Об этом разбойнике Тит слышал с год тому: у всей округи на устах был, вот только встретиться не доводилось. Бог миловал, не пересекались до этого случая пути-дорожки хлебороба и бандита.
Сразу же поспешил в волость, в Никодимово. Обсказал всё как есть в околотке. Так даже слушать не стали. Околоточный смерил презрительным взглядом взъерошенного просителя, процедил сквозь зубы:
– Тут и без тебя дел невпроворот, чтобы твоими мелочами заниматься. Новую мельницу построишь. Ничего не украли, никого не убили. Та-а-ак, пошалил кто-то малость, а ты в околоток сразу. Шалостями полиция не занимается. Жил ведь раньше без мельницы, и дальше без неё проживёшь. Хлопот меньше будет, – зло пошутил и быстренько выпроводил Тита на улицу. – Может, по пьянке сам же и сжёг, а сейчас опомнился, страдалец, – прокричал вдогонку. – С больной головы на здоровую переложить хочешь.
К волостному старшине зашёл, тот даже на порог не пустил. Занятым оказался. Волостной писарь взашей вытолкал из канцелярии, обругал в спину:
– Шляются здесь кто не попадя да кому не лень, работать мешают. Неча было заморачиваться… Хлопот бы меньше…
Понял тогда Тит, что никому он со своим горем-бедою не нужен: ни волостным властям, ни полиции. Вся надежда только на себя: на свои руки, на свою голову. С тем и ушёл.
Всякое передумал: кто бы мог стоять за разбойниками? Ну, не могли же они за здорово живёшь, запросто так, поехать в ночь за три версты от деревни на пустую мельницу?! Ладно, была бы уже мучица там иль зерно, дело другое. На муку с зерном позарились. А так? Пришёл-таки к мнению, что это дело рук барина Прибыльского. Его рук дело. Несколько раз он сам лично верхом приезжал, смотрел, как строится мельница. Общался с батей, отговаривал. А потом и стращал.
– Чего тебе, Иван Назарович, не хватало у меня на мельнице? Мало платил? Так в чём вопрос? Скажи, чего тебе ещё надо, добавлю.
– Нет, барин. Того, что мне надо, вы дать не сможете. Это деньгами и пудами муки не измерить.
– Чего же? А вдруг смогу?
– Воля, воля мне нужна, благодетель. Надо, чтобы мельница была моя, вы понимаете? Мо-я-а! И земля моя! Чтобы моя мельница на моей земле стояла. Хозяином хочу быть!
– Смотри, чтобы волей своей не захлебнулся, дурак старый, – вышел из себя барин. – Умишка-то Бог не дал, а ты о воле речь завёл. Подохнешь с голоду, но обратно на мельницу не возьму.
– Спасибо, благодетель, – смиренно отвечал старый мельник. – Коль и помру, то на своей земельке, при своей мельничке. А это для меня – благодать Господня. Вот как, барин. Не надо меня стращать. Это, может, мечта моя – умереть на своей собственной землице. В радость та кончина будет. Не каждому дано понять, но это так. А с голоду мы, Гулевичи, никогда не помрём. Знаете, почему? – и, не дожидаясь ответа барина, продолжил:
– Наш род рождён в трудах праведных. Мы знаем цену хлеба, и как он добывается – знаем тоже. И умеем его зарабатывать. Никто нас не уличит в лени.
У Тита тоже разговор состоялся с Алексеем Христофоровичем:
– Пётр Аркадьевич Столыпин позволил вам, сирым и убогим, иметь в личной собственности землю. Так и имейте. Чего вам ещё надо? Паши, сей. Зачем вам лишняя морока с мельницей? Неужели вам с батей не хватала муки с моей мельницы? Я прикажу, и ни один мужик из округи не повезёт к вам молоть. Бесплатно, даром молоть стану на своей мельнице давальческое зерно. Что тогда? Царь с министрами далеко, а я здесь для вас и царь, и бог. И мельница уже есть одна – моя. Хватит, больше не надо нам мельниц. Пока вся округа успевала молоть, жалоб и нареканий не было. А уж если вам так хочется молоть, так поставьте в сенях жернова ручные, да и бог вам в помощь! Мелите, сколько влезет, пока не задохнётесь. А поперек моей воли, поперек моего дела становиться не могите: раздавлю! Сотру в порошок и по ветру пущу. Пропущу живыми между жерновами, и не жить вам больше, не ходить по земле со мною рядом, голытьба тупорылая. Я не позволю покуситься на моё право, право сильного и успешного. Вот и думайте с батькой, где лучше. И над моими словами хорошенько пораскиньте мозгами: вдруг до истины доберётесь?! Но знать обязаны всегда: когда на кон поставлено моё благополучие, когда в мою среду обитания врывается такая голытьба как вы, я за ценой не постою! Помните и соображайте!
А что было думать? Дело давно решенное.
Покойный отец всю жизнь проработал мельником на мельнице Прибыльских. И его отец там же трудился. Нет, жили они хорошо по сравнению с сельчанами, грех жаловаться. Однако всю жизнь Гулевичи мечтали иметь собственную мельницу. И дед мечтал, и отец мечтал, и он, Тит Гулевич, не был исключением. Он ведь тоже с самого раннего детства там же работал, на мельнице барина Прибыльского.
Как только исполнилось двенадцать годочков, только-только отходил четыре зимы в церковно-приходскую школу в Никодимово, так батя забрал с собой на работу.
– Всё, сынок, отучился, детский хлебушко откушал у родительского стола. Пора и честь знать, пора и на свой хлебушко-то переходить.
То подсобным рабочим при мельнице был на первых пора, на побегушках; то уборку мельницы делал; то чистил короба; а в силу вошёл – мешки с зерном да с мукой таскал. Потом отец постепенно стал допускать до самой мельницы, до управления жерновами, обучал премудростям мельничного дела. Учил выбирать мельчайший зазор между жерновами по звуку; определять степень помола муки на ощупь, не глядя; зрелость зерна узнавать на зуб, а качества муки по вкусу и запаху.
Строгий был отец, ох, и строгий. Но правильный. Куском хлеба не упрекал, но и лодырем жить не позволил. И честным был. На удивление всей округи честным был. Вот за это и ценили его и баре Прибыльские, и крестьяне с окрестных деревень. Помимо своей доли, что выделял барин для мельника за его работу, ни единой щепотки, ни единого фунта мучицы отец не позволял себе взять с мельницы. А уж из зерна давальческого, из крестьянского – и подавно. Многие даже укоряли Ивана Назаровича: мол, быть у воды и не напиться? Не дурак ли? С трудом верили и не понимали… Однако не брал ни зёрнышка, ни пылинки мучной, чем и снискал уважение у местных жителей.
Прошка Зеленухин – друг детства и подельник Тита, как-то подговорил своего товарища:
– Ты в мучице купаешься, а у нас на столе хлеб последний раз был только на Коляды.
А дело было уже по весне, на Сорока. В каждом доме пекли сдобу, славили приход весны, прилёт птиц из жарких стран. Только в доме Прошки не могли позволить себе испечь жаворонков из теста: не из чего.
Жили Зеленухины бедно: три брата, две сестры, все мал-мала меньше, самый старший – Прошка, ровесник Тита, двенадцати годочков. Огородишко при избе в несколько саженей вдоль и поперёк, и всё! А что на таком огородишке посадить-вырастить можно? Ну, картошки несколько кулей. Ну, грядки какие-никакие. А семья-то – шесть душ! И все есть-пить просят. Отца похоронили, когда младшей девчонке не было и года. Валил лес барину Прибыльскому в Примаковом урочище, там и придавило сосной. Похрипел, похаркал кровью дома с неделю, да и помер как раз на Успение Пресвятой Богородицы. Мамка их больной была от рождения, батрачила то у одного, то у другого. А то и сидела без дел: не горели желанием сельчане нанимать больную и кривую женщину на работу. Кому охота? Чаще всего полола огороды у богатых, хозяйских коров пасла. Но это ж работа сезонная. А жить-то, кормить семью надо круглый год. Вот и думай тут…
Подговорил Прошка дружка своего. Жалко стало семью Зеленухиных мальчишке. Несколько раз набирал Тит в карманы муки. Не много, не больше полфунта за раз. Относил тайком, высыпал в сенцах у Прошки в чистую посудину.
Как узнал отец – не ведомо, однако узнал, поймал на месте, когда Тит выходил из мельницы с мукой в кармане.
С неделю сынок не мог сидеть, спал только на животе.
– Не моги брать чужое! Грех это, тяжкий грех это! – вот и всё, что сказал в тот момент отец сыну, заправляя обратно ремень в штаны.