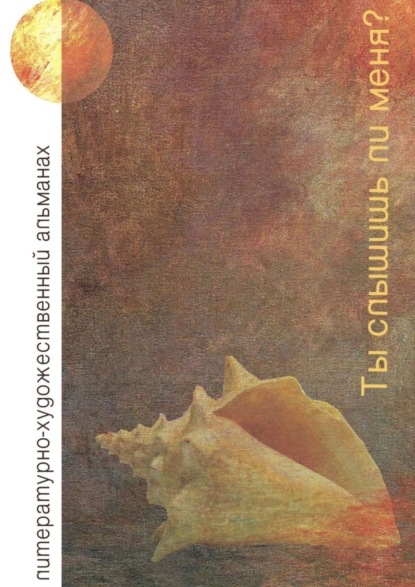По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ты слышишь ли меня? Литературно-художественный альманах
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ведь они тебя сейчас ненавидят, кролик. – Задумчиво произнес мой бывший одноклассник. – Посмотри на их лица… ты помешала им слушать, и…
– Это просто раздражение. – Ответила я как можно спокойнее. – Смирение – добродетель, но раздражение – не грех. Не смертный грех…
оставаться и дальше на площади было уже немыслимо. Я побрела домой. По сторонам не смотрела, и старалась даже не думать, что буду делать, если этот Слава пойдет за мной. Да, точно. Именно Слава, а не Саша. Причем, полное имя – Ярослав… а фамилия простая, распространенная – Смирнов. Потому я сразу и не вспомнила, такая незаметная, сглаженная фамилия.
Улица тиха и безлюдна. Даже машины не шумят. Значит, уже девятый час? Народ расселся перед телевизорами и компьютерами. Кто-то ужинает, кто-то читает молитвы, кто-то спит.
Плывут над трассой навязчиво яркие баннеры, сквозь них сыплется мелкая снежная пыль. Март. Март заканчивается, скоро лето. А потом еще лето, и еще. Целая жизнь, как испытание. Целая жизнь испытательных лет…
Нормальная такая, человеческая жизнь. Полноценная. За ней – еще будет поколение. А потом всё. Совершенно точно, документально подтвержденное «всё». Библейское «все». «Всё», снабженное знамениями ровно настолько, чтобы каждый видел воочию и бесполезность борьбы, и свет надежды.
Потому что если сбываются «звезда полынь» и «саранча», то почему не сбыться всему остальному? Всем иным пророчествам святого писания? И новый приход Мессии. И Армагеддон. И Страшный суд.
Не надо бояться, прав отец Евстигней.
А дома брат с бананами в ушах и заначкой марихуаны. У него своя теория. Если все равно ничего не останется, так зачем беречь хоть что-то? Надо успеть взять то, что хочется. А чего не хочется, того не жалко. Их много, таких вот, как Дюшка. Десятки и сотни. Их становится все больше, ибо нашу надежду они не приемлют, а своей надежды у них нет. Брату тринадцать, но он уже меня перерос.
Ватага вывалила из арки мне навстречу. Десятка полтора их. В руках у кого палки, у кого и куски железной арматуры. Погромщики. Девчонки тоже есть. Милиция и добровольческие церковные дружины задерживают их без счета каждый день, но покоя хватает ненадолго. Я думала, мимо пройдут, как всегда раньше проходили. Но нет. Остановились, обступили со всех сторон. Я еще не испугалась, не успела. А один из них выкрикнул:
– Свято-о-ша! В белом!
– Дайте пройти, – как можно спокойней попросила я.
Заржали, подступили ближе. Тот, первый, ему лет пятнадцать, не больше, поднял железяку, и очень серьезно сказал:
– За то, что мамку мою списали… я вам никогда не прощу! Слышите? Никогда!
Списали. В нашем районе это когда-то означало – убили. Или подставили так, что человек без вины попал в тюрьму. Мальчику соврали. Господи, прости его…
– Тебя обманули, – тихо сказала я. Я еще с института помню правило. Хочешь быть услышанным, говори тише. Прислушаются.
– Да ладно!
Он ударил. Быстро и сильно, но я увернулась. От второго удара не увернулась бы, но второго удара не последовало. Последовал тихий хлопок где-то сбоку, и ровный голос, произнесший одну короткую фразу:
– Брысь, шавки!
Они побежали. Кажется.
Я обнаружила себя сидящей на асфальте, в грязной луже. Хлопок – это был выстрел.
– Вставай, Кролик. Никто тебя не тронет.
Глупо как, Господи. Он, значит, за мной шел. Зачем? Медленно встала, отряхнулась. Ну, и что дальше?
– Испугалась?
– Нет.
– Значит, ты так и живешь в этом районе? Понятно. Пожалуй, можно было догадаться. Скажи, Кролик, а твой отец сейчас дома?
Ну, вот и причина. Он заговорил со мной только потому, что ему нужен мой отец. Я-то гадала, в чем дело…
И вот еще вопрос, где Ярослав Смирнов пропадал весь последний год? Потому что…
– Мой отец умер чуть меньше года назад.
Прищурился недоверчиво:
– Академик умер? Именно умер? Странно…
– Ничего странного. Инсульт.
– Да? Ммм… ну, теперь понятно, почему… а Андрей живет с тобой. Поэтому ты еще не в общине. Ему ведь нет шестнадцати?
– Тринадцать.
– Ага. Детское пособие уже не получает, а работать еще не может…
Господи, да как я этого оболтуса брошу? Он же пропадет без меня. Свяжется со шпаной… уже связался. Но пока есть я, он способен оглядываться назад и не совершит ничего совсем уж непоправимого.
– Жаль. Соболезную.
Я отвернулась. Отчего-то болела правая нога. Наверное, ушибла, когда упала. Ничего. До дому как-нибудь дохрамаю.
– Погоди.
Я остановилась в арке. Ну, что еще?
– Ты веришь ему? Священнику, который проповедует на площади? Веришь?
– Верю.
Злость и внезапно прорвавшаяся тоска заставили меня развернуться к нему лицом. Сейчас я – в тени арки, а он весь на виду. Весь, от дорогих ботинок до влажных, блестящих в свете фонаря, волос. Действительно, красавчик. Иные наши с ним сверстники успели обзавестись брюшком, а кое-кто и лысиной. А этот – подтянут, ухожен, одет. Все ведь выяснил, что было нужно, зачем же продолжать эти тягостные расспросы?..
– Верю. Потому что он предлагает надежду. Надежду для всех. На спасение. На вечную жизнь…
Он хотя бы не отворачивается равнодушно.
Кивнул. Как-то печально произнес:
– Глупый-глупый кролик. Я к тебе зайду. На неделе.
– Здравствуй, дочь моя. У тебя что-то случилось?
– Здравствуйте, батюшка…
Убранство в кабинете самое обычное, совсем не церковное. Да это и не церковь. Общественная приемная.
– Это просто раздражение. – Ответила я как можно спокойнее. – Смирение – добродетель, но раздражение – не грех. Не смертный грех…
оставаться и дальше на площади было уже немыслимо. Я побрела домой. По сторонам не смотрела, и старалась даже не думать, что буду делать, если этот Слава пойдет за мной. Да, точно. Именно Слава, а не Саша. Причем, полное имя – Ярослав… а фамилия простая, распространенная – Смирнов. Потому я сразу и не вспомнила, такая незаметная, сглаженная фамилия.
Улица тиха и безлюдна. Даже машины не шумят. Значит, уже девятый час? Народ расселся перед телевизорами и компьютерами. Кто-то ужинает, кто-то читает молитвы, кто-то спит.
Плывут над трассой навязчиво яркие баннеры, сквозь них сыплется мелкая снежная пыль. Март. Март заканчивается, скоро лето. А потом еще лето, и еще. Целая жизнь, как испытание. Целая жизнь испытательных лет…
Нормальная такая, человеческая жизнь. Полноценная. За ней – еще будет поколение. А потом всё. Совершенно точно, документально подтвержденное «всё». Библейское «все». «Всё», снабженное знамениями ровно настолько, чтобы каждый видел воочию и бесполезность борьбы, и свет надежды.
Потому что если сбываются «звезда полынь» и «саранча», то почему не сбыться всему остальному? Всем иным пророчествам святого писания? И новый приход Мессии. И Армагеддон. И Страшный суд.
Не надо бояться, прав отец Евстигней.
А дома брат с бананами в ушах и заначкой марихуаны. У него своя теория. Если все равно ничего не останется, так зачем беречь хоть что-то? Надо успеть взять то, что хочется. А чего не хочется, того не жалко. Их много, таких вот, как Дюшка. Десятки и сотни. Их становится все больше, ибо нашу надежду они не приемлют, а своей надежды у них нет. Брату тринадцать, но он уже меня перерос.
Ватага вывалила из арки мне навстречу. Десятка полтора их. В руках у кого палки, у кого и куски железной арматуры. Погромщики. Девчонки тоже есть. Милиция и добровольческие церковные дружины задерживают их без счета каждый день, но покоя хватает ненадолго. Я думала, мимо пройдут, как всегда раньше проходили. Но нет. Остановились, обступили со всех сторон. Я еще не испугалась, не успела. А один из них выкрикнул:
– Свято-о-ша! В белом!
– Дайте пройти, – как можно спокойней попросила я.
Заржали, подступили ближе. Тот, первый, ему лет пятнадцать, не больше, поднял железяку, и очень серьезно сказал:
– За то, что мамку мою списали… я вам никогда не прощу! Слышите? Никогда!
Списали. В нашем районе это когда-то означало – убили. Или подставили так, что человек без вины попал в тюрьму. Мальчику соврали. Господи, прости его…
– Тебя обманули, – тихо сказала я. Я еще с института помню правило. Хочешь быть услышанным, говори тише. Прислушаются.
– Да ладно!
Он ударил. Быстро и сильно, но я увернулась. От второго удара не увернулась бы, но второго удара не последовало. Последовал тихий хлопок где-то сбоку, и ровный голос, произнесший одну короткую фразу:
– Брысь, шавки!
Они побежали. Кажется.
Я обнаружила себя сидящей на асфальте, в грязной луже. Хлопок – это был выстрел.
– Вставай, Кролик. Никто тебя не тронет.
Глупо как, Господи. Он, значит, за мной шел. Зачем? Медленно встала, отряхнулась. Ну, и что дальше?
– Испугалась?
– Нет.
– Значит, ты так и живешь в этом районе? Понятно. Пожалуй, можно было догадаться. Скажи, Кролик, а твой отец сейчас дома?
Ну, вот и причина. Он заговорил со мной только потому, что ему нужен мой отец. Я-то гадала, в чем дело…
И вот еще вопрос, где Ярослав Смирнов пропадал весь последний год? Потому что…
– Мой отец умер чуть меньше года назад.
Прищурился недоверчиво:
– Академик умер? Именно умер? Странно…
– Ничего странного. Инсульт.
– Да? Ммм… ну, теперь понятно, почему… а Андрей живет с тобой. Поэтому ты еще не в общине. Ему ведь нет шестнадцати?
– Тринадцать.
– Ага. Детское пособие уже не получает, а работать еще не может…
Господи, да как я этого оболтуса брошу? Он же пропадет без меня. Свяжется со шпаной… уже связался. Но пока есть я, он способен оглядываться назад и не совершит ничего совсем уж непоправимого.
– Жаль. Соболезную.
Я отвернулась. Отчего-то болела правая нога. Наверное, ушибла, когда упала. Ничего. До дому как-нибудь дохрамаю.
– Погоди.
Я остановилась в арке. Ну, что еще?
– Ты веришь ему? Священнику, который проповедует на площади? Веришь?
– Верю.
Злость и внезапно прорвавшаяся тоска заставили меня развернуться к нему лицом. Сейчас я – в тени арки, а он весь на виду. Весь, от дорогих ботинок до влажных, блестящих в свете фонаря, волос. Действительно, красавчик. Иные наши с ним сверстники успели обзавестись брюшком, а кое-кто и лысиной. А этот – подтянут, ухожен, одет. Все ведь выяснил, что было нужно, зачем же продолжать эти тягостные расспросы?..
– Верю. Потому что он предлагает надежду. Надежду для всех. На спасение. На вечную жизнь…
Он хотя бы не отворачивается равнодушно.
Кивнул. Как-то печально произнес:
– Глупый-глупый кролик. Я к тебе зайду. На неделе.
– Здравствуй, дочь моя. У тебя что-то случилось?
– Здравствуйте, батюшка…
Убранство в кабинете самое обычное, совсем не церковное. Да это и не церковь. Общественная приемная.