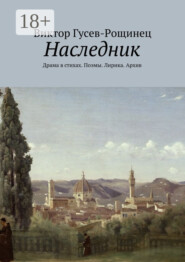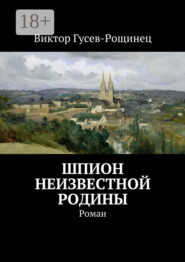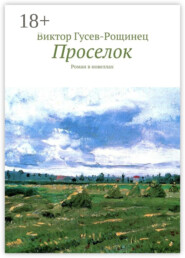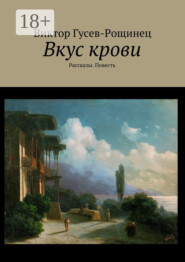По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крушение. Роман-дилогия «Вечерняя земля». Книга 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Крушение. Роман-дилогия «Вечерняя земля». Книга 2
Виктор Гусев-Рощинец
«Крушение» – вторая книга романа-дилогии «Вечерняя земля». В ней продолжено повествование о жизни и деятельности героев первой книги романа – «Железные зёрна».
Крушение
Роман-дилогия «Вечерняя земля». Книга 2
Виктор Гусев-Рощинец
«Всем богам суждено умереть»
(Ницше)
«Наша жизнь – это постоянный стыд, ибо она —
постоянная ошибка»
(Шатобриан)
Ответственный редактор выпуска Г. Я. Гусева
© Виктор Гусев-Рощинец, 2018
ISBN 978-5-4490-3204-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть 1. Побег
Глава 1. Ольга
Бывает, не знаешь – как, но что некое происшествие направит жизнь по пути непредсказуемому, чувствуешь всей кожей. Ощущение близкого перелома. Иногда приписываешь его исполнению собственных замыслов. Но как правило вероятность таких – плановых – свершений ничтожно мала; приходится довольствоваться случаем и, может быть, использовать его в своих интересах.
Эти два друг за другом грянувших события заставили меня по-новому взглянуть на вещи. Несчастье, случившееся с братом, не отпускало сознанием моей причастности, чувством вины. Ведь это я вопреки заведенному обычаю не установила надзора за нашим «транспортным средством» (папин любимый термин), допустила неосторожность, и если нет с меня спроса по счетам формальным, то куда укроешься от нечистой совести? Митька, разумеется, мальчишка избалованный, и причиной тому я вижу папочкино воспитание, хотя и свою долю готова принять за то и понести ответ.
Что до второго, то и вовсе не знаю, чему его приписать. Если все было так, как мне рассказали, впрямь можно подумать, что налицо приступ буйного помешательства. Хотя я в такое не верю. До тех пор пока не дадут свидания, и я не увижу его сама, не могу ничего сказать.
Володя, что называется, рвет и мечет. Куда и девалась его обычная флегматичность. Показная, впрочем. Я знаю, как он может быть неудержим, да что там – одержим! – если им овладела какая-то мысль, идея; для достижения своей цели он способен разнести вдребезги любую преграду. Боюсь, и наш брак не покажется ему непреодолимым препятствием. И даже его любовь к дочке, нашему Сашуленку. Я боюсь думать о том, но, кажется, Володя переступит даже через нее и двинется к «вершине, сияющей во мраке», но видимой лишь ему одному. С этой несчастной Анголой, будь она трижды неладна, он связывал так много надежд, что теперь в его глазах я, виновница крушения столь далеко идущих планов, оказалась поистине его злым гением. Беда в том, что он никак не хочет понять меня. Даже безупречные по логике доводы на него не действуют. Например: основная посылка – мы оставляем Сашку на попечение папы и бабушки, – не тащить же, право, ребенка в тропики! Где на нее непременно обрушатся нам неведомые болезни. Тропическая лихорадка, сонная болезнь, да мало ли что! С ее-то астматическими симптомами аллергического, как говорят врачи, свойства. Равносильно убийству! А кому, спрашивается, теперь мы оставим ее? Бабушке? Когда я задаю этот вопрос Володе и даже не надеюсь на ответ, ибо сознаю абсолютную риторичность нашего диалога, он тем не менее остается тверд и предлагает на выбор два варианта: 1) бреем девочку с собой, 2) оставляем на бабушку. Я смотрю на него и думаю: что испытывает человек, которого охватывает стремление, по справедливости должное быть названо фанатическим?
Я-то знаю: фанатики – люди действия. Он сказал уже: если я «из прихоти» сорву ему (ему – заметьте) эту командировку, то он немедленно начнет действовать «в другом направлении». А что это за направление – мне хорошо известно: Израиль. Еврейка-мать наделила его всеми необходимыми аргументами, в том числе пресловутым стремлением вернуться «на родину предков». Будто русские предки отца имеют меньше прав на его чувствительную душу! Посмотреть – так ведь русак русаком! Метко сказано кем-то, не помню кем: русский человек как еврей. Возможно, это было сказано по другому поводу. Уж если на то пошло, я предпочту отправиться в Израиль, чем в тропики, хотя и должна буду распрощаться надолго с родными, друзьями, Москвой. Со школой. И ведь знаю, что буду мучиться ностальгией по всей этой привычной мишуре, включая политинформации, комсомольские собрания, сбор металлолома, экскурсии в музей революции, военные парады и съезды КПСС. Став евреем, русский человек будто переворачивается с головы на ноги, мозг освобождается от переизбытка крови, а равно и глаза, с них будто пелена спадает, и все удаляется, как в перевернутом бинокле, становится мелким и оттого ничтожным. Все, однако не то что любишь по-настоящему. И не почитаешь долгом.
Последнее время я только и делаю что примериваю на себя наше грядущее «еврейство». Право, интересно. Похоже на то как надеваешь новое платье и стоишь, и крутишься перед зеркалом – оценить красиво ли, «идет не идет», и соответствует ли цена, за него уплаченная, метаморфозе, происшедшей с твоим лицом и фигурой. Подчеркнуты ли их достоинства и надежно ли упрятаны недостатки. И как соотносится это все с нынешней модой. И будет ли практичным в носке. И еще с десяток всевозможных аспектов и «углов зрения» – и ни один из них нельзя упустить.
Она стоит у классной доски, спиной к детям, и старается чтобы строчка была ровной, не падала на конце, как это обычно происходило с теми, которые случалось ей выводить пером на бумаге. И доски теперь другие, матовая мягкая зелень вбирает мел бесшумно, легко и будто подсвечивает и заставляет фосфоресцировать нежную белизну; не устает рука, жирная пудра не падает за обшлага, не осыпает платье. Нечто ранее обременительное стало, пожалуй, даже, своеобразным удовольствием.
Напряженная тишина изредка прерывается всплеском переворачиваемой страницы, дробью упавшей на пол ручки или чьим-нибудь покашливанием. Тишина зрительного зала. Во всяком случае, теперь уже никак не применим некогда модный оборот о тишине, нарушаемой только скрипом перьев. Перья, к сожалению, давно не скрипят и не разбрызгивают чернил в стремительном полете над прямоугольничками бумажных полей, теперь вездесущие «шарики» тяжелой поступью давят тетрадные страницы, калеча детский почерк и напрочь изводя искусство каллиграфии. Всего лишь семь-десять лет назад, когда она сама вот так же склонялась над партой, это нашествие еще не обрушилось на школу, у них в моде были китайские «самописки» с золотыми перьями; однако вскоре что-то сломалось, видимо, в чернильной технологии: всем известная «радуга» стала прокисать, створоживаться и, забивая капилляры, быстро и навсегда выводила из строя дорогие авторучки.
Ольга уже имела достаточно опыта, чтобы отличить тишину затаенного дыхания, сопровождающего, как она любила повторять, «опыт познания», от тишины другого сорта – порождаемой безразличием. Она часто ловила себя на том, что на волне собственного вдохновения одно принимает за другое: тишину отрешенности за тишину напряженного внимания. Иногда, обернувшись к классу после какого-нибудь особенно удачного, по ее мнению, экскурса в «сад этимологии», место ее любимых прогулок, она встречала потухшие глаза, пустые лица. Такое случалось чаще в старших классах; она с грустью думала о том, какими же неисповедимыми путями приходит их молодая паства к этому удручающему состоянию незаинтересованности – ни в чем, даже в собственном будущем. Так ей по крайней мере казалось в эти не лучшие минуты, когда диковинные плоды, взращенные годами школьной рутины распространяли вокруг себя удушливый запах неблагополучия. Едва ли не набивший оскомину тезис о безнадежной отсталости школьной системы образования тем не менее ежедневно, ежечасно утверждал себя отсутствующими лицами детей на уроках. Ее собственные старания наполовину уходили в песок, и лишь двое из всего класса, мальчик и девочка, как ей было известно, решившие связать свою будущую профессию с языком, откликались на ее настойчивые призывы. Ольга объясняла это тем, что не «растила» класс, не поднимала с азов, и, где-то проскочив критическую возрастную нишу, эти уже взрослые теперь дети с трудом поддаются обучению – как например не поддается ему ребенок, выросший в волчьей стае. Однажды наткнувшись на это нелестное сравнение, она постаралась смягчить его ссылками на условия, препятствующие контактам с «носителями языка». Ведь даже она, учитель английского, не могла по собственной прихоти, а пуще того по призыву очевидной необходимости отправиться в Англию, чтобы окунуться в языковую среду и преклонить колена в Стратфорде – на-Эйвоне. И снова подумалось: великая нация, живущая в несчастной стране. Этимологическая вертикаль: стороне – стране. Ведь можно же сказать: хорошие люди, живущие в плохой, гиблой стороне. Там, где плохо жить. Плохо жить, например, в пустыне, среди болот. На свалке. Не так давно она прочла в «Иностранке» роман какого-то скандинава (она не запомнила автора) под названием «Страна заката», где развернутая метафора – люди в прямом смысле живущие на гигантской свалке в окрестностях мегаполиса – долженствовала представить несчастную судьбу машинной цивилизации. Этакий шпенглеровский «закат Европы». Ей нечего возразить по поводу «закатного Запада, она не видела его и скорей всего не увидит (впрочем, нет: мужнино «еврейство», паче чаяния сбудется, может повлечь за собой некие тектонические сдвиги). Ее поразило другое: сходство описанного в романе ландшафта с тем, что открывалось взору с одиннадцатого этажа их марьнорощинского дома на пространстве железнодорожного полотна и его обочинах. Отец рассказывал, что во время войны тут была свалка искореженной военной техники, пригнанной на переплавку во «Вторичный алюминий». Теперь же здесь возвышаются горы строительного мусора, старых шпал, железного лома, стружки, громоздятся обгоревшие кузова автомобилей, вздымают к небу пустые глазницы «списанные» вагончики-бытовки, налезают друг на друга ржавые, отслужившие век цистерны. Какие же, с позволения сказать, эстетические переживания может возыметь ребенок, изо дня в день наблюдающий из окон своего дома этот дущераздирающий пейзаж? Люди, живущие на свалке в скандинавском романе, добровольно выбрали свой удел – в знак протеста против «цивилизаторского удушения» природных сил и свобод человеческих. Мы же, часто думала Ольга, вынуждены к тому самой сутью нашего бытия, по справедливости должной названа быть разложением.
Какая странная, страшная мысль! Отец рассказывал, как во время войны свалка служила их военным играм; но и теперь, переродившись, сбросив с себя благородную «железную маску», став обыкновенной кучей мусора, она, как ни удивительно, притягивает детей: когда ни посмотришь, пяток, а то и десяток мальчишеских фигурок мелькают в отвалах, они всегда что-то ищут, повинуясь неизбывной страсти кладоискательства. Она даже узнавала среди них иногда своих младших учеников.
Младших она любила. Второй, третий, четвертый классы. По-настоящему учила их разговаривать на чужом языке. Мучилась над учебниками, где древние залежи «советских» текстов перемежались редкими блестками английской классики. Задыхалась, опутанная силками «программы». Выбивалась из нее, и уже не раз была подвергнута критике методистами из РОНО, этими блюстителями идейной учительской чистоты и дисциплины. На младших была надежда. Основанная, пожалуй, лишь на вере в себя: по крайней мере, она не дает угаснуть тем огонькам, которые светились, питаемые неким лингвистическим талантом. А таких немало. Очень трогательно было узнать, что какая-нибудь девчушка-второклассница мечтает стать учителем английского языка. «Как вы, Ольга Владиславовна!» Как вы.
Боже мой! Как я! Чтобы как я, соблазнив не одну детскую душу посулом призвания, бросить потом на произвол судьбы и сбежать в заморские страны. Знание языка облегчает путь. Я облегчу им путь, Теперь уже не успею, верно, довести до выпуска, за меня это сделают другие, но самое главное – я положу начало.
Почему только девочки? Вероятно, сказывается стремление подражать. Ведь не скажет же мальчик: «Как вы, Ольга Владиславовна». Смешно. Я взялась было измерить интеллектуальный уровень своего класса (где я классный руководитель) с помощью одного американского теста, и, несмотря что «проводила мероприятие» с разрешения директора, тотчас последовал приказ: «Прекратить». Кто-то из родителей позвонил в РОНО: безобразие! что за самодеятельность! «наши дети – лучшие на свете!» Пионеры страны советов. Что-то мне удалось выяснить. О чем всегда и подозревала. Клянусь, я не феминистка, но результат был настолько очевидным, что даже наш уважаемый, но довольно-таки консервативный директор вынужден был его признать: пятиклассницы-девочки побивали своих сверстников по всем показателям и в среднем вдвое превосходили их по синтетическому критерию. Возможно, отец прав, когда говорит, что государство матриархата будет несравненно разумнее, чем нынешний режим «воинствующих фаллосов» (привожу дословно, хотя усматриваю в данном определении неточность денотации: я предпочла бы сказать – «фаллоимитаторов».
Бедный папа, он поплатился за свое долготерпение! За слепоту, так долго отделявшую его от реальности, Я понимаю, что последнее – своеобразная родовая травма, полученная «в награду» за избранное в этом мире местопребывание. В этом смысле мы все – инвалиды детства, Если бы не мое предполагаемое «еврейство», чудесным образом удалившее пелену с глаз, не эта моя «внутренняя эмиграция», то и теперь я бы оставалась так же слепа, как была прежде, и, бредя ощупью, продолжала натыкаться на стены нашего лабиринта. Думаю, что первым толчком для всех нас (исключая Митьку по причине малолетства) была мамина гибель – нелепая, неожиданная (это и не могло быть другим), а главное – я вижу теперь – трагически ненужная, как бывает все, что выступает следствием ложного знания, а тем паче свершаемых на основе него «исторических ошибок». Повседневность, говорит отец, это проявление истории до седьмого колена. Увы, от этого не легче. Помню, я была просто оглушена. Вдруг среди бела дня отворилась дверь, и вошел папа, и неуклюже, будто у него приступ радикулита, бочком присел на диванчик в прихожей и начал стягивать туфли. Все это он проделывал молча, но вместе с ним вошла какая-то особая тишина и поползла по комнатам, и выплеснулась в открытые окна, во двор, поглотив обычные звуки жизни – возгласы играющих детей, шорохи волнуемых ветром листьев на ветках тополя, парусные хлопки выбиваемых от пыли покрывал, а может быть ковров. Стало так тихо, как бывает перед грозой, хотя продолжало светить солнце, и небо оставалось чистым. Потом он поднялся, тяжело, будто у него и впрямь болела спина, и, не надев тапочки, прямо в носках прошел в комнаты. Мы следили за ним из кухни, я и бабушка, охватившая нас тревога была так настойчива, что мы двинулись за ним следом, храня молчание и лишь наблюдая за этой очевидной странностью его поведения. Он прошел в их маленькую спаленку, сел на кровать – недавно купленную арабскую кровать с необычайно мягким, прямо-таки по-восточному экзотическим матрасом («Мы спим на арабе», – говорила мама) – и уставился в пол. Мы с бабушкой стояли у двери, боясь нарушить молчание, а скорей оттого что просто не могли его нарушить: какая-то отвратительная спазма перехватила мне горло, а голова налилась тяжестью, как будто я долго пробыла на солнце. Кажется, я была близка к обмороку – даже ничего еще не зная о постигшем нас горе. Он сидел на «арабе», опершись локтями о колени, и большие, тяжелые кисти его рук свисали почти до пола. Потом он поднял голову и перевел глаза на свое отражение в зеркале платяного шкафа – оно было прямо перед ним, на расстоянии полуметра. Он смотрел на себя так, будто видел впервые и вглядывался в черты лица, пытаясь постигнуть характер незнакомца, с которым суждено теперь бок-о-бок прожить остаток дней. Наконец бабушка не выдержала: «Владя, что случилось?» Он повернул голову и посмотрел на нас. Я подумала: одно из двух: либо он не слышал вопроса, либо тот не может преодолеть какого-то порога и достичь сознания. Папины глаза, обычно живые, выразительные, оттенка неба в полуденный зной, были неподвижны и белы, как бывает наверно после тяжелой болезни, от свалившейся нежданно-негаданно беды или долгого созерцания чужих страданий. И тут мы конечно поняли. Бабушка не повторила даже вопроса, она ждала, а ведь еще надо было приготовиться к встрече с этой – мы уже знали – бедой, и знали: мама. Что-то случилось с мамой. Из маленькой комнаты прибежал Митька и тоже остановился в двери, привалившись к моей ноге. Папа жестом подозвал его к себе. Тот подошел и втиснулся меж его колен. Папа обнял его. Так они замерли обнявшись, а я чувствовала как отвратительная слабость разливается по всему телу. Бабушка неловко отвернулась, нетвердой походкой побрела к обеденному столу и опустилась на стул. Я же, где стояла там и села на корточки – ноги не держали. К горлу подкатил комок, я уже не могла ничего сказать, да что было говорить. Я вдруг поняла, что подсознательно ждала несчастья, хотя не могла бы сказать, откуда, из каких источников питалось это странное ожидание. Кажется, мы все, всегда, везде ждем чего-то такого, что перевернет так или иначе жизнь, сделав ее невыносимой. У папы, я знаю, это происходит по причине его раздвоенности – разрыва между профессиональным долгом и «новыми» (так он сказал недавно) убеждениями. По-видимому, нечто в том же роде питает и мои чувства, хотя не могу сказать, что мой разрыв так уж велик. «Вот оно», – говорит папа, когда неприятность или доподлинная беда стают на пороге нашего дома. И тогда тоже, обняв Митьку, прижав его к себе, он еще раз посмотрел на свое отражение в зеркале и сказал негромко, но отчетливо: «Вот оно». Конечно, и бабушка, она-то уж точно ждала. Может быть, уже и знала – тем знанием, которое носится в воздухе и неисповедимо вселяется в открытые для него души. Несколько дней перед тем бабушка мучилась головной болью и «мушками в глазах», как это с ней всегда случается при гипертонических кризах, хотя на этот раз давление было не очень высоким, и голова не кружилась, а наоборот, по ее словам, как-то необыкновенно была чиста и к тому же полнилась некими странными видениями, будто притекающими из самых отдаленных уголков памяти и влекущими за собой – что особенно представало необычным – настоящую сумятицу в чувствах. Мне знакомо это состояние, оно нередко настигает меня во время утренней гимнастики, – почему именно тогда? – продолжается несколько минут и, отхлынув, оставляет в душе пейзаж, подкрашенный бледными ностальгическими тонами.
Она закончила объяснения, и сразу же вслед за этим прозвенел звонок. Дети зашевелились, начали собираться. Последний урок – последняя высота. Всегда надо сохранять силы до последнего урока. А это непросто. При двадцати семи часах в неделю – полуторной «нагрузке» – занятия, как правило, по дням распределялись неравномерно, и часто к концу уроков, на исходе шестого часа Ольга чувствовала смертельную усталость, – ни о каком вдохновении говорить тут уже не приходилось. Ни рукой, ни ногой пошевельнуть, – в учительской среде таковое признание было не редкостью. Что поделаешь, нищенская зарплата вынуждала взваливать на себя непомерную ношу и работать на пределе физических возможностей. Еще они говорили и так: «на износ». Отец же, паче чаяния оказывался свидетелем, возражал не возражал, а приговаривал по-своему: «Вся страна работает на износ». Сомнительное утешение, подумала она.
Ольга осталась одна. Сложила в сумку учебники, тетради. Окинула взглядом класс. «Кабинет иностранного языка» был ее детищем в подлинном смысле слова. Все тут дышало ее заботой. Сельская Англия элегически смотрела со стен окошками-пейзажами; над Вестминстером плыли гулкие раскаты Большого Бена, а Тауэр меланхолически смотрелся, подобно Нарциссу, в зеркало Темзы. Она была по-настоящему влюблена в эту страну. Целая плеяда мудрецов теснилась в портретной галерее: Чосер, Шекспир, Мильтон, Блейк. От средневековья до наших дней. Джойс, Т. С. Элиот, Лоуренс, Вирджиния Вулф. В застекленном шкафчике стояли альбомы с репродукциями полотен английских художников. Там же, заслоняя собой с десяток разномастных корешков, красовалась яркой суперобложкой «История английского королевского дома». Все это разрешалось листать и рассматривать, и даже брать домой, – все, кроме «королей»: будучи подарком недавней делегации учителей-католиков, альбом не мог быть восстановлен в случае пропажи. А пропадало многое – как в капле воды, в их «обители знаний» отражался разгул охватившей страну воровской стихии. Тащили все, от завезенных для ремонта стройматериалов до карандашей, невзначай забытых на столе в учительской. Из сумок, на минуту оставленных без присмотра, тащили деньги, вещи и даже продукты. Из классов – телевизоры и магнитофоны. Тащили компьютеры. В раздевалке пропадала одежда. По школе то и дело рыскали собаки-ищейки, и если воры по недальновидности не устраивали поджога с целью сокрытия улик, то иногда – очень редко – возвращали украденное его законным владельцам. Типичным мотивом была месть бывших учащихся «родной» школе, снимавшей со своего «борта» нерадивых после восьмого класса и, как говорили, отправлявшей их «в люди». Мстили выпускники некогда ненавистным учителям, избирательно поджигая помещения, где последние хранили наворованное ими самими. Стародавний большевистский клич «грабь награбленное» с удивительной готовностью подхватывался новыми поколениями. Как бы уже из своего эмигрантского далека, представив обворованным свой кабинет (пока что бог миловал ее), Ольга подумала еще раз: несчастная страна, несчастный народ. Она закрыла рамуги, вышла из кабинета и заперла дверь.
Глава 2. Татьяна
Наконец-то! – сказала я себе, – Свершилось! Как же долго я ждала от Тебя – поступка. Все эти десять лет нашей прозаической любовной истории я ждала чего-то такого, что перевернуло бы жизнь, вынудив защищаться, или нападать, или делать одновременно то и другое, как это, к счастью, потребовалось теперь. Я говорю – «к счастью», это не оговорка. Не помню, где я прочла (у Сартра?), как Джакометти, переходившего вечером площадь Испании, сбила машина. Раненый, с вывихнутой ногой, в полуобморочном состоянии, он ощутил нечто вроде радости: «Наконец что-то со мной случилось!» Жизнь, которую он любил беспредельно, не желая никакой иной, была перевернута, быть может, поломана вторжением случая. Ну что ж, подумал он про себя, не судьба мне быть скульптором, я родился впустую. Но его привело в восторг, что миропорядок внезапно обнажил перед ним свою угрожающую сущность, что он, Джакометти, уловил цепенящий взор стихийного бедствия, устремленный на огни города, на людей, на его собственное тело, распростертое в грязи. Вот что такое настоящая готовность к всеприятию, будем восхищаться ею и всегда помнить: земля создана не для нас.
Мне кажется, я испытала нечто подобное. Узнав о случившемся, я почувствовала странное облегчение: так бывает при вскрытии гнойника, долго изводившего болью. Думаю, для Тебя это не станет неожиданностью. Ведь накапливалось годами, а если иметь в виду «дело, которому Ты служишь» (ах, эти наши крылатые слова! – как хорошо они прикипают к любой гладкой поверхности – гладкости безмыслия) – или служил? – то и десятилетиями. Теперь мы – те – должны умереть и возродиться из пепла. Конечно, земля создана не про нашу честь, но единственно достойная цель – приспособить ее для счастья. (Я знаю, Ты посмеялся бы надо мной: «А что такое счастье?» – истинно вопрос, который задают вам в дешевых пьесках). Тогда лучше так – для жизни.
Теперь, когда все наконец решилось, и Ты избрал (или он – Тебя?) путь – я могу по праву сказать: сопротивления, но предпочту просто назвать его: путь (лучше не скажешь), должно преисполниться твердости. Они раскопали ту давнюю историю с твоим двоюродным братом Львом, – ну что ж, это, разумеется, затрудняет наши действия, но отнюдь не делает ситуацию безнадежной. Что там и чем осложнено – шизофрения алкоголизмом или, наоборот, второе – первым, – не относится к Тебе (будь там хоть десяток подобных родственников). Признания вменяемости и суда – вот чего следует добиваться. И пусть это будет открытый процесс – тогда Ты, а не они – станешь обвинителем. Я понимаю – надежда слабая. Даже весь авторитет Сахарова оказался подмятым железной пятой, что уж там до какого-то сумасшедшего (извини!), учинившим аутодафе над своим дитятей-монстром. Проблема из области морали: имеешь ли ты право на эвтаназию собственного ребенка, родившегося уродом? Нет – говорят нам. Но ведь это право распространяется на ребенка во чреве матери – даже в предположении о его гениальности. Режим секретности в гутенберговскую эпоху – не то же ли материнское чрево? Задача по форме в высшей степени благородная – охранить, защитить от вредоносных воздействий, создать условия для роста и созревания. Форма безупречна. Хотя, как и положено всякой безупречности, с изнанки изобилует смешными подробностями. Вспоминается Твой рассказ о том, как исследовали кусочек «неучтенной» бумаги с автографом «руководящего лица». Бдительных стражей «режима» не отпугнули даже следы экскрементов на исследуемой поверхности: виновник утери был-таки найден и примерно наказан. И что говорить о вашем «производстве», если даже я веду истории болезней под грифом «секретно». Получается, что больной, не имеющий «допуска», не вправе быть осведомлен о своей болезни. И если я что-то ему рассказываю, делаю то, ясно отдавая себе отчет: разглашаю государственную тайну. Государство в моем лице хранит тайны жизни и смерти сотен душ человеческих и таким образом наделяет меня функциями господа бога. Поразительный факт – не правда ли? Пример нелепости, подстерегающей всякого, кто берет на себя труд довести до конца принцип, даже такой до очевидности необходимый и по меньшей мере безвредный. «Доктор, сколько мне осталось жить? – вот вопрос, который чаще всего я слышу от своих пациентов. Наша «специфика» позволяет ответить на него однозначно, с указанием точной даты. Но я – «не имею права». Государственная тайна! Я лишь заношу в секретную карту известную аббревиатуру: ПЛИ («предполагаемый летальный исход») и ставлю дату. Будто выстреливаю и жду разрыва. Увы, ошибки мои редки. Трудно быть богом, – думаю, что любители крылатых фраз ни в малейшей степени не представляют себе как это трудно в действительности.
Ставлю точку и отодвигаю тетрадь. Что это – письмо или обыкновенная дневниковая запись? Благодаря тому что из них каждую я начинаю с нового листа и пишу «квантами» – лист, лист, лист, – и они так легко отрываются – вырываются вместе с перфорированными корешками, – любая может стать письмом – к Тебе, потому что чаще всего именно Ты выступаешь моим оппонентом в диалоге, который я веду – протоколирую – в своем дневнике. Мне кажется, мы так мало разговариваем (разговаривали) в жизни; во всяком случае, мне так казалось. Но я и не стану отрицать, напротив, даже всегда подчеркиваю (если Ты помнишь): именно Ты натолкнул меня на мысль о дневнике. Не боясь преувеличения, скажу: он стал моим спасательным кругом.
Откладывая перо (не смейся, я пишу только перьевыми ручками), я продолжаю беседовать с Тобой. Возможно, завтра я запишу содержание нашей сегодняшней дневной беседы. С некоторых пор я стала замечать: он изменился – характер наших бесед. И я окончательно в том уверилась в нынешнем несчастном августе, принесшем беду. Ты, конечно, спросишь: как изменился? Изменилась форма. Теперь я больше не задаю вопросов. Чаще всего Ты отвечал на них «да» или «нет», а если вынужден был сказать больше, то делал это столь скупо, с такой неохотой, что прежде чем спросить о чем-либо, я долго колебалась, и часто случалось так, что вопрос, не достучавшись до голоса, засыхал на корню. Но ведь мне было всего-навсего девятнадцать, когда мы познакомились. «Из всего что было и из всего что будет и из всего что есть как оно есть..» (помнишь? – мой любимый – в юности – автор) – из всего этого я не знала почти ничего. Я совсем не знала жизни. Разве же удивительно, что я задавала так много вопросов? Я удручающе мало читала – до встречи с Тобой. Почему? Я думаю, виной тому школа, вместо отдохновения сделавшая литературу скучной обязанностью. Наверное твоя Оля с готовностью подтвердит (вряд ли что могло измениться за эти годы – и не изменится никогда) ощущение нестерпимой скуки на уроках литературы. И вдруг – о, чудо! – передо мной распахнулся мир, человек перед лицом Истории и История в Человеке (возможно, это лишь цитата – не помню откуда) – благодаря книгам твоей несравненной библиотеки. Разделившие нас двадцать лет (1934—1954 – какие годы, какие времена!), начав свое движение вверх по шкале, к моменту моего прихода, вместили уже много чего – ожившего в оттепельные годы и произросшего вновь – взломавшего асфальтовое покрытие наших непроницаемо (проницаемо!) – серых буден. К своим девятнадцати, не зная жизни, я видела отчетливо лишь одно: окружающий меня туман, в котором тонули истинные очертания вещей и событий. Помню, как однажды Ты назвал себя «инвалидом детства», имея в виду отсутствие в душе – на должном месте – веры в Бога. Но ведь это относится и ко мне! И таковая наша общность – родственная черточка, – думаю, не дает нам права обсуждать проблему веры и неверия и судить о том, есть ли это последнее уродство или только лишь особенность – одно из условий человеческого существования. Оставим поиски Бога тем, кто в этом нуждается. У нас же с Тобой (извини за категоричность) более важные проблемы. Не в пример Ницше я не собираюсь преисполниться антихристианского пафоса. Я только хочу сказать – есть более важное: возможная гибель жизни на планете Земля – на все времена.
Теперь уже это не имеет значения, и все же льщу себя надеждой, что в немалой степени – я! – способствовала (Ты б непременно сказал – споспешествовала) твоему Поступку (умышленно пишу – напишу это слово – с прописной буквы. Он может показаться ребяческим – тому, кто не посвящен в истинное положение дел. Однако же все гораздо серьезнее. По Уголовному кодексу за утрату секретной документации предусмотрено от трех до пяти лет. У нас это известно ребенку. Даже если приплюсовать хулиганство, много не получится. Признание же невменяемым дает им возможность засадить Тебя в психушку на веки вечные. Больше того, я уверена: они предпримут все возможное, чтобы вытянуть из Тебя то, что Ты сжег своими руками, – ведь в душе-то не выжгешь выношенное десятилетиями, не сотрешь из памяти формулы, по твоему утверждению, сколь красивые, столь и чудовищные по сути – слепым могуществом высвобождаемой энергии. В ход будет пущена вся современная фармакология. Они парализуют Твою волю, и в сладостном трансе, влюбленный в свое «Сезам, откройся!», Ты начертаешь – не сможешь не сделать этого! – свое заклинание. Нет, то не будет бесплодное «кругом пахнет нефтью» (некогда начертанное Уильямом Джеймсом), фармакология, поверь мне как практикующему врачу, ушла далеко вперед и не ограничивается в подобных случаях веселящим газом, она стала целенаправленной и не сочтет для себя большим затруднением выведать у подследственного самое сокровенное. Вот чего следует опасаться. Не сомневаюсь и в том, что привлечен будет твой друг и ученик – мой досточтимый братец Коля – в целях увещевания тебя или на худой конец истолкования Твоих письмен, что ожидаются – и скорей всего будут получены – из-под твоего трансцендирующего пера. Ты знаешь, как он относился к нашей связи, и теперь, когда случилось то что случилось, буквально кипит от гнева. Его можно понять – своим «фортелем» (так он это называет) Ты перечеркнул его честолюбивые научные планы, – ведь он, как я поняла, обустраивал – не парадные залы, но столь же необходимые конюшни и кладовые – вашего общего дворца, в котором могло бы разместиться его тщеславие и который Ты превратил в руины. Можно ли осудить его за то, что он будет стараться восстановить, елико возможно, порушенное? Нет, конечно. Сыграет тут свою роль и всем нам хорошо известная убежденность в постулате «враг не дремлет» и произросшее на этой болотистой почве «оборонное сознание». Болото оно и есть болото: чем дольше на нем стоишь, тем более увязаешь. Пятнадцать лет «укрепления могущества нашей Родины» для него не прошли даром – его засосало по уши: я буквально диву давалась при виде той увлеченности, прямо-таки одержимости работой, которой суть – разрушение. Должно быть, этого я никогда не пойму. И уж вовсе непроницаемой останется для меня та романтическая атмосфера, которая окутывает, по моим наблюдениям, все это (извини!) копошение в болоте. Запахом и явной взрывоопасностью она больше смахивает на метан, для вас же (нет, Тебя я с некоторых пор исключила из числа «обезумевших»), претерпев какую-то странную метаморфозу, являет себя веселящим газом. Как врач я склонна отнести это явление к категории массовых психозов. Этакой коллективной некрофилии. Непременно предложу свои услуги при переводе на русский Фромма (о Гитлере) – насколько можно судить по оригиналу, о таком специфически русском явлении там не сказано (да и не могло быть) ничего. Так что за мной глава-послесловие.
Извини. Я знаю, как Ты не любишь (не любил?) мои «диссидентские штучки». Может быть, поэтому Ты не любил и меня. Нет, я не отрицаю: Ты любил мое тело, но всегда мне казалось (прости еще раз) – Ты обнимаешь кого-то другого (другую). Это ощущение трудно выразить точнее и вообще передать словами. Какое-то смутное отчаяние сквозило во всем, что имело отношение к нашей любви (я все-таки буду пользоваться этим словом – так привычнее).
Мне кажется (есть тому и подтверждения из области артефактов, но их я пока не стану оглашать), Ты относишься к типу людей, которые наделены великолепным механизмом отсечения – прошлого, – всего, что перевалило «за гребешок» и стало: «час назад», «вчера», «в прошлом месяце», в прошлом… Этакая психическая гильотина, отрубающая «вчера» вместе со всей его начинкой из дел и чувств. Трудно представить что-нибудь более чуждое Тебе, чем ностальгия по прошлому. А ведь она всегда так понятна! Мы «обживаем» время, и только-только оно становится нашим «домом», как тут же и проваливается в небытие, оставляя по себе тоску невозвратности. «Возврата нет» – вот что такое ностальгия. Нет возврата туда, куда хотелось бы вернуться. Нет возврата «домой». Нет возврата.
Наверно как никому другому свойственны мне сожаления такого рода. Я вполне разделяю мнение о «единственности рая воспоминаний». Теперь, когда Тебя нет рядом, и Ты в опасности, и я могу потерять Тебя, – на годы, если не навсегда, – признаюсь: я часто бывала несправедлива, а порой – жестока. Может ли послужить мне оправданием то, что проявления такого рода не свойственны моей натуре, и были привносимы тактикой борьбы – за полное и безраздельное обладание Твоей любовью? Не знаю. Я думала: возбуждая ревность, я возбуждаю в нем чувство потери, возместить которую можно лишь одним – древнейшим – способом: браком. (Извини.) Будто отдаешься головокружительному танцу, исподтишка поглядывая на сидящего в углу молчуна, с которым только и мечтаешь дотанцевать до могилы. Всякая борьба увлекает, война полов увлекательна вдвойне. Возможно, это единственный род войны, допустимый по моральным соображениям, ибо руководствуется не ими, а лишь только чувствами. В настоящей войне нет места ничему, кроме страха и отчаяния. Вряд ли и ненависть является частым гостем. Чтобы нажимать кнопки и гашетки, она вовсе не обязательна, и Тебе это известно лучше других. Но представь себе, что испытывает женщина, говоря тому, кого любит больше жизни: я выхожу замуж. Да, я выхожу замуж за человека, которого не люблю, но я хочу устроить свою жизнь, обрести опору, создать семью и наконец главное: я хочу иметь ребенка. Черт возьми, я должна выполнить свой долг на земле, передать эстафету! Разве так трудно понять? Понимаю, говоришь Ты, и в принципе одобряю, однако не мешало бы взглянуть на моего избранника: какой породы? Вот, пожалуйста, – фас, профиль, во весь рост, особые приметы… Не то. Брезгливо морщась, Ты откладываешь в сторону фотографии. Я и сама знаю – он моложе меня на целых два года, он только что родился, когда я, помню, болтала уже без умолку, делясь впечатлениями об окружающем мире со своими сумасбродными (впрочем, тогда еще не проявившимися во всем сумасбродстве) родителями. Когда же мне стукнуло пять (он тогда под стол пешком ходил в буквальном смысле слова), я впервые по-настоящему влюбилась – в некоего друга своего отца. Но отличался редкостной глухотой в отношении самого естественного и первичного: он совершенно не догадывался, что любим женщиной. Да, да, именно так! Если в каждом взрослом сидит ребенок, то и наоборот, в каждом ребенке уже запрятан взрослый. Вряд ли надо прибавить, что неумение выразить свою любовь – неразвитость языка и телесности – вынуждает ребенка замыкаться в раскаленном сосуде: о последствиях можно только гадать. Я предполагаю, что в каких-то глубинных структурах мозга (Ты непременно сослался бы на подсознание; однако, на мой взгляд, бессознательного не существует, – это просто рана на нашем естестве-психизме и память об этой ране; это предельная точка самого сознания) – там, куда проникает жало невыразимого, идет интенсивное образование новых связей: представь себе волнуемое ветром пшеничное поле, и пусть каждый колос там – это нейрон, а стебли так высоки, что каждый может соприкоснуться с каждым, – представь себе картину такого поля, взвихренного бурей! Все перепуталось, полегло, связалось в один большой клубок, – это и будет рана детской любви. Я знаю женщин лучше твоего любимца Фрейда, и я знаю что говорю. Будучи нанесена – и получена – такая травма становится моделью, по которой делаются все последующие отливки (дарю Тебе еще одну метафору) – слепки, в общих чертах воспроизводящие главное. Для меня этим «главным» стала, по-видимому, разность лет. Иначе как объяснить, что ровесники, все до единого, едва ступив на краешек моего платья и обратившись «женихами», начинают казаться мне дерзкими подростками, кроме дерзости и наивной веры в собственную значимость ничего не имеющими за душой? Такого рода сексуальная патология описана в специальной литературе. Только, на мой взгляд, ее причиной служит не запечатленный в сознании образ отца (хотя безусловно и он имеет значение), а опыт первой любви. Вот почему Ты, явившись передо мной со своими двадцатью «преимущественными» годами, мгновенно оплел их пространной сетью мое ждущее сердце. Я знаю – Ты не был готов ответить мне столь же горячим чувством. Не только потому, что я была для Тебя ребенком, несмышленышем, а Ты никогда не склонялся к педофилии (помню спор наш о набоковской «Лолите», и как Ты доказывал мне совершенную психологическую несостоятельность тамошней интриги), а просто-напросто ввиду глубокого душевного надлома, произведенного недавней трагической смертью Твоей жены. О, я сразу поняла: никто и никогда теперь не сможет ко мне приблизиться без того чтобы примерить на себя Твои «доспехи», и всем они окажутся велики. Но эти же латы оковывали Тебя броней, которую мне предстояло разрезать, расплавить, сжечь, а горстку оставшегося о них пепла, – не развеять по ветру, но запрятать так далеко как только возможно.
(К вопросу о педофилии. Тут я, возможно, впадаю в ошибку. Горячность, проявленная Тобой при обсуждении сей проблемы, может и послужить доказательством противного. При желании я могу обратить против Тебя и более существенные аргументы, – например Твою теплую – не слишком ли? – дружбу с Лорочкой, дочерью Салгира. Как бы Ты ни выдвигал на авансцену своего сына, моя ревность находит здесь исключительно благодатную среду.)
Да, я ревнива. Но я предпочитала, чтобы ревновал Ты, хотя и не добилась в этом видимых результатов. Максимум – взаимоуничтожения двух ревностей. Так огонь, пожирающий с двух концов хлебное поле, при встрече с самим собой гаснет за неимением горючего. Последним экспериментом, по-настоящему увлекшим меня и потому довольно-таки рискованным, стал Борис Кирсанов. Этот человек безусловно обладает качествами тореадора (теперь – но только теперь, после всего происшедшего – Твоего Поступка – я наделяю ими Тебя), а это именно то, что намагничивает женскую душу и может создать в ней заряд любви. Ты спросишь, конечно, понимаю ли я под этим лишь бойцовские качества или еще и хитрость, и ловкость, и коварство, и талант. Безусловно. Не только сила и выносливость, но эти последние отличают истинного бойца. И как сказал один мой любимый автор – у каждого свой бык. (Когда-нибудь мы непременно поедем с Тобой в Испанию на ловлю форели и тогда постараемся завести знакомство с живым матадором.)
Ты совершенно прав, когда в очередном припадке ревности говоришь мне: я тебя сделал. (Немного филологии: кажется у Миллера в «Тропиках» – не упомню в каких именно – спрашивают: «Ты ее уже сделал?» – вкладывая в это «сделал» вполне определенный смысл; я бы перевела это место по-иному – из двух возможных глаголов там употреблен «do», тут было бы правильней: «Ты уже сделал с ней это?», только Твоя подсказка из марьинорощинского жаргона военных лет заставила меня остановиться на первом варианте.) Ты меня сделал (извини) во всех смыслах. И сделал это так хорошо, что все пытавшиеся доделать (моя находка! – по части филологии я, пожалуй, в скором времени переплюну Тебя) казались мне жалкими подмастерьями. Можно ли достроить дворец, созданный по единому архитектурному плану? Можно, разумеется, пристроить флигель- другой, но целое от этого придет в упадок. Ты это знаешь. Но и должно знать: опыт любви у женщины не накапливается как сумма в некоем уголке сознания – он образуется взрывообразно и остается на всю жизнь застывшей музыкой – взметенностью чувств и ощущений. Это ужасно, потому что – загадка, которую нельзя разрешить. Вам говорят: забудьте, мы все тут перестроим по-новому, или снесем, чтобы очистить площадку и выстроить новый, еще более роскошный дворец; и начинают возводить стены, а те буквально рушатся на глазах, повергая вас в еще более глубокую ностальгию. Помню, как однажды я задала Тебе вопрос, имея в в виду Лорочку Салгир: ты ее уже сделал? (Это случилось в один из моих ностальгических приступов.) Ах, как Ты взвился! Потом Ты все отрицал, ссылаясь на подпитие, но разреши не поверить: амнезия, как правило, касается второстепенного, но Ты – ударил меня! Такое не забывается, во всяком случае я не верю. Конечно, то была тривиальная пощечина, но как Ты мог поднять руку? Впрочем я утешилась тем, что у Пруста в его «энциклопедии ревности» такое нередко происходит с аристократами. Ведь в сущности я тоже была Твоей пленницей. И сколько бы ни предпринимала попыток освободиться, все они окончились неудачей. Последней стало мое решение завести ребенка. Я понимала: идя наперекор Тебе, совершаю нечто непредсказуемое в своих последствиях. Но и дальше так продолжаться не могло. В жизни женщины наступает период, когда при всем видимом благополучии – и благополучии подлинном, если ограничиться рамками любви, дома и карьеры – она теряет свое «Я» точно так же, как это могло бы произойти в результате настоящей психической травмы. Таковое обстоятельство побуждает к размышлениям, призванным восстановить «разорванное сознание», и часто оборачивается золотыми плодами, как то великие творения искусства или открытие природных тайн. И все же след – зарубцевавшийся, почти незаметный – остается на всю жизнь. Бездетные женщины узнаются по выражению глаз.
Одним словом, Твоя Галатея, исчерпав доводы, замешанные на ревности (вот Тебе другой вариант мифа: Галатея влюбляется в Пигмалиона и досаждает ему, ища взаимности), прибегает к последнему: она хочет иметь ребенка. Больше того – она беременна. Тебе сообщается о том под акомпанемент привычной мелодии беззаботного уюта и слегка щекочущих нервы разговорчиков по поводу брака вообще – как социально-экономического феномена, – и текущего претендентства на галатееву мраморную руку и (живое!) сердце – в частности. Несть числа «женихам» (как и всегда), но Одиссей, он же Пигмалион спокоен; испанское красное вино отличается терпкостью и великолепным букетом, прожаренный бифштекс чуть-чуть кровоточит, – в меру, подтверждая собственную свежесть удержанным в мышечной ткани элексиром. Он спокоен, ибо чувства, им питаемые к Пенелопе, она же Галатея, образуют устойчивое звучание (свечение?) – контрапункт, состоящий в гармонии с главной темой – длительностью переживаемого Покоя. Столь нежна и благоуханна эта мелодия, столь явно обладает она анестезирующими свойствами, что, видно, могла бы сделать безболезненной любую операцию, подобно тому как это делает морфий. (Я произношу – Морфей.) Тогда приступим. Укол будет почти безболезненный, яд не застоится под кожей, и ранка тут же затянется, и кровь погонит отраву мощными толчками – в мозг. Самое страшное – никто не знает, как она подействует, как изменятся и в какую сторону пойдут обменные процессы в синаптических мембранах. (Как Ты говоришь, извини, но ведь я математик… и так далее; что ж, я – медик, извини и Ты меня.) Здесь возможны два сценария. Первый: Ты благословляешь меня на брак с предполагаемым «виновником» (значит Ты не любишь меня) и даже высказываешь пожелание выступить моим свидетелем. Вполне разумно – ведь какую-то долю ответственности Ты должен взять на себя, – почти стопроцентная ожидающая меня в данном предприятии неудача в немалой степени будет обязана Тебе как автору столь претенциозного творения, каким я непременно себя обнаружу. Вариант второй: Ты сломлен, чувство ответственности так сильно, что поглощает все без остатка – и Твою «усталость», и страх перед будущим, и сконфуженность перед своими взрослыми детьми (впрочем, не понятную мне – ну да ладно), и промелькнувшую тень сомнения в собственном «авторстве». Последнее – я в этом уверена – будет немедленно и с негодованием отброшено как недостойное нас обоих. Твоя ревность, испепеленная произведенным аффектом, обратится в кучку пепла и ляжет основанием – этакой «подушкой» под фундамент нашей (прости за банальность) обновленной любви. Я ведь никогда не была замужем и потому, возможно, идеализирую брак, но сдается мне, что если он заключен по доброй воле, то «переводит» любовь из категории развлечения в сферу божественного. (Ну и ну!) Нет, я разумеется атеистка, ведь и сама даже удивилась: как это вдруг сорвалось с языка нечто мне дотоле чуждое – апелляция к Богу? – (возможно, я написала бы теперь это слово – Слово – с прописной буквы) – а все же есть какая-то высшая реальность, в которую мы входим (войдем!) рука об руку. Она, конечно же, возведена людьми – эта «высшая реальность» – как и все прочие моральные законы – но как удобно, право, и красиво заключить все это смутное и не до конца понятое в красивую оболочку «Бога». Аминь.
Как Ты думаешь (точнее, знаешь ли Ты? – к слову сказать, я всегда мысленно обращаюсь к Тебе): можно ли в наших условиях заключить брак в тюрьме? В лагере? Я пыталась найти ответ в диссидентских книжках (которые Ты так не любишь), но нигде не нашла. Похоже, ни у кого не возникало такой проблемы; как говорится, были вещи и поважнее – просто выжить любой ценой. Я согласна: смешно даже подумать. Представь себе оторопелые взгляды чиновничьей тюремной братии! «Брак? Зачем?!» – неподдельное удивление! Искреннее сочувствие: кто более псих – «сидящий» (в одиночке, как и следует «буйным» до экспертизы) или эта баба? Ведь и молода и красива, а тот-то – старая калоша (прости за резкость, Ты мне очень не понравился последний раз, ко мне на свидания выходи, пожалуйста, побритым). «Зачем он тебе нужен? Скажи спасибо – он тебе никто. Легче проживешь». Вот – дословно – начальник СИЗО. А как он смеялся, когда я назвала его «гражданин начальник»! До слез. И объяснил: я имею право называть его «товарищем». Хотела ему выдать, мол, тамбовский волк тебе товарищ, да постеснялась чего-то. Не то постеснялась, не то испугалась. Ведь тогда бы и мечтать не пришлось ни о каком браке. Между тем «товарищ» сей намекнул: за все надо платить, желательно «натурой». Пришлось пообещать – «после». Я тоже смеялась. В общем, расстались друзьями.
Ну, я понимаю, является тюремный священник и венчает вас по закону Божьему, и где-то все это там записывается – на небесах? – или в церковные книги, и тогда уже всем понятно: только смерть… и так далее. Но вы молоды – и смерть нереальна, приговор – каторга. Для того и существует Сибирь с ее неодолимыми пространствами и трескучим морозом. И Ты идешь туда, гремя кандалами, а я, как истинная декабристка – на тройке с бубенцами. И какой же русский не любит быстрой езды! «В Сибирь! В Сибирь!» – вот как восклицать бы должны чеховские героини. А представь – теперь: как все это назвать? – «выездная сессия ЗАГСа»? Приходит «инспектор»? – ведь же в тюрьме, случается, и умирают, и как тогда оформляется соответствующее «свидетельство»? Вот и так же, извольте (пожалуйста, нижайше прошу!) оформить наш брак с гражданином Чупровым В. Н. Ну и пусть это сделает тот же человек, что оформляет покойников. Нас от этого не убудет, главное – «бумага». Бесспорно, жизнь подвержена порче, но в главном, глубинном своем течении она должна оставаться жизнью.
Ты сказал: сумасбродство, чистейшей воды. Еще бы! – кому как не Тебе знать – золотые клетки и башни слоновой кости, равно как и монастыри не защищают от эпидемий, ибо те порождены самой жизнью и тянутся к живому, просачиваясь через любые даже самые неприступные стены. А доставшиеся им жертвы они либо убивают сразу (как Твою возлюбленную жену), либо делают «хрониками» – как Тебя. (Извини.) В сущности (Ты сказал бы – в пределе), это болезнь совести – как врач я констатирую «невроз нечистой совести», которым заражено поголовно все население нашей «державы» (будь она неладна). Исключая, может быть, детей в возрасте до трех лет. Хотя это следовало бы проверить. С убитыми все ясно: болезнь прогрессирует, симптомы становятся более выраженными, и тут возможны два варианта: первый, самый простой, – самоубийство; это может быть суицид в чистом виде, либо то же – метафизически – когда тебя (по причине твоего же собственного «буйства») помещают в карантин и там уже убивают подручными средствами (Твой случай.) Более сложное течение болезни – когда больная совесть дает осложнения на соматическом уровне; вот вам, пожалуйста, полный их набор: рак, ишемия, алкоголизм, иммунодепрессия и проч. и т.п Конец, впрочем, один. (Случай Твоего друга Бориса Кирсанова. – я еще расскажу о нем – довольно редок в своем анамнезе.)
Итак, с убитыми, как я сказала, все просто. А что – живые? Если принять мой постулат (о поголовном охвате эпидемией), то надо разобраться: что происходит с теми, которые живут нормальной – на взгляд со стороны – жизнью, – работают, рожают детей, растят их, наслаждаются искусством, наконец? Какова симптоматика у этой части (подавляющего большинства) населения, – тех, кого издавна зовут конформистами? (Я была неправа, называя конформистом Тебя – действительность опровергла мой проект), чему я рада, несмотря на то, что теперь приходится поместить Тебя в категорию «убитых»; но и то верно лишь как предельный случай, – за Тебя есть кому постоять.) «Нормальная» жизнь оказывается нелегка: нечистая совесть ее носителя блокируется комплексом неполноценности. А это значит Великий Отказ – от прав и свобод, заявленных Конституцией. Быв конформистами, мы не имели права мечтать о рыбалке в Памплоне, Я – пожать руку настоящего матадора. Ты – прочесть несравненного Ортегу. Примириться с нечистой совестью, «нормально» жить с ней – значит преступить нравственный закон. Поэтому я говорю: конформисты – преступники; но они тут же и перестают ими быть, переходя в категорию «невротиков». Ты только представь себе это невообразимое смешение! Тяжело больные соседствуют с переболевшими (читай – преступниками) и пока еще здоровыми из числа подрастающих или уже ступившими на путь преступления с молодых ногтей. Похоже на лейкоз, не правда ли? Соотношение белых и красных кровяных телец необратимо нарушается, и социальный организм погибает от невозможности воспроизводить себя как целое.
Виктор Гусев-Рощинец
«Крушение» – вторая книга романа-дилогии «Вечерняя земля». В ней продолжено повествование о жизни и деятельности героев первой книги романа – «Железные зёрна».
Крушение
Роман-дилогия «Вечерняя земля». Книга 2
Виктор Гусев-Рощинец
«Всем богам суждено умереть»
(Ницше)
«Наша жизнь – это постоянный стыд, ибо она —
постоянная ошибка»
(Шатобриан)
Ответственный редактор выпуска Г. Я. Гусева
© Виктор Гусев-Рощинец, 2018
ISBN 978-5-4490-3204-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть 1. Побег
Глава 1. Ольга
Бывает, не знаешь – как, но что некое происшествие направит жизнь по пути непредсказуемому, чувствуешь всей кожей. Ощущение близкого перелома. Иногда приписываешь его исполнению собственных замыслов. Но как правило вероятность таких – плановых – свершений ничтожно мала; приходится довольствоваться случаем и, может быть, использовать его в своих интересах.
Эти два друг за другом грянувших события заставили меня по-новому взглянуть на вещи. Несчастье, случившееся с братом, не отпускало сознанием моей причастности, чувством вины. Ведь это я вопреки заведенному обычаю не установила надзора за нашим «транспортным средством» (папин любимый термин), допустила неосторожность, и если нет с меня спроса по счетам формальным, то куда укроешься от нечистой совести? Митька, разумеется, мальчишка избалованный, и причиной тому я вижу папочкино воспитание, хотя и свою долю готова принять за то и понести ответ.
Что до второго, то и вовсе не знаю, чему его приписать. Если все было так, как мне рассказали, впрямь можно подумать, что налицо приступ буйного помешательства. Хотя я в такое не верю. До тех пор пока не дадут свидания, и я не увижу его сама, не могу ничего сказать.
Володя, что называется, рвет и мечет. Куда и девалась его обычная флегматичность. Показная, впрочем. Я знаю, как он может быть неудержим, да что там – одержим! – если им овладела какая-то мысль, идея; для достижения своей цели он способен разнести вдребезги любую преграду. Боюсь, и наш брак не покажется ему непреодолимым препятствием. И даже его любовь к дочке, нашему Сашуленку. Я боюсь думать о том, но, кажется, Володя переступит даже через нее и двинется к «вершине, сияющей во мраке», но видимой лишь ему одному. С этой несчастной Анголой, будь она трижды неладна, он связывал так много надежд, что теперь в его глазах я, виновница крушения столь далеко идущих планов, оказалась поистине его злым гением. Беда в том, что он никак не хочет понять меня. Даже безупречные по логике доводы на него не действуют. Например: основная посылка – мы оставляем Сашку на попечение папы и бабушки, – не тащить же, право, ребенка в тропики! Где на нее непременно обрушатся нам неведомые болезни. Тропическая лихорадка, сонная болезнь, да мало ли что! С ее-то астматическими симптомами аллергического, как говорят врачи, свойства. Равносильно убийству! А кому, спрашивается, теперь мы оставим ее? Бабушке? Когда я задаю этот вопрос Володе и даже не надеюсь на ответ, ибо сознаю абсолютную риторичность нашего диалога, он тем не менее остается тверд и предлагает на выбор два варианта: 1) бреем девочку с собой, 2) оставляем на бабушку. Я смотрю на него и думаю: что испытывает человек, которого охватывает стремление, по справедливости должное быть названо фанатическим?
Я-то знаю: фанатики – люди действия. Он сказал уже: если я «из прихоти» сорву ему (ему – заметьте) эту командировку, то он немедленно начнет действовать «в другом направлении». А что это за направление – мне хорошо известно: Израиль. Еврейка-мать наделила его всеми необходимыми аргументами, в том числе пресловутым стремлением вернуться «на родину предков». Будто русские предки отца имеют меньше прав на его чувствительную душу! Посмотреть – так ведь русак русаком! Метко сказано кем-то, не помню кем: русский человек как еврей. Возможно, это было сказано по другому поводу. Уж если на то пошло, я предпочту отправиться в Израиль, чем в тропики, хотя и должна буду распрощаться надолго с родными, друзьями, Москвой. Со школой. И ведь знаю, что буду мучиться ностальгией по всей этой привычной мишуре, включая политинформации, комсомольские собрания, сбор металлолома, экскурсии в музей революции, военные парады и съезды КПСС. Став евреем, русский человек будто переворачивается с головы на ноги, мозг освобождается от переизбытка крови, а равно и глаза, с них будто пелена спадает, и все удаляется, как в перевернутом бинокле, становится мелким и оттого ничтожным. Все, однако не то что любишь по-настоящему. И не почитаешь долгом.
Последнее время я только и делаю что примериваю на себя наше грядущее «еврейство». Право, интересно. Похоже на то как надеваешь новое платье и стоишь, и крутишься перед зеркалом – оценить красиво ли, «идет не идет», и соответствует ли цена, за него уплаченная, метаморфозе, происшедшей с твоим лицом и фигурой. Подчеркнуты ли их достоинства и надежно ли упрятаны недостатки. И как соотносится это все с нынешней модой. И будет ли практичным в носке. И еще с десяток всевозможных аспектов и «углов зрения» – и ни один из них нельзя упустить.
Она стоит у классной доски, спиной к детям, и старается чтобы строчка была ровной, не падала на конце, как это обычно происходило с теми, которые случалось ей выводить пером на бумаге. И доски теперь другие, матовая мягкая зелень вбирает мел бесшумно, легко и будто подсвечивает и заставляет фосфоресцировать нежную белизну; не устает рука, жирная пудра не падает за обшлага, не осыпает платье. Нечто ранее обременительное стало, пожалуй, даже, своеобразным удовольствием.
Напряженная тишина изредка прерывается всплеском переворачиваемой страницы, дробью упавшей на пол ручки или чьим-нибудь покашливанием. Тишина зрительного зала. Во всяком случае, теперь уже никак не применим некогда модный оборот о тишине, нарушаемой только скрипом перьев. Перья, к сожалению, давно не скрипят и не разбрызгивают чернил в стремительном полете над прямоугольничками бумажных полей, теперь вездесущие «шарики» тяжелой поступью давят тетрадные страницы, калеча детский почерк и напрочь изводя искусство каллиграфии. Всего лишь семь-десять лет назад, когда она сама вот так же склонялась над партой, это нашествие еще не обрушилось на школу, у них в моде были китайские «самописки» с золотыми перьями; однако вскоре что-то сломалось, видимо, в чернильной технологии: всем известная «радуга» стала прокисать, створоживаться и, забивая капилляры, быстро и навсегда выводила из строя дорогие авторучки.
Ольга уже имела достаточно опыта, чтобы отличить тишину затаенного дыхания, сопровождающего, как она любила повторять, «опыт познания», от тишины другого сорта – порождаемой безразличием. Она часто ловила себя на том, что на волне собственного вдохновения одно принимает за другое: тишину отрешенности за тишину напряженного внимания. Иногда, обернувшись к классу после какого-нибудь особенно удачного, по ее мнению, экскурса в «сад этимологии», место ее любимых прогулок, она встречала потухшие глаза, пустые лица. Такое случалось чаще в старших классах; она с грустью думала о том, какими же неисповедимыми путями приходит их молодая паства к этому удручающему состоянию незаинтересованности – ни в чем, даже в собственном будущем. Так ей по крайней мере казалось в эти не лучшие минуты, когда диковинные плоды, взращенные годами школьной рутины распространяли вокруг себя удушливый запах неблагополучия. Едва ли не набивший оскомину тезис о безнадежной отсталости школьной системы образования тем не менее ежедневно, ежечасно утверждал себя отсутствующими лицами детей на уроках. Ее собственные старания наполовину уходили в песок, и лишь двое из всего класса, мальчик и девочка, как ей было известно, решившие связать свою будущую профессию с языком, откликались на ее настойчивые призывы. Ольга объясняла это тем, что не «растила» класс, не поднимала с азов, и, где-то проскочив критическую возрастную нишу, эти уже взрослые теперь дети с трудом поддаются обучению – как например не поддается ему ребенок, выросший в волчьей стае. Однажды наткнувшись на это нелестное сравнение, она постаралась смягчить его ссылками на условия, препятствующие контактам с «носителями языка». Ведь даже она, учитель английского, не могла по собственной прихоти, а пуще того по призыву очевидной необходимости отправиться в Англию, чтобы окунуться в языковую среду и преклонить колена в Стратфорде – на-Эйвоне. И снова подумалось: великая нация, живущая в несчастной стране. Этимологическая вертикаль: стороне – стране. Ведь можно же сказать: хорошие люди, живущие в плохой, гиблой стороне. Там, где плохо жить. Плохо жить, например, в пустыне, среди болот. На свалке. Не так давно она прочла в «Иностранке» роман какого-то скандинава (она не запомнила автора) под названием «Страна заката», где развернутая метафора – люди в прямом смысле живущие на гигантской свалке в окрестностях мегаполиса – долженствовала представить несчастную судьбу машинной цивилизации. Этакий шпенглеровский «закат Европы». Ей нечего возразить по поводу «закатного Запада, она не видела его и скорей всего не увидит (впрочем, нет: мужнино «еврейство», паче чаяния сбудется, может повлечь за собой некие тектонические сдвиги). Ее поразило другое: сходство описанного в романе ландшафта с тем, что открывалось взору с одиннадцатого этажа их марьнорощинского дома на пространстве железнодорожного полотна и его обочинах. Отец рассказывал, что во время войны тут была свалка искореженной военной техники, пригнанной на переплавку во «Вторичный алюминий». Теперь же здесь возвышаются горы строительного мусора, старых шпал, железного лома, стружки, громоздятся обгоревшие кузова автомобилей, вздымают к небу пустые глазницы «списанные» вагончики-бытовки, налезают друг на друга ржавые, отслужившие век цистерны. Какие же, с позволения сказать, эстетические переживания может возыметь ребенок, изо дня в день наблюдающий из окон своего дома этот дущераздирающий пейзаж? Люди, живущие на свалке в скандинавском романе, добровольно выбрали свой удел – в знак протеста против «цивилизаторского удушения» природных сил и свобод человеческих. Мы же, часто думала Ольга, вынуждены к тому самой сутью нашего бытия, по справедливости должной названа быть разложением.
Какая странная, страшная мысль! Отец рассказывал, как во время войны свалка служила их военным играм; но и теперь, переродившись, сбросив с себя благородную «железную маску», став обыкновенной кучей мусора, она, как ни удивительно, притягивает детей: когда ни посмотришь, пяток, а то и десяток мальчишеских фигурок мелькают в отвалах, они всегда что-то ищут, повинуясь неизбывной страсти кладоискательства. Она даже узнавала среди них иногда своих младших учеников.
Младших она любила. Второй, третий, четвертый классы. По-настоящему учила их разговаривать на чужом языке. Мучилась над учебниками, где древние залежи «советских» текстов перемежались редкими блестками английской классики. Задыхалась, опутанная силками «программы». Выбивалась из нее, и уже не раз была подвергнута критике методистами из РОНО, этими блюстителями идейной учительской чистоты и дисциплины. На младших была надежда. Основанная, пожалуй, лишь на вере в себя: по крайней мере, она не дает угаснуть тем огонькам, которые светились, питаемые неким лингвистическим талантом. А таких немало. Очень трогательно было узнать, что какая-нибудь девчушка-второклассница мечтает стать учителем английского языка. «Как вы, Ольга Владиславовна!» Как вы.
Боже мой! Как я! Чтобы как я, соблазнив не одну детскую душу посулом призвания, бросить потом на произвол судьбы и сбежать в заморские страны. Знание языка облегчает путь. Я облегчу им путь, Теперь уже не успею, верно, довести до выпуска, за меня это сделают другие, но самое главное – я положу начало.
Почему только девочки? Вероятно, сказывается стремление подражать. Ведь не скажет же мальчик: «Как вы, Ольга Владиславовна». Смешно. Я взялась было измерить интеллектуальный уровень своего класса (где я классный руководитель) с помощью одного американского теста, и, несмотря что «проводила мероприятие» с разрешения директора, тотчас последовал приказ: «Прекратить». Кто-то из родителей позвонил в РОНО: безобразие! что за самодеятельность! «наши дети – лучшие на свете!» Пионеры страны советов. Что-то мне удалось выяснить. О чем всегда и подозревала. Клянусь, я не феминистка, но результат был настолько очевидным, что даже наш уважаемый, но довольно-таки консервативный директор вынужден был его признать: пятиклассницы-девочки побивали своих сверстников по всем показателям и в среднем вдвое превосходили их по синтетическому критерию. Возможно, отец прав, когда говорит, что государство матриархата будет несравненно разумнее, чем нынешний режим «воинствующих фаллосов» (привожу дословно, хотя усматриваю в данном определении неточность денотации: я предпочла бы сказать – «фаллоимитаторов».
Бедный папа, он поплатился за свое долготерпение! За слепоту, так долго отделявшую его от реальности, Я понимаю, что последнее – своеобразная родовая травма, полученная «в награду» за избранное в этом мире местопребывание. В этом смысле мы все – инвалиды детства, Если бы не мое предполагаемое «еврейство», чудесным образом удалившее пелену с глаз, не эта моя «внутренняя эмиграция», то и теперь я бы оставалась так же слепа, как была прежде, и, бредя ощупью, продолжала натыкаться на стены нашего лабиринта. Думаю, что первым толчком для всех нас (исключая Митьку по причине малолетства) была мамина гибель – нелепая, неожиданная (это и не могло быть другим), а главное – я вижу теперь – трагически ненужная, как бывает все, что выступает следствием ложного знания, а тем паче свершаемых на основе него «исторических ошибок». Повседневность, говорит отец, это проявление истории до седьмого колена. Увы, от этого не легче. Помню, я была просто оглушена. Вдруг среди бела дня отворилась дверь, и вошел папа, и неуклюже, будто у него приступ радикулита, бочком присел на диванчик в прихожей и начал стягивать туфли. Все это он проделывал молча, но вместе с ним вошла какая-то особая тишина и поползла по комнатам, и выплеснулась в открытые окна, во двор, поглотив обычные звуки жизни – возгласы играющих детей, шорохи волнуемых ветром листьев на ветках тополя, парусные хлопки выбиваемых от пыли покрывал, а может быть ковров. Стало так тихо, как бывает перед грозой, хотя продолжало светить солнце, и небо оставалось чистым. Потом он поднялся, тяжело, будто у него и впрямь болела спина, и, не надев тапочки, прямо в носках прошел в комнаты. Мы следили за ним из кухни, я и бабушка, охватившая нас тревога была так настойчива, что мы двинулись за ним следом, храня молчание и лишь наблюдая за этой очевидной странностью его поведения. Он прошел в их маленькую спаленку, сел на кровать – недавно купленную арабскую кровать с необычайно мягким, прямо-таки по-восточному экзотическим матрасом («Мы спим на арабе», – говорила мама) – и уставился в пол. Мы с бабушкой стояли у двери, боясь нарушить молчание, а скорей оттого что просто не могли его нарушить: какая-то отвратительная спазма перехватила мне горло, а голова налилась тяжестью, как будто я долго пробыла на солнце. Кажется, я была близка к обмороку – даже ничего еще не зная о постигшем нас горе. Он сидел на «арабе», опершись локтями о колени, и большие, тяжелые кисти его рук свисали почти до пола. Потом он поднял голову и перевел глаза на свое отражение в зеркале платяного шкафа – оно было прямо перед ним, на расстоянии полуметра. Он смотрел на себя так, будто видел впервые и вглядывался в черты лица, пытаясь постигнуть характер незнакомца, с которым суждено теперь бок-о-бок прожить остаток дней. Наконец бабушка не выдержала: «Владя, что случилось?» Он повернул голову и посмотрел на нас. Я подумала: одно из двух: либо он не слышал вопроса, либо тот не может преодолеть какого-то порога и достичь сознания. Папины глаза, обычно живые, выразительные, оттенка неба в полуденный зной, были неподвижны и белы, как бывает наверно после тяжелой болезни, от свалившейся нежданно-негаданно беды или долгого созерцания чужих страданий. И тут мы конечно поняли. Бабушка не повторила даже вопроса, она ждала, а ведь еще надо было приготовиться к встрече с этой – мы уже знали – бедой, и знали: мама. Что-то случилось с мамой. Из маленькой комнаты прибежал Митька и тоже остановился в двери, привалившись к моей ноге. Папа жестом подозвал его к себе. Тот подошел и втиснулся меж его колен. Папа обнял его. Так они замерли обнявшись, а я чувствовала как отвратительная слабость разливается по всему телу. Бабушка неловко отвернулась, нетвердой походкой побрела к обеденному столу и опустилась на стул. Я же, где стояла там и села на корточки – ноги не держали. К горлу подкатил комок, я уже не могла ничего сказать, да что было говорить. Я вдруг поняла, что подсознательно ждала несчастья, хотя не могла бы сказать, откуда, из каких источников питалось это странное ожидание. Кажется, мы все, всегда, везде ждем чего-то такого, что перевернет так или иначе жизнь, сделав ее невыносимой. У папы, я знаю, это происходит по причине его раздвоенности – разрыва между профессиональным долгом и «новыми» (так он сказал недавно) убеждениями. По-видимому, нечто в том же роде питает и мои чувства, хотя не могу сказать, что мой разрыв так уж велик. «Вот оно», – говорит папа, когда неприятность или доподлинная беда стают на пороге нашего дома. И тогда тоже, обняв Митьку, прижав его к себе, он еще раз посмотрел на свое отражение в зеркале и сказал негромко, но отчетливо: «Вот оно». Конечно, и бабушка, она-то уж точно ждала. Может быть, уже и знала – тем знанием, которое носится в воздухе и неисповедимо вселяется в открытые для него души. Несколько дней перед тем бабушка мучилась головной болью и «мушками в глазах», как это с ней всегда случается при гипертонических кризах, хотя на этот раз давление было не очень высоким, и голова не кружилась, а наоборот, по ее словам, как-то необыкновенно была чиста и к тому же полнилась некими странными видениями, будто притекающими из самых отдаленных уголков памяти и влекущими за собой – что особенно представало необычным – настоящую сумятицу в чувствах. Мне знакомо это состояние, оно нередко настигает меня во время утренней гимнастики, – почему именно тогда? – продолжается несколько минут и, отхлынув, оставляет в душе пейзаж, подкрашенный бледными ностальгическими тонами.
Она закончила объяснения, и сразу же вслед за этим прозвенел звонок. Дети зашевелились, начали собираться. Последний урок – последняя высота. Всегда надо сохранять силы до последнего урока. А это непросто. При двадцати семи часах в неделю – полуторной «нагрузке» – занятия, как правило, по дням распределялись неравномерно, и часто к концу уроков, на исходе шестого часа Ольга чувствовала смертельную усталость, – ни о каком вдохновении говорить тут уже не приходилось. Ни рукой, ни ногой пошевельнуть, – в учительской среде таковое признание было не редкостью. Что поделаешь, нищенская зарплата вынуждала взваливать на себя непомерную ношу и работать на пределе физических возможностей. Еще они говорили и так: «на износ». Отец же, паче чаяния оказывался свидетелем, возражал не возражал, а приговаривал по-своему: «Вся страна работает на износ». Сомнительное утешение, подумала она.
Ольга осталась одна. Сложила в сумку учебники, тетради. Окинула взглядом класс. «Кабинет иностранного языка» был ее детищем в подлинном смысле слова. Все тут дышало ее заботой. Сельская Англия элегически смотрела со стен окошками-пейзажами; над Вестминстером плыли гулкие раскаты Большого Бена, а Тауэр меланхолически смотрелся, подобно Нарциссу, в зеркало Темзы. Она была по-настоящему влюблена в эту страну. Целая плеяда мудрецов теснилась в портретной галерее: Чосер, Шекспир, Мильтон, Блейк. От средневековья до наших дней. Джойс, Т. С. Элиот, Лоуренс, Вирджиния Вулф. В застекленном шкафчике стояли альбомы с репродукциями полотен английских художников. Там же, заслоняя собой с десяток разномастных корешков, красовалась яркой суперобложкой «История английского королевского дома». Все это разрешалось листать и рассматривать, и даже брать домой, – все, кроме «королей»: будучи подарком недавней делегации учителей-католиков, альбом не мог быть восстановлен в случае пропажи. А пропадало многое – как в капле воды, в их «обители знаний» отражался разгул охватившей страну воровской стихии. Тащили все, от завезенных для ремонта стройматериалов до карандашей, невзначай забытых на столе в учительской. Из сумок, на минуту оставленных без присмотра, тащили деньги, вещи и даже продукты. Из классов – телевизоры и магнитофоны. Тащили компьютеры. В раздевалке пропадала одежда. По школе то и дело рыскали собаки-ищейки, и если воры по недальновидности не устраивали поджога с целью сокрытия улик, то иногда – очень редко – возвращали украденное его законным владельцам. Типичным мотивом была месть бывших учащихся «родной» школе, снимавшей со своего «борта» нерадивых после восьмого класса и, как говорили, отправлявшей их «в люди». Мстили выпускники некогда ненавистным учителям, избирательно поджигая помещения, где последние хранили наворованное ими самими. Стародавний большевистский клич «грабь награбленное» с удивительной готовностью подхватывался новыми поколениями. Как бы уже из своего эмигрантского далека, представив обворованным свой кабинет (пока что бог миловал ее), Ольга подумала еще раз: несчастная страна, несчастный народ. Она закрыла рамуги, вышла из кабинета и заперла дверь.
Глава 2. Татьяна
Наконец-то! – сказала я себе, – Свершилось! Как же долго я ждала от Тебя – поступка. Все эти десять лет нашей прозаической любовной истории я ждала чего-то такого, что перевернуло бы жизнь, вынудив защищаться, или нападать, или делать одновременно то и другое, как это, к счастью, потребовалось теперь. Я говорю – «к счастью», это не оговорка. Не помню, где я прочла (у Сартра?), как Джакометти, переходившего вечером площадь Испании, сбила машина. Раненый, с вывихнутой ногой, в полуобморочном состоянии, он ощутил нечто вроде радости: «Наконец что-то со мной случилось!» Жизнь, которую он любил беспредельно, не желая никакой иной, была перевернута, быть может, поломана вторжением случая. Ну что ж, подумал он про себя, не судьба мне быть скульптором, я родился впустую. Но его привело в восторг, что миропорядок внезапно обнажил перед ним свою угрожающую сущность, что он, Джакометти, уловил цепенящий взор стихийного бедствия, устремленный на огни города, на людей, на его собственное тело, распростертое в грязи. Вот что такое настоящая готовность к всеприятию, будем восхищаться ею и всегда помнить: земля создана не для нас.
Мне кажется, я испытала нечто подобное. Узнав о случившемся, я почувствовала странное облегчение: так бывает при вскрытии гнойника, долго изводившего болью. Думаю, для Тебя это не станет неожиданностью. Ведь накапливалось годами, а если иметь в виду «дело, которому Ты служишь» (ах, эти наши крылатые слова! – как хорошо они прикипают к любой гладкой поверхности – гладкости безмыслия) – или служил? – то и десятилетиями. Теперь мы – те – должны умереть и возродиться из пепла. Конечно, земля создана не про нашу честь, но единственно достойная цель – приспособить ее для счастья. (Я знаю, Ты посмеялся бы надо мной: «А что такое счастье?» – истинно вопрос, который задают вам в дешевых пьесках). Тогда лучше так – для жизни.
Теперь, когда все наконец решилось, и Ты избрал (или он – Тебя?) путь – я могу по праву сказать: сопротивления, но предпочту просто назвать его: путь (лучше не скажешь), должно преисполниться твердости. Они раскопали ту давнюю историю с твоим двоюродным братом Львом, – ну что ж, это, разумеется, затрудняет наши действия, но отнюдь не делает ситуацию безнадежной. Что там и чем осложнено – шизофрения алкоголизмом или, наоборот, второе – первым, – не относится к Тебе (будь там хоть десяток подобных родственников). Признания вменяемости и суда – вот чего следует добиваться. И пусть это будет открытый процесс – тогда Ты, а не они – станешь обвинителем. Я понимаю – надежда слабая. Даже весь авторитет Сахарова оказался подмятым железной пятой, что уж там до какого-то сумасшедшего (извини!), учинившим аутодафе над своим дитятей-монстром. Проблема из области морали: имеешь ли ты право на эвтаназию собственного ребенка, родившегося уродом? Нет – говорят нам. Но ведь это право распространяется на ребенка во чреве матери – даже в предположении о его гениальности. Режим секретности в гутенберговскую эпоху – не то же ли материнское чрево? Задача по форме в высшей степени благородная – охранить, защитить от вредоносных воздействий, создать условия для роста и созревания. Форма безупречна. Хотя, как и положено всякой безупречности, с изнанки изобилует смешными подробностями. Вспоминается Твой рассказ о том, как исследовали кусочек «неучтенной» бумаги с автографом «руководящего лица». Бдительных стражей «режима» не отпугнули даже следы экскрементов на исследуемой поверхности: виновник утери был-таки найден и примерно наказан. И что говорить о вашем «производстве», если даже я веду истории болезней под грифом «секретно». Получается, что больной, не имеющий «допуска», не вправе быть осведомлен о своей болезни. И если я что-то ему рассказываю, делаю то, ясно отдавая себе отчет: разглашаю государственную тайну. Государство в моем лице хранит тайны жизни и смерти сотен душ человеческих и таким образом наделяет меня функциями господа бога. Поразительный факт – не правда ли? Пример нелепости, подстерегающей всякого, кто берет на себя труд довести до конца принцип, даже такой до очевидности необходимый и по меньшей мере безвредный. «Доктор, сколько мне осталось жить? – вот вопрос, который чаще всего я слышу от своих пациентов. Наша «специфика» позволяет ответить на него однозначно, с указанием точной даты. Но я – «не имею права». Государственная тайна! Я лишь заношу в секретную карту известную аббревиатуру: ПЛИ («предполагаемый летальный исход») и ставлю дату. Будто выстреливаю и жду разрыва. Увы, ошибки мои редки. Трудно быть богом, – думаю, что любители крылатых фраз ни в малейшей степени не представляют себе как это трудно в действительности.
Ставлю точку и отодвигаю тетрадь. Что это – письмо или обыкновенная дневниковая запись? Благодаря тому что из них каждую я начинаю с нового листа и пишу «квантами» – лист, лист, лист, – и они так легко отрываются – вырываются вместе с перфорированными корешками, – любая может стать письмом – к Тебе, потому что чаще всего именно Ты выступаешь моим оппонентом в диалоге, который я веду – протоколирую – в своем дневнике. Мне кажется, мы так мало разговариваем (разговаривали) в жизни; во всяком случае, мне так казалось. Но я и не стану отрицать, напротив, даже всегда подчеркиваю (если Ты помнишь): именно Ты натолкнул меня на мысль о дневнике. Не боясь преувеличения, скажу: он стал моим спасательным кругом.
Откладывая перо (не смейся, я пишу только перьевыми ручками), я продолжаю беседовать с Тобой. Возможно, завтра я запишу содержание нашей сегодняшней дневной беседы. С некоторых пор я стала замечать: он изменился – характер наших бесед. И я окончательно в том уверилась в нынешнем несчастном августе, принесшем беду. Ты, конечно, спросишь: как изменился? Изменилась форма. Теперь я больше не задаю вопросов. Чаще всего Ты отвечал на них «да» или «нет», а если вынужден был сказать больше, то делал это столь скупо, с такой неохотой, что прежде чем спросить о чем-либо, я долго колебалась, и часто случалось так, что вопрос, не достучавшись до голоса, засыхал на корню. Но ведь мне было всего-навсего девятнадцать, когда мы познакомились. «Из всего что было и из всего что будет и из всего что есть как оно есть..» (помнишь? – мой любимый – в юности – автор) – из всего этого я не знала почти ничего. Я совсем не знала жизни. Разве же удивительно, что я задавала так много вопросов? Я удручающе мало читала – до встречи с Тобой. Почему? Я думаю, виной тому школа, вместо отдохновения сделавшая литературу скучной обязанностью. Наверное твоя Оля с готовностью подтвердит (вряд ли что могло измениться за эти годы – и не изменится никогда) ощущение нестерпимой скуки на уроках литературы. И вдруг – о, чудо! – передо мной распахнулся мир, человек перед лицом Истории и История в Человеке (возможно, это лишь цитата – не помню откуда) – благодаря книгам твоей несравненной библиотеки. Разделившие нас двадцать лет (1934—1954 – какие годы, какие времена!), начав свое движение вверх по шкале, к моменту моего прихода, вместили уже много чего – ожившего в оттепельные годы и произросшего вновь – взломавшего асфальтовое покрытие наших непроницаемо (проницаемо!) – серых буден. К своим девятнадцати, не зная жизни, я видела отчетливо лишь одно: окружающий меня туман, в котором тонули истинные очертания вещей и событий. Помню, как однажды Ты назвал себя «инвалидом детства», имея в виду отсутствие в душе – на должном месте – веры в Бога. Но ведь это относится и ко мне! И таковая наша общность – родственная черточка, – думаю, не дает нам права обсуждать проблему веры и неверия и судить о том, есть ли это последнее уродство или только лишь особенность – одно из условий человеческого существования. Оставим поиски Бога тем, кто в этом нуждается. У нас же с Тобой (извини за категоричность) более важные проблемы. Не в пример Ницше я не собираюсь преисполниться антихристианского пафоса. Я только хочу сказать – есть более важное: возможная гибель жизни на планете Земля – на все времена.
Теперь уже это не имеет значения, и все же льщу себя надеждой, что в немалой степени – я! – способствовала (Ты б непременно сказал – споспешествовала) твоему Поступку (умышленно пишу – напишу это слово – с прописной буквы. Он может показаться ребяческим – тому, кто не посвящен в истинное положение дел. Однако же все гораздо серьезнее. По Уголовному кодексу за утрату секретной документации предусмотрено от трех до пяти лет. У нас это известно ребенку. Даже если приплюсовать хулиганство, много не получится. Признание же невменяемым дает им возможность засадить Тебя в психушку на веки вечные. Больше того, я уверена: они предпримут все возможное, чтобы вытянуть из Тебя то, что Ты сжег своими руками, – ведь в душе-то не выжгешь выношенное десятилетиями, не сотрешь из памяти формулы, по твоему утверждению, сколь красивые, столь и чудовищные по сути – слепым могуществом высвобождаемой энергии. В ход будет пущена вся современная фармакология. Они парализуют Твою волю, и в сладостном трансе, влюбленный в свое «Сезам, откройся!», Ты начертаешь – не сможешь не сделать этого! – свое заклинание. Нет, то не будет бесплодное «кругом пахнет нефтью» (некогда начертанное Уильямом Джеймсом), фармакология, поверь мне как практикующему врачу, ушла далеко вперед и не ограничивается в подобных случаях веселящим газом, она стала целенаправленной и не сочтет для себя большим затруднением выведать у подследственного самое сокровенное. Вот чего следует опасаться. Не сомневаюсь и в том, что привлечен будет твой друг и ученик – мой досточтимый братец Коля – в целях увещевания тебя или на худой конец истолкования Твоих письмен, что ожидаются – и скорей всего будут получены – из-под твоего трансцендирующего пера. Ты знаешь, как он относился к нашей связи, и теперь, когда случилось то что случилось, буквально кипит от гнева. Его можно понять – своим «фортелем» (так он это называет) Ты перечеркнул его честолюбивые научные планы, – ведь он, как я поняла, обустраивал – не парадные залы, но столь же необходимые конюшни и кладовые – вашего общего дворца, в котором могло бы разместиться его тщеславие и который Ты превратил в руины. Можно ли осудить его за то, что он будет стараться восстановить, елико возможно, порушенное? Нет, конечно. Сыграет тут свою роль и всем нам хорошо известная убежденность в постулате «враг не дремлет» и произросшее на этой болотистой почве «оборонное сознание». Болото оно и есть болото: чем дольше на нем стоишь, тем более увязаешь. Пятнадцать лет «укрепления могущества нашей Родины» для него не прошли даром – его засосало по уши: я буквально диву давалась при виде той увлеченности, прямо-таки одержимости работой, которой суть – разрушение. Должно быть, этого я никогда не пойму. И уж вовсе непроницаемой останется для меня та романтическая атмосфера, которая окутывает, по моим наблюдениям, все это (извини!) копошение в болоте. Запахом и явной взрывоопасностью она больше смахивает на метан, для вас же (нет, Тебя я с некоторых пор исключила из числа «обезумевших»), претерпев какую-то странную метаморфозу, являет себя веселящим газом. Как врач я склонна отнести это явление к категории массовых психозов. Этакой коллективной некрофилии. Непременно предложу свои услуги при переводе на русский Фромма (о Гитлере) – насколько можно судить по оригиналу, о таком специфически русском явлении там не сказано (да и не могло быть) ничего. Так что за мной глава-послесловие.
Извини. Я знаю, как Ты не любишь (не любил?) мои «диссидентские штучки». Может быть, поэтому Ты не любил и меня. Нет, я не отрицаю: Ты любил мое тело, но всегда мне казалось (прости еще раз) – Ты обнимаешь кого-то другого (другую). Это ощущение трудно выразить точнее и вообще передать словами. Какое-то смутное отчаяние сквозило во всем, что имело отношение к нашей любви (я все-таки буду пользоваться этим словом – так привычнее).
Мне кажется (есть тому и подтверждения из области артефактов, но их я пока не стану оглашать), Ты относишься к типу людей, которые наделены великолепным механизмом отсечения – прошлого, – всего, что перевалило «за гребешок» и стало: «час назад», «вчера», «в прошлом месяце», в прошлом… Этакая психическая гильотина, отрубающая «вчера» вместе со всей его начинкой из дел и чувств. Трудно представить что-нибудь более чуждое Тебе, чем ностальгия по прошлому. А ведь она всегда так понятна! Мы «обживаем» время, и только-только оно становится нашим «домом», как тут же и проваливается в небытие, оставляя по себе тоску невозвратности. «Возврата нет» – вот что такое ностальгия. Нет возврата туда, куда хотелось бы вернуться. Нет возврата «домой». Нет возврата.
Наверно как никому другому свойственны мне сожаления такого рода. Я вполне разделяю мнение о «единственности рая воспоминаний». Теперь, когда Тебя нет рядом, и Ты в опасности, и я могу потерять Тебя, – на годы, если не навсегда, – признаюсь: я часто бывала несправедлива, а порой – жестока. Может ли послужить мне оправданием то, что проявления такого рода не свойственны моей натуре, и были привносимы тактикой борьбы – за полное и безраздельное обладание Твоей любовью? Не знаю. Я думала: возбуждая ревность, я возбуждаю в нем чувство потери, возместить которую можно лишь одним – древнейшим – способом: браком. (Извини.) Будто отдаешься головокружительному танцу, исподтишка поглядывая на сидящего в углу молчуна, с которым только и мечтаешь дотанцевать до могилы. Всякая борьба увлекает, война полов увлекательна вдвойне. Возможно, это единственный род войны, допустимый по моральным соображениям, ибо руководствуется не ими, а лишь только чувствами. В настоящей войне нет места ничему, кроме страха и отчаяния. Вряд ли и ненависть является частым гостем. Чтобы нажимать кнопки и гашетки, она вовсе не обязательна, и Тебе это известно лучше других. Но представь себе, что испытывает женщина, говоря тому, кого любит больше жизни: я выхожу замуж. Да, я выхожу замуж за человека, которого не люблю, но я хочу устроить свою жизнь, обрести опору, создать семью и наконец главное: я хочу иметь ребенка. Черт возьми, я должна выполнить свой долг на земле, передать эстафету! Разве так трудно понять? Понимаю, говоришь Ты, и в принципе одобряю, однако не мешало бы взглянуть на моего избранника: какой породы? Вот, пожалуйста, – фас, профиль, во весь рост, особые приметы… Не то. Брезгливо морщась, Ты откладываешь в сторону фотографии. Я и сама знаю – он моложе меня на целых два года, он только что родился, когда я, помню, болтала уже без умолку, делясь впечатлениями об окружающем мире со своими сумасбродными (впрочем, тогда еще не проявившимися во всем сумасбродстве) родителями. Когда же мне стукнуло пять (он тогда под стол пешком ходил в буквальном смысле слова), я впервые по-настоящему влюбилась – в некоего друга своего отца. Но отличался редкостной глухотой в отношении самого естественного и первичного: он совершенно не догадывался, что любим женщиной. Да, да, именно так! Если в каждом взрослом сидит ребенок, то и наоборот, в каждом ребенке уже запрятан взрослый. Вряд ли надо прибавить, что неумение выразить свою любовь – неразвитость языка и телесности – вынуждает ребенка замыкаться в раскаленном сосуде: о последствиях можно только гадать. Я предполагаю, что в каких-то глубинных структурах мозга (Ты непременно сослался бы на подсознание; однако, на мой взгляд, бессознательного не существует, – это просто рана на нашем естестве-психизме и память об этой ране; это предельная точка самого сознания) – там, куда проникает жало невыразимого, идет интенсивное образование новых связей: представь себе волнуемое ветром пшеничное поле, и пусть каждый колос там – это нейрон, а стебли так высоки, что каждый может соприкоснуться с каждым, – представь себе картину такого поля, взвихренного бурей! Все перепуталось, полегло, связалось в один большой клубок, – это и будет рана детской любви. Я знаю женщин лучше твоего любимца Фрейда, и я знаю что говорю. Будучи нанесена – и получена – такая травма становится моделью, по которой делаются все последующие отливки (дарю Тебе еще одну метафору) – слепки, в общих чертах воспроизводящие главное. Для меня этим «главным» стала, по-видимому, разность лет. Иначе как объяснить, что ровесники, все до единого, едва ступив на краешек моего платья и обратившись «женихами», начинают казаться мне дерзкими подростками, кроме дерзости и наивной веры в собственную значимость ничего не имеющими за душой? Такого рода сексуальная патология описана в специальной литературе. Только, на мой взгляд, ее причиной служит не запечатленный в сознании образ отца (хотя безусловно и он имеет значение), а опыт первой любви. Вот почему Ты, явившись передо мной со своими двадцатью «преимущественными» годами, мгновенно оплел их пространной сетью мое ждущее сердце. Я знаю – Ты не был готов ответить мне столь же горячим чувством. Не только потому, что я была для Тебя ребенком, несмышленышем, а Ты никогда не склонялся к педофилии (помню спор наш о набоковской «Лолите», и как Ты доказывал мне совершенную психологическую несостоятельность тамошней интриги), а просто-напросто ввиду глубокого душевного надлома, произведенного недавней трагической смертью Твоей жены. О, я сразу поняла: никто и никогда теперь не сможет ко мне приблизиться без того чтобы примерить на себя Твои «доспехи», и всем они окажутся велики. Но эти же латы оковывали Тебя броней, которую мне предстояло разрезать, расплавить, сжечь, а горстку оставшегося о них пепла, – не развеять по ветру, но запрятать так далеко как только возможно.
(К вопросу о педофилии. Тут я, возможно, впадаю в ошибку. Горячность, проявленная Тобой при обсуждении сей проблемы, может и послужить доказательством противного. При желании я могу обратить против Тебя и более существенные аргументы, – например Твою теплую – не слишком ли? – дружбу с Лорочкой, дочерью Салгира. Как бы Ты ни выдвигал на авансцену своего сына, моя ревность находит здесь исключительно благодатную среду.)
Да, я ревнива. Но я предпочитала, чтобы ревновал Ты, хотя и не добилась в этом видимых результатов. Максимум – взаимоуничтожения двух ревностей. Так огонь, пожирающий с двух концов хлебное поле, при встрече с самим собой гаснет за неимением горючего. Последним экспериментом, по-настоящему увлекшим меня и потому довольно-таки рискованным, стал Борис Кирсанов. Этот человек безусловно обладает качествами тореадора (теперь – но только теперь, после всего происшедшего – Твоего Поступка – я наделяю ими Тебя), а это именно то, что намагничивает женскую душу и может создать в ней заряд любви. Ты спросишь, конечно, понимаю ли я под этим лишь бойцовские качества или еще и хитрость, и ловкость, и коварство, и талант. Безусловно. Не только сила и выносливость, но эти последние отличают истинного бойца. И как сказал один мой любимый автор – у каждого свой бык. (Когда-нибудь мы непременно поедем с Тобой в Испанию на ловлю форели и тогда постараемся завести знакомство с живым матадором.)
Ты совершенно прав, когда в очередном припадке ревности говоришь мне: я тебя сделал. (Немного филологии: кажется у Миллера в «Тропиках» – не упомню в каких именно – спрашивают: «Ты ее уже сделал?» – вкладывая в это «сделал» вполне определенный смысл; я бы перевела это место по-иному – из двух возможных глаголов там употреблен «do», тут было бы правильней: «Ты уже сделал с ней это?», только Твоя подсказка из марьинорощинского жаргона военных лет заставила меня остановиться на первом варианте.) Ты меня сделал (извини) во всех смыслах. И сделал это так хорошо, что все пытавшиеся доделать (моя находка! – по части филологии я, пожалуй, в скором времени переплюну Тебя) казались мне жалкими подмастерьями. Можно ли достроить дворец, созданный по единому архитектурному плану? Можно, разумеется, пристроить флигель- другой, но целое от этого придет в упадок. Ты это знаешь. Но и должно знать: опыт любви у женщины не накапливается как сумма в некоем уголке сознания – он образуется взрывообразно и остается на всю жизнь застывшей музыкой – взметенностью чувств и ощущений. Это ужасно, потому что – загадка, которую нельзя разрешить. Вам говорят: забудьте, мы все тут перестроим по-новому, или снесем, чтобы очистить площадку и выстроить новый, еще более роскошный дворец; и начинают возводить стены, а те буквально рушатся на глазах, повергая вас в еще более глубокую ностальгию. Помню, как однажды я задала Тебе вопрос, имея в в виду Лорочку Салгир: ты ее уже сделал? (Это случилось в один из моих ностальгических приступов.) Ах, как Ты взвился! Потом Ты все отрицал, ссылаясь на подпитие, но разреши не поверить: амнезия, как правило, касается второстепенного, но Ты – ударил меня! Такое не забывается, во всяком случае я не верю. Конечно, то была тривиальная пощечина, но как Ты мог поднять руку? Впрочем я утешилась тем, что у Пруста в его «энциклопедии ревности» такое нередко происходит с аристократами. Ведь в сущности я тоже была Твоей пленницей. И сколько бы ни предпринимала попыток освободиться, все они окончились неудачей. Последней стало мое решение завести ребенка. Я понимала: идя наперекор Тебе, совершаю нечто непредсказуемое в своих последствиях. Но и дальше так продолжаться не могло. В жизни женщины наступает период, когда при всем видимом благополучии – и благополучии подлинном, если ограничиться рамками любви, дома и карьеры – она теряет свое «Я» точно так же, как это могло бы произойти в результате настоящей психической травмы. Таковое обстоятельство побуждает к размышлениям, призванным восстановить «разорванное сознание», и часто оборачивается золотыми плодами, как то великие творения искусства или открытие природных тайн. И все же след – зарубцевавшийся, почти незаметный – остается на всю жизнь. Бездетные женщины узнаются по выражению глаз.
Одним словом, Твоя Галатея, исчерпав доводы, замешанные на ревности (вот Тебе другой вариант мифа: Галатея влюбляется в Пигмалиона и досаждает ему, ища взаимности), прибегает к последнему: она хочет иметь ребенка. Больше того – она беременна. Тебе сообщается о том под акомпанемент привычной мелодии беззаботного уюта и слегка щекочущих нервы разговорчиков по поводу брака вообще – как социально-экономического феномена, – и текущего претендентства на галатееву мраморную руку и (живое!) сердце – в частности. Несть числа «женихам» (как и всегда), но Одиссей, он же Пигмалион спокоен; испанское красное вино отличается терпкостью и великолепным букетом, прожаренный бифштекс чуть-чуть кровоточит, – в меру, подтверждая собственную свежесть удержанным в мышечной ткани элексиром. Он спокоен, ибо чувства, им питаемые к Пенелопе, она же Галатея, образуют устойчивое звучание (свечение?) – контрапункт, состоящий в гармонии с главной темой – длительностью переживаемого Покоя. Столь нежна и благоуханна эта мелодия, столь явно обладает она анестезирующими свойствами, что, видно, могла бы сделать безболезненной любую операцию, подобно тому как это делает морфий. (Я произношу – Морфей.) Тогда приступим. Укол будет почти безболезненный, яд не застоится под кожей, и ранка тут же затянется, и кровь погонит отраву мощными толчками – в мозг. Самое страшное – никто не знает, как она подействует, как изменятся и в какую сторону пойдут обменные процессы в синаптических мембранах. (Как Ты говоришь, извини, но ведь я математик… и так далее; что ж, я – медик, извини и Ты меня.) Здесь возможны два сценария. Первый: Ты благословляешь меня на брак с предполагаемым «виновником» (значит Ты не любишь меня) и даже высказываешь пожелание выступить моим свидетелем. Вполне разумно – ведь какую-то долю ответственности Ты должен взять на себя, – почти стопроцентная ожидающая меня в данном предприятии неудача в немалой степени будет обязана Тебе как автору столь претенциозного творения, каким я непременно себя обнаружу. Вариант второй: Ты сломлен, чувство ответственности так сильно, что поглощает все без остатка – и Твою «усталость», и страх перед будущим, и сконфуженность перед своими взрослыми детьми (впрочем, не понятную мне – ну да ладно), и промелькнувшую тень сомнения в собственном «авторстве». Последнее – я в этом уверена – будет немедленно и с негодованием отброшено как недостойное нас обоих. Твоя ревность, испепеленная произведенным аффектом, обратится в кучку пепла и ляжет основанием – этакой «подушкой» под фундамент нашей (прости за банальность) обновленной любви. Я ведь никогда не была замужем и потому, возможно, идеализирую брак, но сдается мне, что если он заключен по доброй воле, то «переводит» любовь из категории развлечения в сферу божественного. (Ну и ну!) Нет, я разумеется атеистка, ведь и сама даже удивилась: как это вдруг сорвалось с языка нечто мне дотоле чуждое – апелляция к Богу? – (возможно, я написала бы теперь это слово – Слово – с прописной буквы) – а все же есть какая-то высшая реальность, в которую мы входим (войдем!) рука об руку. Она, конечно же, возведена людьми – эта «высшая реальность» – как и все прочие моральные законы – но как удобно, право, и красиво заключить все это смутное и не до конца понятое в красивую оболочку «Бога». Аминь.
Как Ты думаешь (точнее, знаешь ли Ты? – к слову сказать, я всегда мысленно обращаюсь к Тебе): можно ли в наших условиях заключить брак в тюрьме? В лагере? Я пыталась найти ответ в диссидентских книжках (которые Ты так не любишь), но нигде не нашла. Похоже, ни у кого не возникало такой проблемы; как говорится, были вещи и поважнее – просто выжить любой ценой. Я согласна: смешно даже подумать. Представь себе оторопелые взгляды чиновничьей тюремной братии! «Брак? Зачем?!» – неподдельное удивление! Искреннее сочувствие: кто более псих – «сидящий» (в одиночке, как и следует «буйным» до экспертизы) или эта баба? Ведь и молода и красива, а тот-то – старая калоша (прости за резкость, Ты мне очень не понравился последний раз, ко мне на свидания выходи, пожалуйста, побритым). «Зачем он тебе нужен? Скажи спасибо – он тебе никто. Легче проживешь». Вот – дословно – начальник СИЗО. А как он смеялся, когда я назвала его «гражданин начальник»! До слез. И объяснил: я имею право называть его «товарищем». Хотела ему выдать, мол, тамбовский волк тебе товарищ, да постеснялась чего-то. Не то постеснялась, не то испугалась. Ведь тогда бы и мечтать не пришлось ни о каком браке. Между тем «товарищ» сей намекнул: за все надо платить, желательно «натурой». Пришлось пообещать – «после». Я тоже смеялась. В общем, расстались друзьями.
Ну, я понимаю, является тюремный священник и венчает вас по закону Божьему, и где-то все это там записывается – на небесах? – или в церковные книги, и тогда уже всем понятно: только смерть… и так далее. Но вы молоды – и смерть нереальна, приговор – каторга. Для того и существует Сибирь с ее неодолимыми пространствами и трескучим морозом. И Ты идешь туда, гремя кандалами, а я, как истинная декабристка – на тройке с бубенцами. И какой же русский не любит быстрой езды! «В Сибирь! В Сибирь!» – вот как восклицать бы должны чеховские героини. А представь – теперь: как все это назвать? – «выездная сессия ЗАГСа»? Приходит «инспектор»? – ведь же в тюрьме, случается, и умирают, и как тогда оформляется соответствующее «свидетельство»? Вот и так же, извольте (пожалуйста, нижайше прошу!) оформить наш брак с гражданином Чупровым В. Н. Ну и пусть это сделает тот же человек, что оформляет покойников. Нас от этого не убудет, главное – «бумага». Бесспорно, жизнь подвержена порче, но в главном, глубинном своем течении она должна оставаться жизнью.
Ты сказал: сумасбродство, чистейшей воды. Еще бы! – кому как не Тебе знать – золотые клетки и башни слоновой кости, равно как и монастыри не защищают от эпидемий, ибо те порождены самой жизнью и тянутся к живому, просачиваясь через любые даже самые неприступные стены. А доставшиеся им жертвы они либо убивают сразу (как Твою возлюбленную жену), либо делают «хрониками» – как Тебя. (Извини.) В сущности (Ты сказал бы – в пределе), это болезнь совести – как врач я констатирую «невроз нечистой совести», которым заражено поголовно все население нашей «державы» (будь она неладна). Исключая, может быть, детей в возрасте до трех лет. Хотя это следовало бы проверить. С убитыми все ясно: болезнь прогрессирует, симптомы становятся более выраженными, и тут возможны два варианта: первый, самый простой, – самоубийство; это может быть суицид в чистом виде, либо то же – метафизически – когда тебя (по причине твоего же собственного «буйства») помещают в карантин и там уже убивают подручными средствами (Твой случай.) Более сложное течение болезни – когда больная совесть дает осложнения на соматическом уровне; вот вам, пожалуйста, полный их набор: рак, ишемия, алкоголизм, иммунодепрессия и проч. и т.п Конец, впрочем, один. (Случай Твоего друга Бориса Кирсанова. – я еще расскажу о нем – довольно редок в своем анамнезе.)
Итак, с убитыми, как я сказала, все просто. А что – живые? Если принять мой постулат (о поголовном охвате эпидемией), то надо разобраться: что происходит с теми, которые живут нормальной – на взгляд со стороны – жизнью, – работают, рожают детей, растят их, наслаждаются искусством, наконец? Какова симптоматика у этой части (подавляющего большинства) населения, – тех, кого издавна зовут конформистами? (Я была неправа, называя конформистом Тебя – действительность опровергла мой проект), чему я рада, несмотря на то, что теперь приходится поместить Тебя в категорию «убитых»; но и то верно лишь как предельный случай, – за Тебя есть кому постоять.) «Нормальная» жизнь оказывается нелегка: нечистая совесть ее носителя блокируется комплексом неполноценности. А это значит Великий Отказ – от прав и свобод, заявленных Конституцией. Быв конформистами, мы не имели права мечтать о рыбалке в Памплоне, Я – пожать руку настоящего матадора. Ты – прочесть несравненного Ортегу. Примириться с нечистой совестью, «нормально» жить с ней – значит преступить нравственный закон. Поэтому я говорю: конформисты – преступники; но они тут же и перестают ими быть, переходя в категорию «невротиков». Ты только представь себе это невообразимое смешение! Тяжело больные соседствуют с переболевшими (читай – преступниками) и пока еще здоровыми из числа подрастающих или уже ступившими на путь преступления с молодых ногтей. Похоже на лейкоз, не правда ли? Соотношение белых и красных кровяных телец необратимо нарушается, и социальный организм погибает от невозможности воспроизводить себя как целое.