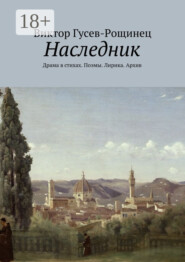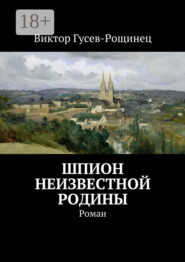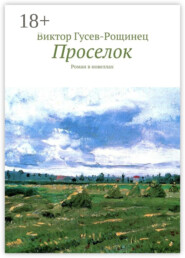По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Времена. Избранная проза разных лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Времена. Избранная проза разных лет
Виктор Гусев-Рощинец
Сборник включает в себя основной наиболее представительный корпус малой прозы автора и роман «Шпион неизвестной родины».
Времена
Избранная проза разных лет
Виктор Гусев-Рощинец
© Виктор Гусев-Рощинец, 2018
ISBN 978-5-4485-6793-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Рассказы
Исторические прецеденты
«В перспективе человеческого духа смерть – это не то что дано, а то что следует сотворить; это задача, которую мы активно берём на себя и которая становится источником нашей активности и нашей власти»
(М. Бланшо, «Смерть как возможность»)
Он не любил себя в такие дни. Установившаяся жара изнуряла к тому необычайной влажностью, и что-то уже по-видимому сдвинулось в атмосфере, рождая циклон, который налетит через два-три дня, и только тогда придёт облегчение, восстановится душевное равновесие. Проклятая метеочувствительность! Она не столько досаждала общей расслабленностью, сколь депрессией, в которую повергала его в эти периоды, предшествующие погодным сдвигам. Он не помнил, чтобы нечто подобное происходило с ним в молодые годы. Может быть, это возраст? Но ведь он ещё совсем не стар, шестьдесят прожитых лет не сказались на здоровье, если не считать лёгкого поскрипывания в суставах, поредевших волос и вот этих внезапных «душевных провалов», угрожающих – всего более боялся он – работоспособности.
Он знал, что многие называют его диктатором. Жалкие глупцы! Им наплевать на величие нации. Невдомёк, что История – с большой буквы – во все времена движима была «диктаторами», попросту говоря – личностями, а уж отнюдь не чернью, не «массами», которые хотя и «восстали», но ведь не стяжали ничего кроме сомнительной славы «потребителей». Читайте великого Ортегу! (Впрочем, о его философской привязанности было известно уже достаточно хорошо – позаботились многочисленные интервьюеры.) Трагедия народа состоит в том, что его толщу не пронизывают могучие корни аристократических родов, не крепят «почву», не предохраняют от оползней и обвалов. Корчеватели хорошо постарались, некогда великая нация стала обыкновенным сбродом, который вновь может сплотить только высокая цель, и только неустанное, упорное движение к ней способно породить новую аристократию. Говорят, что он развязал гражданскую войну. Чушь! Гражданские войны не прекращались нигде и никогда. Искусство правителя всегда состояло в том, чтобы превратить войну гражданскую в войну освободительную, а если нет достойного противника – придумать его. Ему посчастливилось прийти к власти именно в тот момент, когда «образ врага» (он с удовольствием использовал эти модные пацифистские словечки) – этот отвратительный лик выступил с отчётливой ясностью, и не потребовалось его изобретать, чтобы направить в нужную сторону стрелу народного гнева. Восточный тиран жестоко ошибался, когда призывал на головы соплеменников гражданскую войну – в итоге он расколол мир и едва не пустил под откос земную цивилизацию. А что можно сказать о Западе, который кичится своим благополучием, в то время как самая настоящая гражданская война набирает силу на улицах и площадях его чистеньких ухоженных городов, где бесчинствуют банды каких-нибудь «бритоголовых», сумасшедшие одиночки палят из автоматов по толпе, а герои-подпольщики взрывают коляски с младенцами? Не новый ли восточный владыка, похоже, не прочитавший ни одной книги, опухший от пьянства, отупевший от лести, не он ли обратил в руины один из красивейших городов своей страны? Не он ли палил из пушек по окнам парламента, крича при этом о приверженности демократическим принципам? Жалкий трус! Уж лучше бы сразу короновался на царство, по крайней мере, никто не смог бы тогда упрекнуть его в демагогии. Высшее достоинство политика – искренность, если ты идёшь к своей цели по трупам сограждан, то лучше не делать вида, что указываешь путь в рай.
Он придвинул к себе папку с бумагами «на подпись», но не открыл её; откинувшись на спинку кресла, положил обе руки на гладь шелковистой голубой кожи и расправил пальцы; потом снова сжал кулаки, придирчиво рассматривая пятна на тыльной стороне правой ладони. Даже кварц не мог затушевать эту предательскую печать старости. Почему именно правая рука? Не оттого ли, что устала держать кормило власти? Пожалуй, прошло время, когда он открыто мог гордиться изяществом линий, стекающих к замку-запястью, замыкающему стальным охватом бугрящиеся тропинки мышц. Его руки нравились женщинам. Но теперь? – вряд ли; он давно уже не слышал комплиментов – может быть потому, что в его жизни теперь не было женщин, он не мог позволить себе прежние вольности, ведь он стоял на страже морали.
Напольные часы в дальнем конце огромного кабинета пробили восемь, взломав тишину долго не стихающим колокольным гудом. Он выключил настольную лампу и перевёл взгляд на окно. Солнце, ещё скрытое горами, но с минуты на минуту обещавшее ударить из-за хребта залпом первых лучей, сейчас окрашивало восточную часть небосклона расплавом охры, сурика и черни, исподволь готовясь окунуть мир в холодную светлую лазурь.
Он всегда встречал солнце лицом к лицу. Ничто, даже экстренные совещания, порой длившиеся ночами, не могли помешать ему подставить лицо и грудь первому, бьющему в упор лучу солнца; он часто думал, что с такой же радостью принял бы вспышку ружейного залпа, если бы не мерзкий обычай нынешних застенков убивать выстрелом в затылок. Ублюдки! Кто из них может похвастать, что отменил смертную казнь? Что искоренил преступность – лишь только тем, что, поставив под ружьё, дал молодёжи выход для её копящейся неуёмной энергии. Есть только одна истинно великая держава, достойная того, чтобы учиться у неё государственной мудрости. Как бы ни поносили её кретины антисемиты, она воочию показала каким сплочённым становится народ перед лицом внешней опасности. Нация, говорит Ортега, это каждодневно возобновляемый плебисцит. Что ж, это справедливо, трудно что-нибудь возразить. Но ведь всё упирается в человеческий материал, одному богу известно что роится в головах, не затронутых размышлениями, а лишь торчащих с раннего детства перед экранами телевизоров, наполняющих души унынием и пустотой. Какая буря поднялась в парламенте, когда он своим указом запретил демонстрацию фильмов, пропагандирующих секс и насилие! Какие слёзные причитания об удушенной свободе! О попранной демократии. Демократия! Что смыслила в ней жалкая кучка недоумков, ввалившихся во Дворец после очередного неудачного «плебисцита»? Они только и умели что затевать драки в президиуме и паясничать перед телекамерами. За полгода ни одного порядочного закона, кроме толстенного перечня собственных привилегий. Он ничуть не жалеет о своём шаге, хотя и стоившем ему бессонных ночей, но очистившем политическую атмосферу подобно тому, как очищает и освежает воздух грозовой разряд. По крайней мере, он не палил из танков по людям, каким бы сбродом ни казались они ему и как бы ни досаждали своей глупостью. Он распустил их по домам в полном согласии с Конституцией.
И что же? (Отделанные морёным дубом стены порозовели: солнце вспыхнуло раньше и не там, где он ждал его, а чуть южнее по линии хребта – он не учёл того, что несколько дней уже не встречал рассвет во Дворце.) Опять устраивать выборы? Чтобы новая генерация бездельников оседлала народ, пользуясь его безграмотностью и нищетой? Нет, он не для того понёс этот крест, чтобы дать себя сбить с пути, предначертанном ему судьбой, пути, продуманном до мельчайших деталей; в конце его он видел отнюдь не себя на гранитном пьедестале перед фасадом Дворца, а только лишь свой просвещённый народ, охраняемый сильным государством. Он искренне верил в просвещённую диктатуру.
Он встал из-за стола, подошёл к окну, распахнул его. В комнату ворвался воздух, напитанный запахом цветущего миндаля. Сегодня даже великолепие рождающегося мира бессильно было пробудить восторг, часто охватывавший его при виде столь властной, пронзающей красоты. Большинством своих сочинений он обязан ныне утраченной способности восторгаться перед лицом жизни, облачённой в тогу бессмертия. Мир, говорит Декарт, каждую секунду творится заново. Время дискретно, и если сейчас ты есть, то в следующую секунду можешь не быть. Бытие нерасторжимо с мыслью, оно само и есть мысль, и если ты мыслишь, можешь сказать себе: «Я есть.» Лет десять назад он, вероятно, устремился бы к письменному столу, чтобы немедленно записать стихами это нечто, пока ещё не оформившееся, но явственно проникнутое опущением глубины. Но теперь… Хватит того десятка изданных томиков, что стоят позади него за стёклами шкафа, тех девяти с половиной фунтов (он однажды в шутку взвесил собрание своих сочинений – потом они долго смеялись), максимум (?) сколько он хотел бы ещё написать… Он задумался. Сколько? Счёт пошёл на унции, граммы. Поэтический дар покидает и, вероятно, скоро покинет его. Всё, что он написал за последние годы, пронизано чувством вины и достойно лишь того, чтобы пылиться в личном архиве. Может быть, только «На смерть матери»… Но кому это нужно, кроме неё самой, её души, витающей где-то неподалёку, прикованной любовью к единственному сыну, страдающему от сознания непоправимой, безысходной вины: она умерла внезапно, а он, поглощённый государственными делами, не был рядом, не держал её руку в своей, когда она ступила за край..
Он никогда не был нежен с ней, знал, что она этим печалится, но только теперь, осознав до конца меру своего молодого эгоизма, испытав глубокие отцовские чувства, понял, что переживала она в своём одиночестве, именуемом старостью. Наверное, так остро жалящее чувство вины есть неминуемая расплата за чёрствость, которой защищается душа от покушений на свою независимость. Сильные духом инстинктивно оберегают себя от «сантиментов», угрожающих Самости, способных поколебать уверенность в правоте собственного пути.
Вошёл Бранко. Нет, сегодня ещё рано. Он проспал дольше обычного, документ не подписан.
– Они ждут, господин Президент.
Ничего, подождут. Надеюсь, под плащом у тебя нет ледоруба, мой преданный Бранко, если бы ты знал, как это страшно подозревать, опасаться даже тех, кому, в сущности, веришь, как самому себе. Ты, конечно, догадываешься: я всегда становлюсь у раскрытого окна так, чтобы правая створка отражала входную дверь, я вижу тебя, хотя отлично понимаю, что в этом нет никакой надобности, вряд ли существует надёжный способ избежать покушения. Но когда начинаешь подозревать соратников – дни твои сочтены.
– Совет Безопасности назначен на девять, но они уже собрались, господин Президент. Они ждут в Малахитовом зале.
Какая, однако, спешка.
– Иди, Бранко, и скажи им: документ подписан. Скажи, что я не совсем здоров и выйду к ним ровно в десять. Иди, иди.
Скрылся так же неслышно, как вошёл. Славный Бранко! Пожалуй, внуки забрали у него самое лучшее: славянскую стать, в которой неуловимо сочетаются молодая гибкость пшеничного колоса и былинная мощь древних родов. Ему повезло с зятем. Чего не скажешь о дочери. Вот уж где, право, неутихающая зубная боль. Всё то же чувство вины, осложнённое неприязнью, как бы возводящей эту вину в квадрат и окунающей душу в чернильную горечь. С тех пор как она сбежала на Запад и начала эту неуместную кампанию за восстановление демократии, он со стиснутыми зубами заставлял себя просматривать утренние газеты и всякий раз, натыкаясь на её пропагандистские речи, поражался тому упрямству, с которым она в прямом смысле слова толкала в могилу собственного отца. Вот кто мог поспорить с ним страстностью и несгибаемой волей. Оставить двоих детей ради (видит бог, неправого!) дела – для этого надо обладать горячей кровью. Воистину, дети наследуют у сонма предшествующих поколений. В его роду было много борцов за справедливость, хотя каждый из них понимал её по-своему. Если чего-то и не хватает Бранко, то вот именно страстности, он слишком мягок, не будь он таким, мог бы стать хорошим преемником – до тех пор, пока не подрастёт внук.
Монархия? А почему бы и нет? Разве мало вдохновляющих примеров? Кто как не просвещённый монарх, свободный в силу своего положения от корысти и страха перед завтрашним днём, сможет больше чем кто-либо заботиться о своём народе? Кто сможет дать ему по-настоящему действенную конституцию, не боясь, что она ударит по нему самому? И разве не самые страшные режимы родились во чреве так называемой демократии? Только абсолютная власть делает свободным для совершения великих преобразований, ничто иное. Но тяжек путь к ней…
Он отошёл от окна и снова приблизился к столу. Папка из голубой кожи теперь светилась в дымящемся луче солнца как маленькое озерцо. Таким безмятежным выглядит часто кратер вулкана. Этот мягкий ошмёток сейчас таил в себе столько же коварства и необузданной силы. Как, в сущности, легко вершится власть! Несколько росчерков пера – и «кляча истории» взбрыкнёт молодой лошадкой и понесёт невесть куда. Прав был русский поэт: нет ничего проще – загнать её, достаточно отпустить поводья. Вся так называемая мировая история – это история преступлений и массовых убийств. Единственная подлинная история – человеческая жизнь. Если бы можно было записать биографии всех когда-либо живших на земле – вот тогда бы составилась История.
Он подумал о сыне. Мальчик прав: самая почётная миссия – обустроить «башню из слоновой кости» и поселиться в ней, закрывшись от мира чем-нибудь полупрозрачным, и чтобы Мир забыл о тебе, забыл твоё имя, как он забыл имена древних китайцев, однако храня их бессмертные творения. Первым что он сегодня подпишет, будет реформа образования. По всей стране будут создаваться закрытые учебные заведения для избранных – не происхождением, но талантом. Он пригласит лучших умов Европы и Америки, чтобы сделать гуманизацию просвещения реальностью, а не только красивой сказкой, где его авторство отпечаталось так ярко, что уже в проекте народ окрестил программу Президентской. Пусть так, ему нечего на это возразить, да и нет желания. Пусть недруги называют его Великим Магистром, они преисполнены иронии по поводу задуманных им преобразований и уже видят страну этакой новой Касталией, – они уже забыли о реформе военной, ещё раньше сделавшей их небольшую профессиональную армию сильнее многих на континенте. Тогда они критиковали его за принципиальный отказ от ядерного оружия, а ведь если история чему-то способна научить, то это банальнейшей из истин: настоящая сила произрастает не на стали и огне, а на хлебе и мясе, да ещё, пожалуй, твёрдости духа.
Прежде чем сесть за стол и начать работать, он вернулся к окну. Теперь его взгляд не блуждал по исчерченной дорогами, разграфлённой виноградниками долине, по горным склонам, местами подёрнутым белёсой дымкой, по красноватому профилю хребта – теперь он вглядывался в предлежащую зелень парка, где подспудно копилась энергия, ведомая лишь ему одному: то там, то здесь мелькали среди деревьев маленькие фигурки в камуфляже, как будто невидимой рукой переставляли солдатиков в детской игре, создавая для противника «матовую» ситуацию. Чёрным жучком подползал к ограде БТР, за ним второй, третий.
Он сел за стол и раскрыл голубую палку. Быстро пробежав глазами, отложил в сторону первый лист из груды требующих подписи. Несколько строчек на белом поле выстреливали в упор, заставляли на мгновение замереть всякий раз, когда сквозь обтекаемые формулировки прорывался чудовищный в своей бесчеловечности смысл. Какое, однако, восхитительное упрямство! Четвёртый день кряду эта бумага подминает под себя всё, неизменно оказываясь наверху. Славный Бранко! – он даёт понять, что продолжение тяжбы по меньшей мере бессмысленно, пора наконец решиться и поставить жирную точку после того как нетвёрдой рукой (скажется бессонная ночь) он распишется под этим Указом. Под этим? Шутить изволите, господа. Под этим вы никогда не увидите моей подписи. Даже если будете сутками дежурить в приёмной или там где вы сидите сейчас в ожидании «торжественного момента». Вы думали, у вас будет ручной президент. Не отрицаю, вы поддержали меня в решительную минуту, когда завязанный Парламентом гордиев узел потребовал острого топора. И вы решили, что явитесь достойной сменой отправленным в отставку болтунам и клоунам. Здесь вы ошиблись. Моя идея создать Совет Безопасности произрастает на другой почве, о которой может быть и догадывались некоторые из вас, но уж никоим образом не простирали свою убогую фантазию так далеко, чтобы разыграть эндшпиль. Теперь мне не надо разыскивать вас поодиночке, беспокоить полицию, ужесточать пограничный контроль – все тринадцать, наиболее влиятельные лица в государстве (не скажу, простите, самые умные) сидят в своём излюбленном Малахитовом зале и ждут, когда их ставленник-президент любезно преподнесёт «на серебре» вожделенный Указ.
Он положил перед собой чистый лист и от руки набросал распоряжение. Сегодня с девяти ноль-ноль Совету Безопасности вменялось прекратить деятельность и сложить полномочия. Он посмотрел на часы, оставалось ещё пятнадцать минут. Они войдут одновременно – Бранко и генерал Суджа с тринадцатью ордерами на арест.
Странно, чем более решительности в душе, тем больше дрожит рука. Проклятая бессонница! Впрочем, сегодня он, кажется, немного поспал, если можно назвать сном это забытье, когда картины прошлого, выстраиваясь в какой-то причудливый, алогический ряд, перемежаются короткими связками-сновидениями, придающими всему пережитому ирреальный оттенок. Недавно ему – приснился? привиделся? – маленький эпизод детства. Ему было девять или десять лет, его отправили в деревню отбывать каникулы – занятие в общем-то приятное, когда б не комары, всегда питавшие к нему особую склонность. В день поминовения усопших с гор подул сильный ветер, он обломил шест, на котором был укреплён дедом скворечник. Птичий дом рухнул на утрамбованную до твёрдости камня площадку хозяйственного двора и разбился вдребезги. Четырёх изуродованных окровавленных птенцов он похоронил на выгоне под старой ветлой и каждый год потом навещал это маленькое «кладбище», заново переживая давнее потрясение. Возможно, что именно то детское впечатление от созерцания реальной смерти побудило его отменить смертную казнь. А теперь эта чёртова дюжина, возомнившая себя властью, толкает его на массовое убийство мирных жителей своей же страны. Сколько времени он потратил, доказывая абсурдность их плана! Депортация населения целой провинции чревата сотнями, может быть, тысячами трупов – женщин, детей, стариков. Пусть они исповедуют другую религию, но ведь он-то никогда не придавал значения религиозным мотивам, смеялся над всеми и всяческими «божественными бреднями». К тому же известно: участие армии всегда оборачивается «случайно» раздавленными, застреленными, зарубленными. Нет, он не пойдёт на то чтобы использовать демографическое оружие. Как бы ни досаждали закордонные «единоверцы» своими неуклюжими попытками оторвать этот лакомый кусочек от их исконных земель. Вошёл Бранко.
– Ваша жена, господин Президент.
Вот кто ему не нужен сейчас! С другой стороны, в такие моменты нельзя оставаться одному. Разумеется, лучше, если б она разделяла его планы, и всё же никогда, он уверен, она не станет рядом с дочерью (он снова поморщился как от зубной боли), чтобы вести войну против того, с кем прошла по жизни. В брачной лотерее ему повезло.
– Подойди сюда, Бранко. Возьми вот это. Ровно в девять ты войдёшь в Малахитовый зал и зачитаешь его так называемому Совету безопасности. Перед входом тебя ждёт генерал Суджа, он войдёт вместе с тобой. Иди,
Молодец, Бранко. Ни один мускул не дрогнул на твоём лице. Ты давно этого ждал, верно? Надеюсь, твоя мягкость не помешает тебе сегодня прочитать эти несколько строчек твёрдым голосом – у тебя красивый тембр! Если ты станешь моим преемником, народ полюбит тебя за одно только мужественное лицо – чернь обожает актёров. Перед тем как передать тебе власть я прикажу по всей стране крутить фильмы с твоим участием. Успех гарантирован! А ведь ты ещё и умён, и хитёр, и смел. У меня была возможность убедиться в твоей храбрости. Надеюсь, мой внук унаследует её от тебя.
Когда она вошла, он сидел, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами, стиснув пальцами деревянные подлокотники до белизны в суставах. Она подумала: так цепляются за выступ скалы чтобы не сорваться в пропасть. Восковое лицо, маска потусторонности, налагаемая бессонницей. С тех пор как он стал всё чаще проводить ночи во дворце, неуловимая дымка страха разграничила их тела, день ото дня становясь, однако, плотнее, ощутимее, грозя превратиться в нечто непроницаемое – стекло, покрытое морозным узором. Ещё продышав «окошко» можно посмотреть друг другу в глаза, но для тёплых прикосновений путь закрыт. Тела мертвеют, им уже не хватает внутренней энергии, чтобы растопить лёд на стекле, и души перестают видеть одна другую. Если ты отпустила от себя мужчину, рано или поздно образ твой померкнет в его душе – тогда нужна хирургическая операция.
– Ты не спал сегодня?
Он открыл глаза. Наверное, привычки неистребимы – что бы ни случилось, первым объявляется на посту неподкупное «да – нет»: сегодня оно расписалось в тотальном признании – Никта была в сиреневом дорожном костюме с белоснежной кружевной оторочкой по воротнику и рукавам «три четверти». Её лицо и руки покрывал нежный морской загар – всего лишь час назад она прилетела из Ниццы, где провела неделю, обустраивая новый, недавно купленный дом. Это была её причуда, одна из многих, – но ведь он никогда ни в чём не отказывал ей; возможно, поэтому их брак оказался таким прочным, его не смогли поколебать даже увлечения, которым они оба отдали немалую дань на протяжении этих тридцати лет «совместной борьбы» – так она в шутку называла их брачную эпопею. Ничего странного, оба они были – в теории – противники моногамии, и только «несовершенство мира» (говорила она) заставило их следовать по пути общепринятого; он, впрочем, никогда не объявлял о своих «сексуальных убеждениях» – и без того известны мужские склонности, зачем говорить о них? Однако за тридцать лет проросли друг в друга, стянутые семейным обручем, усмирённые души, и образовалось нечто новое, чему нет названия, хотя заведомо ясно, что удел сей достаётся многим. В последнее время он часто думал об этой подкравшейся исподволь зависимости (если не думал о делах государственных), пытаясь представить себя лишённым поддержки, в этой зависимости странным образом заключённой. Он знал: Никта переписывается с дочерью; в этом как бы тлела надежда на понимание или, по меньшей мере, на то что политика и семья останутся разными континентами, разделёнными – водной, горной – преградой, преодолевать которую ни у кого не достанет ни сил, ни охоты. Надежда питалась пожеланиями здоровья, непременно содержавшимися в каждом послании и адресованными лично ему, «папе», иногда – кто бы мог поверить! – даже упакованными в мягкое кружево бесплотных поцелуев. Но никогда «ты», ни одного прямого обращения, ни одного письма с перечнем политических обвинений и угрозами, наполняющими её выступления в прессе, по радио, на телевидении. В этом «политическом раздвоении» он угадывал тайный замысел: если в двух зеркалах перед собой ты будешь видеть изо дня в день совершенно разных людей, то поневоле начнёшь сомневаться – кто из них настоящий? Ни для кого не секрет, что политика – предприятие оборотней. Она как будто специально придумана для актёров, обожающих роли доктора Джекиля и мистера Хайда. Только гибнут на этой сцене всерьёз. Но ведь он не такой, он вообще не актёр. Не политик? Возможно, так. Возможно, это и хочет показать ему дочь, поставляя перед ним два исключающих друг друга изображения, одно из которых – его Я, каким оно видится из «башни Самости», а второе – набивший оскомину персонаж дешёвых триллеров, этакий Терминатор, починяющий на столе свой собственный кибернетический глаз. Ничего не скажешь, по законам оптики изображение получается на редкость объёмное.
Никта присела на край дивана, поставив на колени маленький саквояж, по форме напоминающий кофр. Его всегда восхищала её готовность. Во всём, даже в услугах тела, исповедующего преданность влюблённой страстно душе, но честно отрабатывающего условия брачного контракта. Беспрекословно повинующегося предписаниям чужой эротической фантазии, отнюдь не только, он догадывался, его собственной. Сегодня он, кстати, покончит и с этим.
– Как ты поступишь с ними?
Спросила всё-таки, не удержалась. Дело обычное – сдают нервы. Её всегдашняя обаятельная невозмутимость на этот раз бесславно отступила.
А что, правда, он с ними сделает? Арест, заключение под стражу – это лишь первый шаг, рубеж, после которого должны последовать другие действия. Какие? Ведь это и рубеж в наступлении его собственной власти. Рубикон, который он перейдёт сегодня или погибнет. История оправдала Цезаря, оправдает и его. Даже если река вниз по течению окрасится бурым от пролитой крови. (Как часто, подумал он, поэтические метафоры приносят на своих нежных крылышках вещи серьёзные! Кажется, Малларме сказал: мы пишем не идеями, а словами.) Нежданная мысль о крови заставила его вздрогнуть.
– Так же, как они поступили бы с нами, отними власть.
Побледнела. Потому что знает: политика – дело кровавое. Почти такое же, как стихоплётство. С той только разницей, что пишешь собственной кровью, а в «политических триллерах» готовишь похлёбку из вырванных языков. Видит бог, они сами толкнули его на это. Возврата нет. За спиной сомкнулась безгласная толпа, влекущая к горловине лязгающего, вбирающего тела гигантского эскалатора. Похоже на ощущение, которое охватывало его раньше при входе в подземку в часы пик: не страха, но обречённости. Вниз! Вниз! До сих пор в ушах его звучали возгласы бегущих в подвал по лестнице их старого дома на Славутинской. Вой сирены, истеричное тявканье зениток, раскаты близких фугасов. Он хорошо знал, что такое война. Если он сохранит им жизнь, эти тринадцать «апостолов» развяжут гражданскую войну.
– Ты этого не сделаешь!
Он прислушался к интонации, пользуясь коротким эхом, прокатившимся через замкнутое пространство. Пожалуй что конец фразы похож на восклицание., Почему она так думает? Не верит в его способность к решительным действиям? Или, напротив, слишком верит в гуманность? Но разве не очевидно, что политик совершает свои поступки в пространстве смерти? Впрочем, как и поэт. Искусство и политика – вот два пути, которые открываются перед нами, когда мы отправляемся на поиски смерти – чтобы укрыться от неё. Ведь прятаться от смерти, говорит Бланшо, то же самое что прятаться в ней.
– К сожалению!
Виктор Гусев-Рощинец
Сборник включает в себя основной наиболее представительный корпус малой прозы автора и роман «Шпион неизвестной родины».
Времена
Избранная проза разных лет
Виктор Гусев-Рощинец
© Виктор Гусев-Рощинец, 2018
ISBN 978-5-4485-6793-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Рассказы
Исторические прецеденты
«В перспективе человеческого духа смерть – это не то что дано, а то что следует сотворить; это задача, которую мы активно берём на себя и которая становится источником нашей активности и нашей власти»
(М. Бланшо, «Смерть как возможность»)
Он не любил себя в такие дни. Установившаяся жара изнуряла к тому необычайной влажностью, и что-то уже по-видимому сдвинулось в атмосфере, рождая циклон, который налетит через два-три дня, и только тогда придёт облегчение, восстановится душевное равновесие. Проклятая метеочувствительность! Она не столько досаждала общей расслабленностью, сколь депрессией, в которую повергала его в эти периоды, предшествующие погодным сдвигам. Он не помнил, чтобы нечто подобное происходило с ним в молодые годы. Может быть, это возраст? Но ведь он ещё совсем не стар, шестьдесят прожитых лет не сказались на здоровье, если не считать лёгкого поскрипывания в суставах, поредевших волос и вот этих внезапных «душевных провалов», угрожающих – всего более боялся он – работоспособности.
Он знал, что многие называют его диктатором. Жалкие глупцы! Им наплевать на величие нации. Невдомёк, что История – с большой буквы – во все времена движима была «диктаторами», попросту говоря – личностями, а уж отнюдь не чернью, не «массами», которые хотя и «восстали», но ведь не стяжали ничего кроме сомнительной славы «потребителей». Читайте великого Ортегу! (Впрочем, о его философской привязанности было известно уже достаточно хорошо – позаботились многочисленные интервьюеры.) Трагедия народа состоит в том, что его толщу не пронизывают могучие корни аристократических родов, не крепят «почву», не предохраняют от оползней и обвалов. Корчеватели хорошо постарались, некогда великая нация стала обыкновенным сбродом, который вновь может сплотить только высокая цель, и только неустанное, упорное движение к ней способно породить новую аристократию. Говорят, что он развязал гражданскую войну. Чушь! Гражданские войны не прекращались нигде и никогда. Искусство правителя всегда состояло в том, чтобы превратить войну гражданскую в войну освободительную, а если нет достойного противника – придумать его. Ему посчастливилось прийти к власти именно в тот момент, когда «образ врага» (он с удовольствием использовал эти модные пацифистские словечки) – этот отвратительный лик выступил с отчётливой ясностью, и не потребовалось его изобретать, чтобы направить в нужную сторону стрелу народного гнева. Восточный тиран жестоко ошибался, когда призывал на головы соплеменников гражданскую войну – в итоге он расколол мир и едва не пустил под откос земную цивилизацию. А что можно сказать о Западе, который кичится своим благополучием, в то время как самая настоящая гражданская война набирает силу на улицах и площадях его чистеньких ухоженных городов, где бесчинствуют банды каких-нибудь «бритоголовых», сумасшедшие одиночки палят из автоматов по толпе, а герои-подпольщики взрывают коляски с младенцами? Не новый ли восточный владыка, похоже, не прочитавший ни одной книги, опухший от пьянства, отупевший от лести, не он ли обратил в руины один из красивейших городов своей страны? Не он ли палил из пушек по окнам парламента, крича при этом о приверженности демократическим принципам? Жалкий трус! Уж лучше бы сразу короновался на царство, по крайней мере, никто не смог бы тогда упрекнуть его в демагогии. Высшее достоинство политика – искренность, если ты идёшь к своей цели по трупам сограждан, то лучше не делать вида, что указываешь путь в рай.
Он придвинул к себе папку с бумагами «на подпись», но не открыл её; откинувшись на спинку кресла, положил обе руки на гладь шелковистой голубой кожи и расправил пальцы; потом снова сжал кулаки, придирчиво рассматривая пятна на тыльной стороне правой ладони. Даже кварц не мог затушевать эту предательскую печать старости. Почему именно правая рука? Не оттого ли, что устала держать кормило власти? Пожалуй, прошло время, когда он открыто мог гордиться изяществом линий, стекающих к замку-запястью, замыкающему стальным охватом бугрящиеся тропинки мышц. Его руки нравились женщинам. Но теперь? – вряд ли; он давно уже не слышал комплиментов – может быть потому, что в его жизни теперь не было женщин, он не мог позволить себе прежние вольности, ведь он стоял на страже морали.
Напольные часы в дальнем конце огромного кабинета пробили восемь, взломав тишину долго не стихающим колокольным гудом. Он выключил настольную лампу и перевёл взгляд на окно. Солнце, ещё скрытое горами, но с минуты на минуту обещавшее ударить из-за хребта залпом первых лучей, сейчас окрашивало восточную часть небосклона расплавом охры, сурика и черни, исподволь готовясь окунуть мир в холодную светлую лазурь.
Он всегда встречал солнце лицом к лицу. Ничто, даже экстренные совещания, порой длившиеся ночами, не могли помешать ему подставить лицо и грудь первому, бьющему в упор лучу солнца; он часто думал, что с такой же радостью принял бы вспышку ружейного залпа, если бы не мерзкий обычай нынешних застенков убивать выстрелом в затылок. Ублюдки! Кто из них может похвастать, что отменил смертную казнь? Что искоренил преступность – лишь только тем, что, поставив под ружьё, дал молодёжи выход для её копящейся неуёмной энергии. Есть только одна истинно великая держава, достойная того, чтобы учиться у неё государственной мудрости. Как бы ни поносили её кретины антисемиты, она воочию показала каким сплочённым становится народ перед лицом внешней опасности. Нация, говорит Ортега, это каждодневно возобновляемый плебисцит. Что ж, это справедливо, трудно что-нибудь возразить. Но ведь всё упирается в человеческий материал, одному богу известно что роится в головах, не затронутых размышлениями, а лишь торчащих с раннего детства перед экранами телевизоров, наполняющих души унынием и пустотой. Какая буря поднялась в парламенте, когда он своим указом запретил демонстрацию фильмов, пропагандирующих секс и насилие! Какие слёзные причитания об удушенной свободе! О попранной демократии. Демократия! Что смыслила в ней жалкая кучка недоумков, ввалившихся во Дворец после очередного неудачного «плебисцита»? Они только и умели что затевать драки в президиуме и паясничать перед телекамерами. За полгода ни одного порядочного закона, кроме толстенного перечня собственных привилегий. Он ничуть не жалеет о своём шаге, хотя и стоившем ему бессонных ночей, но очистившем политическую атмосферу подобно тому, как очищает и освежает воздух грозовой разряд. По крайней мере, он не палил из танков по людям, каким бы сбродом ни казались они ему и как бы ни досаждали своей глупостью. Он распустил их по домам в полном согласии с Конституцией.
И что же? (Отделанные морёным дубом стены порозовели: солнце вспыхнуло раньше и не там, где он ждал его, а чуть южнее по линии хребта – он не учёл того, что несколько дней уже не встречал рассвет во Дворце.) Опять устраивать выборы? Чтобы новая генерация бездельников оседлала народ, пользуясь его безграмотностью и нищетой? Нет, он не для того понёс этот крест, чтобы дать себя сбить с пути, предначертанном ему судьбой, пути, продуманном до мельчайших деталей; в конце его он видел отнюдь не себя на гранитном пьедестале перед фасадом Дворца, а только лишь свой просвещённый народ, охраняемый сильным государством. Он искренне верил в просвещённую диктатуру.
Он встал из-за стола, подошёл к окну, распахнул его. В комнату ворвался воздух, напитанный запахом цветущего миндаля. Сегодня даже великолепие рождающегося мира бессильно было пробудить восторг, часто охватывавший его при виде столь властной, пронзающей красоты. Большинством своих сочинений он обязан ныне утраченной способности восторгаться перед лицом жизни, облачённой в тогу бессмертия. Мир, говорит Декарт, каждую секунду творится заново. Время дискретно, и если сейчас ты есть, то в следующую секунду можешь не быть. Бытие нерасторжимо с мыслью, оно само и есть мысль, и если ты мыслишь, можешь сказать себе: «Я есть.» Лет десять назад он, вероятно, устремился бы к письменному столу, чтобы немедленно записать стихами это нечто, пока ещё не оформившееся, но явственно проникнутое опущением глубины. Но теперь… Хватит того десятка изданных томиков, что стоят позади него за стёклами шкафа, тех девяти с половиной фунтов (он однажды в шутку взвесил собрание своих сочинений – потом они долго смеялись), максимум (?) сколько он хотел бы ещё написать… Он задумался. Сколько? Счёт пошёл на унции, граммы. Поэтический дар покидает и, вероятно, скоро покинет его. Всё, что он написал за последние годы, пронизано чувством вины и достойно лишь того, чтобы пылиться в личном архиве. Может быть, только «На смерть матери»… Но кому это нужно, кроме неё самой, её души, витающей где-то неподалёку, прикованной любовью к единственному сыну, страдающему от сознания непоправимой, безысходной вины: она умерла внезапно, а он, поглощённый государственными делами, не был рядом, не держал её руку в своей, когда она ступила за край..
Он никогда не был нежен с ней, знал, что она этим печалится, но только теперь, осознав до конца меру своего молодого эгоизма, испытав глубокие отцовские чувства, понял, что переживала она в своём одиночестве, именуемом старостью. Наверное, так остро жалящее чувство вины есть неминуемая расплата за чёрствость, которой защищается душа от покушений на свою независимость. Сильные духом инстинктивно оберегают себя от «сантиментов», угрожающих Самости, способных поколебать уверенность в правоте собственного пути.
Вошёл Бранко. Нет, сегодня ещё рано. Он проспал дольше обычного, документ не подписан.
– Они ждут, господин Президент.
Ничего, подождут. Надеюсь, под плащом у тебя нет ледоруба, мой преданный Бранко, если бы ты знал, как это страшно подозревать, опасаться даже тех, кому, в сущности, веришь, как самому себе. Ты, конечно, догадываешься: я всегда становлюсь у раскрытого окна так, чтобы правая створка отражала входную дверь, я вижу тебя, хотя отлично понимаю, что в этом нет никакой надобности, вряд ли существует надёжный способ избежать покушения. Но когда начинаешь подозревать соратников – дни твои сочтены.
– Совет Безопасности назначен на девять, но они уже собрались, господин Президент. Они ждут в Малахитовом зале.
Какая, однако, спешка.
– Иди, Бранко, и скажи им: документ подписан. Скажи, что я не совсем здоров и выйду к ним ровно в десять. Иди, иди.
Скрылся так же неслышно, как вошёл. Славный Бранко! Пожалуй, внуки забрали у него самое лучшее: славянскую стать, в которой неуловимо сочетаются молодая гибкость пшеничного колоса и былинная мощь древних родов. Ему повезло с зятем. Чего не скажешь о дочери. Вот уж где, право, неутихающая зубная боль. Всё то же чувство вины, осложнённое неприязнью, как бы возводящей эту вину в квадрат и окунающей душу в чернильную горечь. С тех пор как она сбежала на Запад и начала эту неуместную кампанию за восстановление демократии, он со стиснутыми зубами заставлял себя просматривать утренние газеты и всякий раз, натыкаясь на её пропагандистские речи, поражался тому упрямству, с которым она в прямом смысле слова толкала в могилу собственного отца. Вот кто мог поспорить с ним страстностью и несгибаемой волей. Оставить двоих детей ради (видит бог, неправого!) дела – для этого надо обладать горячей кровью. Воистину, дети наследуют у сонма предшествующих поколений. В его роду было много борцов за справедливость, хотя каждый из них понимал её по-своему. Если чего-то и не хватает Бранко, то вот именно страстности, он слишком мягок, не будь он таким, мог бы стать хорошим преемником – до тех пор, пока не подрастёт внук.
Монархия? А почему бы и нет? Разве мало вдохновляющих примеров? Кто как не просвещённый монарх, свободный в силу своего положения от корысти и страха перед завтрашним днём, сможет больше чем кто-либо заботиться о своём народе? Кто сможет дать ему по-настоящему действенную конституцию, не боясь, что она ударит по нему самому? И разве не самые страшные режимы родились во чреве так называемой демократии? Только абсолютная власть делает свободным для совершения великих преобразований, ничто иное. Но тяжек путь к ней…
Он отошёл от окна и снова приблизился к столу. Папка из голубой кожи теперь светилась в дымящемся луче солнца как маленькое озерцо. Таким безмятежным выглядит часто кратер вулкана. Этот мягкий ошмёток сейчас таил в себе столько же коварства и необузданной силы. Как, в сущности, легко вершится власть! Несколько росчерков пера – и «кляча истории» взбрыкнёт молодой лошадкой и понесёт невесть куда. Прав был русский поэт: нет ничего проще – загнать её, достаточно отпустить поводья. Вся так называемая мировая история – это история преступлений и массовых убийств. Единственная подлинная история – человеческая жизнь. Если бы можно было записать биографии всех когда-либо живших на земле – вот тогда бы составилась История.
Он подумал о сыне. Мальчик прав: самая почётная миссия – обустроить «башню из слоновой кости» и поселиться в ней, закрывшись от мира чем-нибудь полупрозрачным, и чтобы Мир забыл о тебе, забыл твоё имя, как он забыл имена древних китайцев, однако храня их бессмертные творения. Первым что он сегодня подпишет, будет реформа образования. По всей стране будут создаваться закрытые учебные заведения для избранных – не происхождением, но талантом. Он пригласит лучших умов Европы и Америки, чтобы сделать гуманизацию просвещения реальностью, а не только красивой сказкой, где его авторство отпечаталось так ярко, что уже в проекте народ окрестил программу Президентской. Пусть так, ему нечего на это возразить, да и нет желания. Пусть недруги называют его Великим Магистром, они преисполнены иронии по поводу задуманных им преобразований и уже видят страну этакой новой Касталией, – они уже забыли о реформе военной, ещё раньше сделавшей их небольшую профессиональную армию сильнее многих на континенте. Тогда они критиковали его за принципиальный отказ от ядерного оружия, а ведь если история чему-то способна научить, то это банальнейшей из истин: настоящая сила произрастает не на стали и огне, а на хлебе и мясе, да ещё, пожалуй, твёрдости духа.
Прежде чем сесть за стол и начать работать, он вернулся к окну. Теперь его взгляд не блуждал по исчерченной дорогами, разграфлённой виноградниками долине, по горным склонам, местами подёрнутым белёсой дымкой, по красноватому профилю хребта – теперь он вглядывался в предлежащую зелень парка, где подспудно копилась энергия, ведомая лишь ему одному: то там, то здесь мелькали среди деревьев маленькие фигурки в камуфляже, как будто невидимой рукой переставляли солдатиков в детской игре, создавая для противника «матовую» ситуацию. Чёрным жучком подползал к ограде БТР, за ним второй, третий.
Он сел за стол и раскрыл голубую палку. Быстро пробежав глазами, отложил в сторону первый лист из груды требующих подписи. Несколько строчек на белом поле выстреливали в упор, заставляли на мгновение замереть всякий раз, когда сквозь обтекаемые формулировки прорывался чудовищный в своей бесчеловечности смысл. Какое, однако, восхитительное упрямство! Четвёртый день кряду эта бумага подминает под себя всё, неизменно оказываясь наверху. Славный Бранко! – он даёт понять, что продолжение тяжбы по меньшей мере бессмысленно, пора наконец решиться и поставить жирную точку после того как нетвёрдой рукой (скажется бессонная ночь) он распишется под этим Указом. Под этим? Шутить изволите, господа. Под этим вы никогда не увидите моей подписи. Даже если будете сутками дежурить в приёмной или там где вы сидите сейчас в ожидании «торжественного момента». Вы думали, у вас будет ручной президент. Не отрицаю, вы поддержали меня в решительную минуту, когда завязанный Парламентом гордиев узел потребовал острого топора. И вы решили, что явитесь достойной сменой отправленным в отставку болтунам и клоунам. Здесь вы ошиблись. Моя идея создать Совет Безопасности произрастает на другой почве, о которой может быть и догадывались некоторые из вас, но уж никоим образом не простирали свою убогую фантазию так далеко, чтобы разыграть эндшпиль. Теперь мне не надо разыскивать вас поодиночке, беспокоить полицию, ужесточать пограничный контроль – все тринадцать, наиболее влиятельные лица в государстве (не скажу, простите, самые умные) сидят в своём излюбленном Малахитовом зале и ждут, когда их ставленник-президент любезно преподнесёт «на серебре» вожделенный Указ.
Он положил перед собой чистый лист и от руки набросал распоряжение. Сегодня с девяти ноль-ноль Совету Безопасности вменялось прекратить деятельность и сложить полномочия. Он посмотрел на часы, оставалось ещё пятнадцать минут. Они войдут одновременно – Бранко и генерал Суджа с тринадцатью ордерами на арест.
Странно, чем более решительности в душе, тем больше дрожит рука. Проклятая бессонница! Впрочем, сегодня он, кажется, немного поспал, если можно назвать сном это забытье, когда картины прошлого, выстраиваясь в какой-то причудливый, алогический ряд, перемежаются короткими связками-сновидениями, придающими всему пережитому ирреальный оттенок. Недавно ему – приснился? привиделся? – маленький эпизод детства. Ему было девять или десять лет, его отправили в деревню отбывать каникулы – занятие в общем-то приятное, когда б не комары, всегда питавшие к нему особую склонность. В день поминовения усопших с гор подул сильный ветер, он обломил шест, на котором был укреплён дедом скворечник. Птичий дом рухнул на утрамбованную до твёрдости камня площадку хозяйственного двора и разбился вдребезги. Четырёх изуродованных окровавленных птенцов он похоронил на выгоне под старой ветлой и каждый год потом навещал это маленькое «кладбище», заново переживая давнее потрясение. Возможно, что именно то детское впечатление от созерцания реальной смерти побудило его отменить смертную казнь. А теперь эта чёртова дюжина, возомнившая себя властью, толкает его на массовое убийство мирных жителей своей же страны. Сколько времени он потратил, доказывая абсурдность их плана! Депортация населения целой провинции чревата сотнями, может быть, тысячами трупов – женщин, детей, стариков. Пусть они исповедуют другую религию, но ведь он-то никогда не придавал значения религиозным мотивам, смеялся над всеми и всяческими «божественными бреднями». К тому же известно: участие армии всегда оборачивается «случайно» раздавленными, застреленными, зарубленными. Нет, он не пойдёт на то чтобы использовать демографическое оружие. Как бы ни досаждали закордонные «единоверцы» своими неуклюжими попытками оторвать этот лакомый кусочек от их исконных земель. Вошёл Бранко.
– Ваша жена, господин Президент.
Вот кто ему не нужен сейчас! С другой стороны, в такие моменты нельзя оставаться одному. Разумеется, лучше, если б она разделяла его планы, и всё же никогда, он уверен, она не станет рядом с дочерью (он снова поморщился как от зубной боли), чтобы вести войну против того, с кем прошла по жизни. В брачной лотерее ему повезло.
– Подойди сюда, Бранко. Возьми вот это. Ровно в девять ты войдёшь в Малахитовый зал и зачитаешь его так называемому Совету безопасности. Перед входом тебя ждёт генерал Суджа, он войдёт вместе с тобой. Иди,
Молодец, Бранко. Ни один мускул не дрогнул на твоём лице. Ты давно этого ждал, верно? Надеюсь, твоя мягкость не помешает тебе сегодня прочитать эти несколько строчек твёрдым голосом – у тебя красивый тембр! Если ты станешь моим преемником, народ полюбит тебя за одно только мужественное лицо – чернь обожает актёров. Перед тем как передать тебе власть я прикажу по всей стране крутить фильмы с твоим участием. Успех гарантирован! А ведь ты ещё и умён, и хитёр, и смел. У меня была возможность убедиться в твоей храбрости. Надеюсь, мой внук унаследует её от тебя.
Когда она вошла, он сидел, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами, стиснув пальцами деревянные подлокотники до белизны в суставах. Она подумала: так цепляются за выступ скалы чтобы не сорваться в пропасть. Восковое лицо, маска потусторонности, налагаемая бессонницей. С тех пор как он стал всё чаще проводить ночи во дворце, неуловимая дымка страха разграничила их тела, день ото дня становясь, однако, плотнее, ощутимее, грозя превратиться в нечто непроницаемое – стекло, покрытое морозным узором. Ещё продышав «окошко» можно посмотреть друг другу в глаза, но для тёплых прикосновений путь закрыт. Тела мертвеют, им уже не хватает внутренней энергии, чтобы растопить лёд на стекле, и души перестают видеть одна другую. Если ты отпустила от себя мужчину, рано или поздно образ твой померкнет в его душе – тогда нужна хирургическая операция.
– Ты не спал сегодня?
Он открыл глаза. Наверное, привычки неистребимы – что бы ни случилось, первым объявляется на посту неподкупное «да – нет»: сегодня оно расписалось в тотальном признании – Никта была в сиреневом дорожном костюме с белоснежной кружевной оторочкой по воротнику и рукавам «три четверти». Её лицо и руки покрывал нежный морской загар – всего лишь час назад она прилетела из Ниццы, где провела неделю, обустраивая новый, недавно купленный дом. Это была её причуда, одна из многих, – но ведь он никогда ни в чём не отказывал ей; возможно, поэтому их брак оказался таким прочным, его не смогли поколебать даже увлечения, которым они оба отдали немалую дань на протяжении этих тридцати лет «совместной борьбы» – так она в шутку называла их брачную эпопею. Ничего странного, оба они были – в теории – противники моногамии, и только «несовершенство мира» (говорила она) заставило их следовать по пути общепринятого; он, впрочем, никогда не объявлял о своих «сексуальных убеждениях» – и без того известны мужские склонности, зачем говорить о них? Однако за тридцать лет проросли друг в друга, стянутые семейным обручем, усмирённые души, и образовалось нечто новое, чему нет названия, хотя заведомо ясно, что удел сей достаётся многим. В последнее время он часто думал об этой подкравшейся исподволь зависимости (если не думал о делах государственных), пытаясь представить себя лишённым поддержки, в этой зависимости странным образом заключённой. Он знал: Никта переписывается с дочерью; в этом как бы тлела надежда на понимание или, по меньшей мере, на то что политика и семья останутся разными континентами, разделёнными – водной, горной – преградой, преодолевать которую ни у кого не достанет ни сил, ни охоты. Надежда питалась пожеланиями здоровья, непременно содержавшимися в каждом послании и адресованными лично ему, «папе», иногда – кто бы мог поверить! – даже упакованными в мягкое кружево бесплотных поцелуев. Но никогда «ты», ни одного прямого обращения, ни одного письма с перечнем политических обвинений и угрозами, наполняющими её выступления в прессе, по радио, на телевидении. В этом «политическом раздвоении» он угадывал тайный замысел: если в двух зеркалах перед собой ты будешь видеть изо дня в день совершенно разных людей, то поневоле начнёшь сомневаться – кто из них настоящий? Ни для кого не секрет, что политика – предприятие оборотней. Она как будто специально придумана для актёров, обожающих роли доктора Джекиля и мистера Хайда. Только гибнут на этой сцене всерьёз. Но ведь он не такой, он вообще не актёр. Не политик? Возможно, так. Возможно, это и хочет показать ему дочь, поставляя перед ним два исключающих друг друга изображения, одно из которых – его Я, каким оно видится из «башни Самости», а второе – набивший оскомину персонаж дешёвых триллеров, этакий Терминатор, починяющий на столе свой собственный кибернетический глаз. Ничего не скажешь, по законам оптики изображение получается на редкость объёмное.
Никта присела на край дивана, поставив на колени маленький саквояж, по форме напоминающий кофр. Его всегда восхищала её готовность. Во всём, даже в услугах тела, исповедующего преданность влюблённой страстно душе, но честно отрабатывающего условия брачного контракта. Беспрекословно повинующегося предписаниям чужой эротической фантазии, отнюдь не только, он догадывался, его собственной. Сегодня он, кстати, покончит и с этим.
– Как ты поступишь с ними?
Спросила всё-таки, не удержалась. Дело обычное – сдают нервы. Её всегдашняя обаятельная невозмутимость на этот раз бесславно отступила.
А что, правда, он с ними сделает? Арест, заключение под стражу – это лишь первый шаг, рубеж, после которого должны последовать другие действия. Какие? Ведь это и рубеж в наступлении его собственной власти. Рубикон, который он перейдёт сегодня или погибнет. История оправдала Цезаря, оправдает и его. Даже если река вниз по течению окрасится бурым от пролитой крови. (Как часто, подумал он, поэтические метафоры приносят на своих нежных крылышках вещи серьёзные! Кажется, Малларме сказал: мы пишем не идеями, а словами.) Нежданная мысль о крови заставила его вздрогнуть.
– Так же, как они поступили бы с нами, отними власть.
Побледнела. Потому что знает: политика – дело кровавое. Почти такое же, как стихоплётство. С той только разницей, что пишешь собственной кровью, а в «политических триллерах» готовишь похлёбку из вырванных языков. Видит бог, они сами толкнули его на это. Возврата нет. За спиной сомкнулась безгласная толпа, влекущая к горловине лязгающего, вбирающего тела гигантского эскалатора. Похоже на ощущение, которое охватывало его раньше при входе в подземку в часы пик: не страха, но обречённости. Вниз! Вниз! До сих пор в ушах его звучали возгласы бегущих в подвал по лестнице их старого дома на Славутинской. Вой сирены, истеричное тявканье зениток, раскаты близких фугасов. Он хорошо знал, что такое война. Если он сохранит им жизнь, эти тринадцать «апостолов» развяжут гражданскую войну.
– Ты этого не сделаешь!
Он прислушался к интонации, пользуясь коротким эхом, прокатившимся через замкнутое пространство. Пожалуй что конец фразы похож на восклицание., Почему она так думает? Не верит в его способность к решительным действиям? Или, напротив, слишком верит в гуманность? Но разве не очевидно, что политик совершает свои поступки в пространстве смерти? Впрочем, как и поэт. Искусство и политика – вот два пути, которые открываются перед нами, когда мы отправляемся на поиски смерти – чтобы укрыться от неё. Ведь прятаться от смерти, говорит Бланшо, то же самое что прятаться в ней.
– К сожалению!