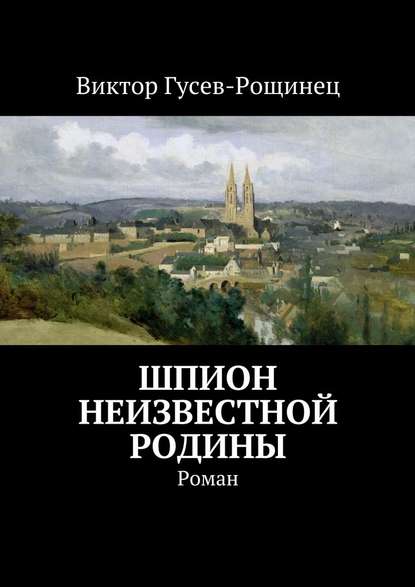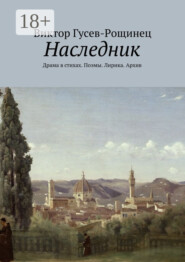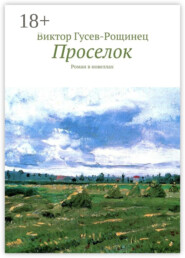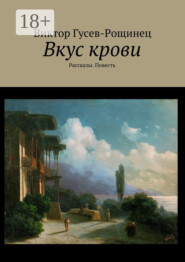По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шпион неизвестной родины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Смысл наших действий нам не дано понять до того как мы совершим их. Недаром сказано – кто это, глядящая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как полки со знамёнами?
2. Наука
Мы зарегистрировались в МОМА («Московское объединение музыкальных ансамблей») и стали иногда поигрывать на студенческих вечерах. Москва веселилась напропалую. В преддверии сенсационных разоблачений и последующей «оттепели» никто из нас даже не мог предположить, как далеко заведёт тропинка, протянувшаяся к свободе. Мы просто играли, наслаждаясь мелодиями, их по-своему аранжируя, мы соревновались с Гленом Миллером (с его однофамильцем Генри я пытался соревноваться позже – на мой взгляд, безуспешно), нашим близким другом и покровителем был незабвенный Лаци Олах. Он играл в «Коктейль-Холле» на улице Горького, потом на «Шестиграннике» в парке того же имени – знаменитой в конце пятидесятых танцевальной веранде. К Лаци я и обратился с просьбой послушать гениального горбуна-барабанщика из глубинки. Тот недоверчиво на меня взглянул – «Откуда?» Я сказал. «Пусть приезжает». Толстяк Лаци был необыкновенно добр по отношению к молодым фанатикам джаза, ему доставляло удовольствие возиться с нами, посвящать в таинства политональных гармоний, наставлять. Мы ничего не знали о нём, да и не хотели знать, нашей общей страстью была одна только музыка. Это был своего рода музыкальный клуб. Мы приходили в «Коктейль-холл», брали по стаканчику «шерри-бренди» и, сидя за столиком, с упоением вслушивались в импровизации солистов. Молоденький Давид Голощекин потрясал скрипичной техникой, Жора Гаранян извлекал из своего сакса поистине божественные звуки, от которых сжимало сердце и слёзы наворачивались на глаза. Лаци говорил: «У меня открытая система, приходите, играйте». Каким образом он угадал словосочетание, позже ставшее на слуху у всех, кто задумывался о судьбах страны и её несчастного, многострадального народа?
Оркестрик ютился на антресолях, там не только не мог поместиться рояль, но даже некуда было втиснуть пианино. Поэтому я ни разу не играл в «Коке», зато позже, летом, когда Лаци перебрался в дансинг, я взял реванш. Штатный пианист ушёл в отпуск, и я играл ежедневно две недели подряд. Играть в большом профессиональном оркестре – ничем не заменимая школа. Прежде всего потому, что каким-то непостижимым образом мобилизуются скрытые до поры возможности и на волне подъёма делаешь внезапные истинно творческие открытия. Когда сотни глаз устремлены в твою сторону, и сотни ушей впивают создаваемые тобой конструкции, на грани риска, иногда звучащие как откровенный диссонанс, и тебе дают полную свободу импровизации, – тут есть от чего воспламениться настоящему вдохновению. Потом выслушиваешь мнения мастеров, и в следующий раз «делаешь невозможное». «Ты делаешь невозможное, старик,» – говорит Лаци, обнимая за плечи. Такая похвала много стоит.
Когда мне удавалось договориться где-нибудь о выступлении, я вызывал их телеграммой. С бору по сосенке мы собрали не бог весть какую ударную установку, и Ваня всякий раз привозил и увозил её запакованной в собственноручно сшитые брезентовые чехлы, вероятно бывшие некогда пионерской палаткой. Как он там у себя репетировал, я не знаю, но мастерства прибавлялось. Представ перед мэтром в один из таких наездов, будущая звезда оказалась, однако, поверженной в такое глубокое смущение, что даже палочки то и дело выпадали из дрожащих рук, не говоря о виденных уже мною «жонглёрских штучках», имеющих целью свидетельствовать высокий профессионализм. Показывать их Ваня даже и не пытался. Тем не менее, справившись с собой, он продемонстрировал, на мой взгляд, хороший уровень подготовки. Лаци снял свои круглые очки с толстыми выпуклыми линзами, подышал на них, протёр белоснежным добытым из кармашка блузы носовым платком, и сказал: «Неплохо». И добавил: «Для начала». Договорились о том, что при первой возможности «открытая система» Лаци Олаха примет в себя молодого таланта и начнёт «обкатывать». К тому времени обкатку уже прошёл Евгений – он становился настоящим инструменталистом: консерваторскую флейту и любимый кларнет теперь дополнил саксофон, который Лаци дал напрокат из своего арсенала. Женя (со слов его матери) репетировал с утра до ночи, «в ущерб основной учёбе». Он запирался на ключ в своей комнате и не подходил к телефону. Я догадывался об истоках такой работоспособности. Наша дружба, споткнувшаяся о женщину, эволюционировала к чисто деловым отношениям: мы были нужны друг другу как партнёры по бизнесу, чем, в сущности, и была для нас тапёрская деятельность: за каждое выступление мы получали наличными, не считая отчислений, которые шли в кассу МОМА по своим каналам. Это была прибавка к нашим грошовым стипендиям. И всё же не деньги тут диктовали – брала своё ревность, разбавленная тщеславием, исполненная решимости одержать верх.
А что Белоснежка? Она приезжала на день-два, ночевала у подруг по институту, звонила, мы встречались. Иногда они приезжали вместе; надо было видеть эту прелестную пару – горбун в овчинном тулупе и валенках с галошами, и она – фея, снежная королева из страны великого сказочника. Она сказала, что хочет восстановиться в институте и что «ей обещали», но подробнее говорить отказывалась, – «как бы не сглазить». На Лубянке ей сообщили, что «дело» матери пересматривается, и, возможно, ту скоро освободят.
Выступать с нами Белоснежка не стала, сославшись на занятость, потом на простуду, потом на что-то ещё – всегда находилась причина, и вскоре мы поняли, что наше трио лишилось «голоса». Говорю – «мы», хотя надо было бы сказать о себе одном; но я осознал это позже и не хочу забегать вперёд. Роман с Белоснежкой вызревал по законам драмы – в исходе пятьдесят пятого мы были на кривой подъёма, неуклонно приближаясь к кульминации-катастрофе.
Я был уже на последнем курсе, весной пятьдесят шестого предстояло распределение.
Мы ещё не говорили о браке, но родителям я дал понять, что женюсь на второй день после того как получу направление. Почему бы и нет? Я наверняка знал, что останусь в Москве. Да и где бы ещё нашлась работа для «акустика»? Надо долго рассказывать про сию экзотическую специальность, чтоб собеседник наконец понял, с чем её едят, эту самую акустику. Советские вузы отличались тем, что плодили так называемых узких специалистов, с которыми потом не знали что делать. Только прожорливые «почтовые ящики» заглатывали всех и вся – пока не подавились. Вскоре меня вызвали в «Первый отдел» и сказали, что пришёл запрос из Акустического института Академии Наук СССР. И если я дам принципиальное согласие, то «комиссия будет рассматривать мою кандидатуру». «Принципиальное согласие» немедленно было выдано, колёса закрутились, затягивая моё бренное тело и неокрепшую душу в лязгающий, пропахший порохом советский военный механизм. Удивительно, не правда ли? «Академическая наука»… и т. д. – и вдруг – порох? Увы. И ведь вот что странно – мы все, «молодые специалисты», почитали за счастье распределиться в «почтовый ящик», в «оборонку» (более позднее словечко), это казалось таким романтичным! К тому же хорошо оплачивалось. И если для того чтобы направить на работу тебя звали в Первый отдел – можно было не сомневаться: речь шла именно о том, о чём мечталось. Как тут не вспомнить советских классиков с их знаменитым «сбылась мечта идиота»!
Нетерпеливый читатель, тем более воспитанный на любовных романах, вероятно, уже готов отложить в сторону текст, якобы проходящий по тому же ведомству, а на деле никак не могущий оторваться от созерцания обстановки, где перемещаются герои (скорей – «действующие лица»), похоже, не очень-то и влюблённые, а больше пекущиеся о достижении – каждый – своих собственных тайных целей.
Не торопитесь. Конечно, цели… Вопрос в том, насколько они ясны каждому из участников драмы (нет, лучше будет сказать – «персонажу»), включая автора, который, как наверно уже ясно читателю, предпринял эту попытку романизировать собственную биографию, чтобы понять – что же на самом деле произошло? Кажется, это называется «романом воспитания». Достигнуть цели – значит создать некую форму, чтобы испытать. Форму для опыта. (Это не я придумал – читайте классиков.) Если у вас нет соответствующей формы для того чтобы испытать нечто, вы никогда это не испытаете, или будете пробавляться получувствами, полумыслями, полудействиями, – некой желеобразной массой, где не во что упереться, чтобы двинуться и пройти свой путь.
Шарль Фурье, мечтатель, утопист, которым нас пичкали на лекциях по «марксисткой философии», приглашал в «новый прекрасный мир»; в октябре 1917 года мы создали для того форму и в последующие десятилетия сполна изведали, испытали, как говорят, на собственной шкуре все его «прелести».
Но мало кому известно, что Фурье намерен был обновить и наш духовный мир, изменить его климат – в главном: создать новую форму отношений между полами. Взирая на клетку моногамного брака, он писал: «Можно подумать, что форма отношений между полами в моногамном браке придумана неким третьим полом, чтобы как можно больше досадить первым двум». Восхитительная сентенция! Право, стоит заняться французским, чтобы прочесть «Новый любовный мир». Расшатывать прутья клетки лучше с открытыми глазами. Однако чаще случается – глаза застилает пелена, окаменевшие «формы» – как застывший бетон, не пошевельнёшь пальцем без того чтобы нажить синяков в прямом и переносном смысле. Такими мы ступаем на путь – если ступаем на него.
События грянули одно за другим: я получил направление в АКИН, сделал предложение Белоснежке, а за несколько дней до того мы прочли «тайный» доклад Хрущёва о «культе личности».
Мы иногда не подозреваем, как свяжутся события нашей жизни с событиями истории. Когда история в облике «Отечественной Войны» или «социалистической революции» разбрасывает нас ошмётками взрыва, это можно отнести к явлениям «прямодействия» и не ломать головы о возможных последствиях – они ясны и ясны способы их устранения, состоящие в том, чтобы «собрать» – страну, семью, жизнь, одним словом всё, чему удалось уцелеть и сохраниться. Важно другое – «отдалённые последствия» (медицинская терминология тут весьма кстати). Недаром сказано – повседневность это проявление истории до седьмого колена. Если так (а это именно так), то наш путь, который мы проходим в поисках формы, пролегает в истории. Он исторически обусловлен – и в этом нет ни малейшего преувеличения.
Наша любовь «пролегала в истории». Она неминуемо должна была устремиться в известное русло.
Едва ли не всегда мы делаем предложение («руки и сердца»), боясь потерять женщину, которая кажется нам «идеальной во всех отношениях». «Законный брак» закрепляет владение телом и душой (которая тоже есть некое «тело», хотя это обстоятельство часто упускают из внимания) – и придаёт уверенности в том, что каждый из участников договора обладает монопольным правом распоряжаться принадлежащей ему собственностью. Другими словами, брак – это не что иное как замаскированная форма рабства – и вряд ли я сказал тут что-либо новое. Мы убиваем тех кого любим, и причиной тому – наше стремление безраздельно обладать.
Я перебирал мысленно формы, которые могли бы вместить в себя столь важное действо как предложение о браке. Где? Какими словами? Что делать потом, когда все точки над i будут расставлены? Было над чем поломать голову. В конце концов я остановился на варианте что ни на есть простом: мы идём в кафе (ресторан), я надеваю парадный костюм («к обеднешный» – говорил отец), мы заказываем скромный ужин, бутылку шампанского, и перед тем как приступить к трапезе, я говорю ей: «Знаешь, любовь моя, пока ещё нам не принесли… Выход-ка за меня замуж.»
Вот вроде как между прочим я и сделаю предложение. Я мог позволить себе ресторанный ужин. Во времена директивных цен эти «предприятия общественного питания» ломились от посетителей, по вечерам у дверей их выстраивались очереди, и если не заказал заранее столик, то час-два рисковал простоять под дождём или на морозе. Самым ценным знакомством был швейцар, который, увидев через стекло знакомую просительную улыбку, отмыкал засов и протягивал руку в приоткрытый дверной проём, чтобы взять тебя за лацкан и осторожно втянуть внутрь на глазах у потрясённой очереди. И ты сначала проскальзывал один, а девушка (друг) ещё оставались там, на улице, и вы отходили к вешалке, подальше от глаз, ты вкладывал в подставленную ладонь одну, две, три ассигнации, в зависимости от их достоинства и общего положения дел на рынке услуг, швейцар вновь направлялся к двери и вновь отмыкал её и в образовавшуюся щель спрашивал у толпы: «Кто с Володей?» И тот кто был «с Володей» протискивались внутрь и расплывались в блаженной истоме от сознания собственной избранности, тепла и предвкушения гастрономических наслаждений.
Теперь же я предпочёл не рисковать. Я заказал два места в «Астории» и позвонил Белоснежке. На этот раз она остановилась у замужней подруги, обременённой двумя детьми и престарелыми родителями, и хотя квартира, я знал, большая, являться туда, возмущать спокойствие большого семейства я не чувствовал себя вправе. В других случаях в нашем распоряжении был свой ключ, мы приходили по возможности так, чтобы никого не было дома, и, оказавшись наедине, устремлялись, говоря языком старой доброй литературы, в объятия Эроса. Не хочу много распространяться на эту тему, всякий может подставить сюда свой личный опыт, тем более что состязаться в описаниях такого рода с классиками современности мне просто-напросто не под силу. Только одно следует заметить: моя возлюбленная оказалась много опытнее меня. До поры я решил не задавать вопросов, отнеся данное обстоятельство на счёт женского – материнского – инстинкта, ведущего в любовном мире своими путями. Я не был невинным мальчиком, но обрушенная на меня эротическая фантазия, жаждущая претворения здесь и сейчас, – она была чем-то ошеломляюще новым по сравнению с моим предшествующим опытом, ограниченным несколькими случайными встречами, как правило, оставлявшими привкус чего-то незавершённого и глухую тоску. Не будет преувеличением сказать, что моя романтическая влюблённость, зародившаяся «в лесах» (отцовское – шутливое), после нашей первой интимной встречи обратилась подлинной страстью, когда плоть говорит существенно больше разума, а иногда по-настоящему вопит, доходя до истерики. Вполне понятно, что здесь видится только один выход – завладеть источником и причиной страсти. Всё очень просто. Восхитительная ошибка!
И вот мы в «Астории». Ковры и пальмы на месте. Знакомые швейцары. Доверительно склонившись, метрдотель говорит: сегодня не будет музыки. Тем лучше. Нам не до танцев. После ужина мы поедем знакомиться с моими родителями, а потом ещё надо будет проводить невесту до дома – в том случае, если она не сочтёт возможным остаться на ночь – и вообще остаться у меня. Что до формальностей, то они не замедлят быть. И разве так важно – пройти в анналах гражданского состояния? (К вопросу о родителях.) У меня отдельная комната, правда что, не запирается изнутри, но это сущие пустяки по сравнению с тем как мы рисковали быть застигнутыми хозяевами на чужой территории.
Мы сделали заказ. Не припомню, что это было. Шампанское. Салат. Мясо. Официант ещё какое-то время постоял в суровом ожидании, и я добавил кофе с мороженым. Пора было приступать к делу.
Белоснежка с интересом разглядывала интерьер, она впервые оказалась в большом, «настоящем» ресторане. Но и тут была «как в своей компании». К тому времени я успел выяснить, что свои наряды она шьёт сама – это позволяло ей всегда немного опережать моду и таким образом быть настоящей модницей. Сегодня, застигнутая врасплох моим замыслом, она не выглядела нарядной и вообще казалась одетой с чужого плеча. Какое-то бесформенное синее платье, больше похожее на халат, туфли на «микропоре». Я был слегка разочарован и мысленно укорил себя за то что «сочинил экспромт». Но даже в этом простеньком одеянии («для Лубянки» – я неудачно пошутил) Белоснежка оставалась Белоснежкой. Не преувеличу – на нас были устремлены взоры всех мужчин, и даже те что пожаловали с дамами вроде как бы сидели одновременно и за нашим столом – в таком напряжённом перекрестии взглядов мы оказались. Я понял, что место, выбранное мной для столь ответственного акта, могло бы быть и получше, и чтобы совсем не утерять задор, кинулся в пропасть на лёгких крылышках домашней заготовки:
– Вот что, любовь моя, пока ещё нам не принесли… Выходи-ка за меня замуж.
Надо было видеть её реакцию! Мы сидели рядом, бок-о-бок, за длинным восьмиместным столом, у зашторенного окна. Прежде чем вымолвить нелепое предложение, я отгородился спиной, насколько было возможно, от соседей слева; два места напротив были ещё не заняты, никто кроме нас самих не мог быть свидетелем моего провала.
А это был именно провал. Белоснежка рассмеялась так громко, что все присутствующие в зале, уверен, с возросшим любопытством обратились к нам; я поторопился прикрыть ладошкой обворожительный смеющийся ротик. Совсем некстати, как часто случается, подумал: её наряд, показавшийся мне простецким, не иначе, «последний писк» чудаковатой моды. Когда я наконец отнял руку, она уже не смеялась. Мне показалось, она готова заплакать. Смех и плач – из одного ряда, они так плавно могут перетекать друг в друга, что впору сделать их образцом толерантности. Я не ошибся. Губы её смешно скривились, по щекам поползли слёзы, крупные как дождевые капли в майский ливень. Она даже не пыталась их вытирать. Мой носовой платок, пущенный в дело, немедленно пропитался влагой; одновременно вытирая им от волнения вспотевший лоб, я улавливал знакомый аромат – её кожи, не тронутой, по всему, каким ни то косметическим снадобьем. Горьковатый аромат слёз.
Она при том ни разу не всхлипнула и быстро справилась с собой, приложив заметные усилия к тому чтобы выправить линию губ, восстановить классический рисунок, что обычно именуется «бантиком», но в действительности редок и несмотря на уничижительный эпитет неизменно приковывает взгляд. Платок я спрятал, чтобы никогда больше к нему не прикасаться; пусть осудят меня противники фетишизма. Но ведь уже во мгновение когда я раскрыл рот, чтобы сказать то что сказал, я понял: «новый любовный мир» создаётся ценой отказа.
Нет, «понял» – не то слово. Я ещё и не слышал тогда ни о каких таких мирах. Как же я мог «понять»? Мы способны понять что-то лишь в конце своего крестного пути – если вообще расположены к пониманию.
Я почувствовал странное облегчение. Привкус горечи, которым оно, без сомнения, было напитано, лишь придавал остроты, сродни тому страху, который охватывает при заглядывании в бездну. Пожалуй что, я просто-напросто падал в неё, отбросив теперь уже ненужные, сломавшиеся крылья, и, падая, ощущал приятное щекотание под ложечкой. Кто получал отказ после долгих мучительных размышлений о браке, тому знакома эта странная лёгкость.
И всё-таки я ждал объяснений. Всегда хочется получить официальный отказ, а не пробавляться умолчаниями. Белоснежка, однако, молчала, маскируя, подумал я, свою растерянность быстрыми, точно рассчитанными движениями, что вырабатывает у женщин привычка подкрашиваться и припудриваться всякий раз когда обстоятельства складываются не в их пользу. Этакая уловка – удержать паузу.
Потом она сказала:
– Ты меня обижаешь.
Я спросил:
– Чем же?
Мог бы и не спрашивать, но диалог, завязавшись, идёт по своим законам. Это начинаешь понимать, занимаясь, к примеру, писанием пьес. Драматург непременно знает, какими должны быть реплики – на характер, на действие, «мерцающие», возможно ещё какие-то, не помню, – сочиняя, прикладываешь мерки к каждому слову, а на поверку выходит обыкновенная болтовня. Драматург – несчастнейший из писателей, ему не дано права заглянуть в душу. «Чувства – это система поведения» – вот лозунг драматурга, канон, в сущности, низводящий драматургию до литературы второго сорта. Головокружительная психологическая топология предстаёт в ней акробатическим цирком.
Наш диалог в «Астории» был достоин того чтобы стать завязкой какой-нибудь советской пьесы разоблачительного свойства с диссидентствующими героями. Я воспроизведу его дословно. Классифицировать реплики предлагаю читателю.
Итак, на первый «укол» я ответил недоумением: чем я её обидел?
Когда она сочла наконец, что «в форме», последовал ещё вопрос:
– Ты не понимаешь?
– Нет.
Я искренне не понимал. Моё любопытство разгоралось с каждой секундой.
– Тогда слушай.
Она понизила голос почти до шёпота.
– Я хочу бежать из этой страны. Мне же не надо объяснять тебе, что такое цель жизни. Ты человек целеустремлённый.
Она уже знала о моей мечте – писать и прочее. В постели часто разбалтываешь сокровенное. Она продолжала:
– Помнишь тот наш разговор зимой, после лыж, когда мы сидели в моей клетке и млели от тепла и уюта. Я спросила – готов ли ты мне помочь? Ты сказал: да.
На этом нас перебили, официант принёс вино и закуску. Салфеткой протёр бокалы, откупорил бутылку, налил шампанское. Мы чокнулись: «За успех». Выпили. Понимая – каждый за своё.
Я спросил:
– Что я могу сделать?
Я искренне хотел помочь ей, но теперь уже отчётливо понимая, что пути наши неминуемо разойдутся. К тому, будоражил страх, – я ступил на минное поле и хорошо это сознавал. Одновременно ощутив голод, мы набросились на еду. Кажется, было что-то изысканное, но вкуса я не почувствовал. На секунду накрывшая меня тень голодного обморока отступила вместе с нервной дрожью, и на их место пришла законная владелица разорённой души – апатия. Я приготовился выслушать любую, заведомо невыполнимую просьбу и немедленно приступить к её выполнению, заранее отказавшись от награды. Пришло время платить по счетам – вот и всё. Женщина дорого стоила везде и всегда. Вместе с апатией я преисполнился цинизма. Когда нам принесли горячее, я заказал бутылку водки. Притупившаяся от сытости боль вскоре должна была снова заявить о себе.