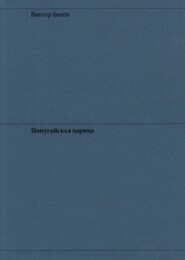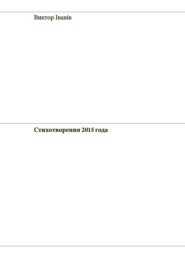По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конец Покемаря
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Есть такие блюстители, блюдущие чистоту речи, которая выводит их нежные души за узкие плечи. Сколько было уже таких – и те, которые пели «ты теперь у меня котенок», и те, что подучивали роли манатеров-стукачей, и те, что в белизну молодости уходили гнилыми носами. Предпоследний раз я застал их в поезде.
Я отлучался в одного в тамбур выпить коньяк, который спрятал от моих друзей – Носатенькой и Сокола – они барабанили мне в стекло купированного вагона, смеялись и гоготали. Стоило ли говорить, что всем соседям по купе сразу же стало понятно, что я в таком вагоне еду впервые. Соседями были два инструктора, они везли детей в финскую школу-баню. Из их рассказа я узнал, что детей больше всего интересует детская педофилия, а родителей – их собственные перверсии. Все это было у меня перед глазами – особенно в шесть утра тяжело было перехватить харчок, когда один из вожатых, не тот, который подкачанный молоденький физрук, а другой, с вампирским блеском в глазах и хабалением, сказал: «Дети, вставайте, а не то я написяю вам в чайник».
Когда я рассказал эту историю о золотом слове Речному Горынычу – он красиво это все изобразил. Мускулы Шварца под фиолетовой майкой тоже расплылись в улыбке. Глаза приобрели на миг белый блеск глупости, а вскоре мы заразились блюющим хохотом:
«Я был на семинаре: чему мы можем вас научить. Первым выходит мужик и говорит: ну в 90-е я торговал, умею торговать и наябывать. Второй выходит баба и говорит: ну в нулевые я занималась фундрайзингом, умею просить деньги и мужиков разводить.
Третьим появляется парень – вытягивает шею из воротника, губки плющит и моргаликами глупыми посверкивает: «Прии-вет! А я Герман Подштанов. Я пиздобол. Сегодня я скажу вам то-то и то-то, а вот этого я вам не скажу, потому что приходите ко мне на мастер-класс. И мы вас научим, как говорить золотые слова, и вы поймете, почему я оправдываю свою фамилию».
8
Вы сами знаете, что просто пожать друг другу руку, а эти сны, все те же сны каждую ночь – венгерские медленные поезда, медленные лифты, разъезды в Кисловодск, вечное покаяние, вечный грех, морщины старухи на молодом лице. Вы знаете, Иван, эти сны снятся уже и мне, рядовому с ограниченной годностью. Но вы также знаете, что такое честь русского офицера. Тут два выхода: вечная мука одному, пистолет в руку другому, и потом вечная мука убийце. Это тот случай, когда нельзя не убить, не забыть, не простить.
9. Самый страшный рассказ о том свете
Это история стародавних и незлопамятных времен, хотя ей не прошло еще и полгода. Началась она со звонков горячего телефона. Нежный бай, приехавший откуда-то из Ирана или с его границы с Арменией, как раз в то время года, когда в колодцах по горло стояла кровь, а мертвые головы лежали кружком на колоде. Пока он добирался до нашей деревни, много воды утекло и много крови застоялось. Однако его перемещение показалось ему сиюминутным делом. Семья обосновалась в городе, все быстро устроилось. Были: несколько разных республиканских школ, усеянные хлопком дороги к ним, забеленные стены дипломатических миссий, тысяча спектаклей тысячи театров. Мать и отец играли на главных сценах Союза. Бесплатные шмайссеры, формы костюмированных баталий со всего света дополняли нежный изнеженный характер склонностью к головокружению. Еще была боязнь забияк. Юность прошла в страшной дилемме: как принизить себя перед своими учителями и добиться смирения. Одного из учителей он сопровождал во всех бешеных перемещениях с новой женой. На его плечи пало и утешение брошенной учителем первой жены. Еще были боязнь или даже страх получить что-то кроме высшей оценки, сродни трусости загнанного кабана. Таков был его характер.
Но вот он обосновался в нашей закрытой деревне, где было восемь сильных мужчин и восемь сильных и красивых женщин. Закрытость деревни объяснялась ее статусом объекта мировой и сверхмировой безопасности. Все это, откровенно говоря, шло вразрез с его нежными нотками мягкой и свободной любви. Единственное, что он принес в эту деревню, – горячий телефон сарафанного радио. Кроме того, он подарил первую дочь своей сожительнице по гражданскому браку. Дочери выпало быть нелюбимым дитя, если играть в дочки-матери. Лучшая подруга матери этого ребенка помогала ему, пока все не закоротило, но об этом чуть ниже. Он не смог сломать эту сектантскую семью: его страха и его любви не хватило на то. Безо всякого злого умысла хрусталь ревности, которую он поселил здесь, разбился о ящик гордыни. Сам ящик был разбит хрусталем, и от этого открылись небо и земли, до дна обнажились могилы и шахты. Введенный принцип свободной любви в закрытой деревне, а если честно сказать, в самой ее цитадели, где императрица проектировала звездное небо и проецировала лучи света на землю, мало способствовал созданию отношений в духе декамерона. Небесный свод рухнул и рассек осколками все вены и сухожилия здешних, снял все скальпы и рассек все мышцы. Но одна могилка так и оставалась открытой. Теперь ее засыпает прошлогодней листвой, и она не пуста.
Горячий телефон, на другой стороне которого дежурил я, позволил мне вызнать все секреты закрытой цитадели, но пазл собрался только сейчас, когда был уже не нужен никому, потому что никого не осталось.
Я решил вскрыть эту секту, постепенно все больше втягиваясь в череду мытарств, которые мне пересказывались этим доносчиком в образе прекрасных картин. Он привел меня к девушке, которую я заставил себя полюбить силой. Это была лучшая подруга императрицы.
Кроме того дома, где располагалась цитадель, в деревне были базар, церковь и бордель. Плюс некоторые здания ничего не ведавших хуторян – буквально пара домов.
В центре цитадели жила девочка с солнечными кудрями, пронзительная по своей доброте чадолюбивая мать, у которой не было своих детей. Зато она отвергла всех своих поклонников, каждый из которых в любую минуту мог петушино и птушно вступиться за нее, но все они вынуждены были терпеть друг друга.
Когда я бросил свою первую сожительницу, мои, а также и все остальные взоры обратились на Девушку-Солнышко. Это не понравилось ее брату, о котором собственно я и веду этот рассказ. Его оболгали, считая наркоманом, – никто не знал, что он участвовал в секретных операциях, охраняя банки. Никто не знал, что он истязал себя ради своей сестры, видя ее мытарства и мучения, которые достигли такой степени жестокости, которая была не сравнима ни с одной из самых прозомбированных сект мира. Брат пытался ее защитить во время ее офелийных ночевок в сугробах в осеннем лесу. Этот брат отдал бы за нее все.
Он был рожден со мной в один день. Она отказала мне, и это был ее выбор. Когда же «иранский колхозник», разный для всех, притворный со всеми в общении и обхождении, но с каждого бравший слово «не передавать другому», полностью накрыл себе поляну для вечного секса, в лесу у деревни уже были найдены несколько мертворожденных детей. Об этом никто не узнал из-за строгой секретности этой деревни. Вернее, в цитадели думали, что базар, и церковь, и бордель не знают об этом. Тот человек из Ирана, которого я взял как языка, оказался плохим информатором.
Вот пример тому. Когда всему предприятию этой секретной лаборатории угрожала смертельная опасность – бандиты, гнавшиеся за белогорячечным милиционером, грозили перерезать всю деревню, я получил донос о том, что человек этот был выброшен на улицу замерзать и нарочно обречен на лютую смерть. Я вынужден был приехать в эту деревню – дорога заняла у меня целый год – так медленно текло тогда мое время. Я приехал и первым делом убил отца императрицы, который организовал похороны белогорячечному. Свою же гражданскую жену я отдал толпе. Однако дело этим не закончилось. Несмотря на мое решение любой ценой сохранить личный состав этой капсулы, бункера, стакана, или, если хотите, паучьей банки, я не сумел выполнить эту задачу.
Случай помешал мне. Я снова приехал в деревню по своим делам и остановился на окраине леса у самой высокой сосны. Я увидел стоящих и разговаривающих с Девочкой-Солнцем двух мужчин, в одном из которых я узнал иранского колхозника, а во втором – ее брата. Душевное помрачение овладело мной, черное облако разлилось перед глазами. Я дал выстрел. Пуля прошла ему между глаз. Я подошел ближе и увидел немую сцену: иранец целовал взасос губы Солнца. Они вообще не заметили ни бесшумного выстрела, ни трупа, и медленным шагом направились по освещенной лунной дорожке.
Я похоронил тело в лесу в той единственно вырытой волшебной могиле. Следов его не нашли. Поиски начались с недельным опозданием. Они никогда не увидят его в лицо. Свободная любовь на смертельно опасном и сверхсекретном объекте рассеялась после удара молнии, поразившей сенсор головной башни. Базар, церковь и бордель исчезли. Осталось лишь кладбище, по которому носятся видения, тревоги, муки прежних дней. Но бывают и вспышки солнечного света, потому что задание, данное императрице, было выполнено – глаз солнца был настроен точно. Весной кладбище начнет плодоносить. Я убил не того человека. Лицо Девочки-Солнца превратилось в мертвую маску. Ее лицо высосало насквозь второе, черное солнце в вершине короны всех координат. Ее здесь нет, здесь нет никого, только тени и шкурки ящериц на оконном стекле. Во мне нет ни капли жалости, ни капли сожаления, ни капли сёст(р)ыдания, и нет никакого желания уничтожить дезинформатора. Он не обрезан, хотя это требуется сделать в двух местах – вырвать и язык, и причиндалы. Довольно о нем. Его дело полоть огород.
Жирный шифр, в инее шарф
I. Курево
ПОКА НЕ КУРИЛ
Выпал из сна, и никто не поймал. На ногах нашел себя у окна, а верней, не себя, еще до того, как в память пришел, увидел влетевшего в комнату голубя, жирного, мясного, теплого, – расселся, развалился на подоконнике. Взял в руки, забился в руках, страшный, живой – не такой, как со свернутой колесом головой и растерзанными кишками, не такой, как спрессованный в папье-маше шиной. Выбросил в окно как чуму, тварь, заразу, дурное предчувствие. Хотя рассказали потом, успокоили навсегда, что не голубь, ласточка должна прилететь, постучаться в окошко, из глиняного домика своего. Но пропали ласточки у нас, да и не было их никогда.
Приложился головой к валику и отвернулся к стенке. Руки протянул вперед, роняя и догоняя чайную чашку останавливающим движением, опираясь перстами за воздух. Вытянув шею из пиджачного ворота, вывернулся из объятий, отвернувшись от укоризн, отошел от бодряка дорогого – не спал до этого сутки. Больше суток не позволял себе теперь, потому что за хрустальными сутками, копотью на пальцах, хлороформом начинался вдруг флюгер-ветряк, по которому раз повело-умотало. Заваливался, заливался на бок и не долетал до следующей остановки. А передвигался прыжками. А если и долетал, то лишь далекий голос больниц. В самые большие глаза глядели провал за провалом, пропасть за пропастью, и всякий раз бултыхался на дне, на дынном мелованном донце. Положил себе сутки, да как бы не наложил руки.
И барахтался, забоялся в простенке, и только на миг выключился, отключился, потеряв ум, точно ударившись головой об стол – как друг тогда бил, не в силах больше бороться, а он бил друга. Наткнулся на твердую не то мысль, не то пилюлю, и очнулся, растопырив руки, растворив окна, – у той же стенки, на подъездном козырьке.
А полез туда за папиросами погарскими, копоть которых невозможно было вдыхать, которые мгновенно гасли. Выбросил в щель наклонного подъездного окошка на крышу того козырька. Взялся было за дело – не курить смело. Три часа претерпел, пропотел вчера, а потом побежал по лестнице вниз стремглав, и выбежал на весенний ледок, поскальзываясь вперед и назад, закачался, но потянул вверх руку – лежат ли погарские, початые, полосатые? А вдруг бы, дрогнув, схватил пустоту?
Хотя как же, нет, начал припоминать, тогда не курил еще, но уже носил разрисованный гуашами пионербол-барабан, и ходил по весенним мартовским улицам, когда ветерок лихорадочный отдувал ворот, горело лицо, и ездил ждать-встречать на дальнюю станцию метро – четыре часа ждал-торчал, но не дождался, пробежала мимо, проглядел видно, ждал-провожал. Тревожно вслушивался в трамвайный шум за окном, в автомобильную фальшь, и расчерчивали лучами верх серого потолка фары. И не мечтал тогда, только мучился.
Еще слабая тусклая лампа горела, и красным стоял от пыли шкаф, а на нем пригорали надписи книг. И лежа разбирал надписи, и слова повторял. Сами с собой, выходя из печатной обводки, из рваной брошюрки, повторялись слова: святая рептилия, божий одуванчик, штатив, штатив, заклад. Закладушник что лютик тщедушный. И учителка-химинька перед глазами, и штативом, штативом по накалённой башке. Повторял: «нет, нет, слава, слава аллилуйя», а затем набегало на уста по себе само богохульство, и вновь – «святая рептилия, Христос – святая рептилия», и махал штативом, и штатив уже сам махался в воздухе, и слова сдавливали горло, раздавали карты до бесконечности, до полного изнеможения, измождения, измудоханья, а потом наступало утро.
И наползал на глаза оторванный козырек фуражки военстроя, а брови выкрашивал в зелено, а вельветовые брюки разрезал до коленных вен, и шел на мост, где стыл ветер. Но не встретил ни разу солдат, и вообще никого не встретил. А глядели все исподлобья, чувствовал на себе взгляд чужой, подтверждал: учись, пока я живой. Чувствовал и когда прыгал за ней через турникетную яйцерезку, а потом уезжал в Искитим, где каньон, и потом возвращался из Искитима.
Раззнакомился раз со Столовниковым, вернее хотел раззнакомиться, в зеленой комнате молчаливого и странного этого медика, когда поздравлял с днем рождения, а рядом были Мордов, Обоина, Чая, Репа и будущий генерал Шандарон. Рассказывали, как выпивали все вместе, но без тебя, дружили еще с гражданской, еще с десяти годов. И судорожный с челкой Репа говорил резиньяции, тоже тайно вздыхал, и потом сказал: за такое признание, исповедь о себе – такую вот исповедь, что не приняла бы и Святая рептилия… Когда только загадывался, а был уже у всех на виду, долгую заповедную речь хотел вести, говорить только правду, сразу всю правду – о чем – о том, что хотел убить, и боролся, мешаясь умом, о том, что хотел истребить, о том, как мучился и умучил себя. Но не приняли ни в клуб Медичи молодой, ни в клуб рецептурный, куда отпускали – а? что? – циклодол, и ходили бледные, испытуя себя, бледным красовались еблом. Хрюня, да, Хрюня, Авдей, и еще Москаленко. А Репа прямо сказал – нужно бить морду – после публичного выступления – да и в чем признался-то – никто ничего ведь не понял – со сцены Дома актера, и потом за четыре года ни разу не поздоровался, так увлечен был придуманной ревностью, так оскорблен был ждунчик наш четырехчасовой, в высшей силе любви разлинован.
Что было до этого. Страшные рычащие морды из ящика, они заполняли тенью всю комнату, покачивались в голове и говорили невыносимые такие слова, а в это время как раз расстреливали, бомбили площадь и белое здание. Но воспринималось совершенно в порядке вещей. И в этих словах была лишь свастика веры. Опустели залы шахматного кружка, люди жестоко прощались и ждали погромов – в один день было изрисовано тогда еврейское кладбище. Не приняли, отпрянули, расторгли союз Земли и Воды.
Циклодол, я сказал, и ебло? А теперь циклодол мы крадем, без него жить не можем. Лечит тремор он и неусидчивость, механическое запаздывание, когда выступает из плеч запуганная до смерти в детстве болезнь. Да верней, чтоб было верней, маслом смазывают железные все суставчики, суставчи?ки, чтоб не летели, споря и препираясь, слова и картины и чтоб не выбежал на улицу за картинами и словами в погоню, хотя надо бы без оглядки бежать от этих слов и картин. Чтоб не разгонял свои мысли, чтоб не уносились они в вагоне чая, в чайном вагоне. И не забывался чтоб светлой полянкой, а за ней ручейком, а за ней Леной Жарких, про которую говорили «Жаркая» и просто – «жаркое», чтоб не было полыни во дворе и за школой, и развязавшегося языка и болтливости, которую мысленно кто-то произносил в голове ввечеру, а с утра уже сам словоохотливый язык, – запивать циклодол когда пивом – сладко – белесое счастье тогда наполняет, и сытным снотворным не потчевать чтоб себя, чтоб речь не рассказывала сказку, которая заканчивается, не начавшись, от этого есть – «розовые таблетки».
То теперь, а тогда – красный шкаф, штатив, святая рептилия. Взял, обматерил мать и решил себя сам наказать – запер дверь и на клочочках бумаги писать стал заветные завещаньица, все припоминал, что кому отдать из предметиков, а когда устал уж писать, стал смотреть за окошко, там два огонька, как три говорящих зеленых горошка, и цветочки, немая, молчащая улица Красная. Но вот гаснет окно, и слово в голове возникает тогда – ridicule, но прослышала мать шевеление и запорку дверную сбила ногой, а окно уже высадил чем? чем? – да гитарой. Да, гитара опять не хочет молчать, и одной ногой уже шагнул туда, за окно, но вцепилась мать в ногу другую, никуда не пуская. А потом в холодной комнате – у выбитого окна до утра все записывать, чтобы исповеднее получилось. А с утра – петушок пропел давно и Чае сказал, – я покончить хотел с собой. И изобразил выпученные глаза на синей чернильной голове авторучкой – какого-то прочного черта, который ты и есть, сам того не зная, так вот она, первая бессонная ночка, – и потом днем накатывал сон, за едою в столовой, и долго еще днем после накатывал на шпендика сон-пронесон.
Но теперь нету больше непрочного сна над прочной косячной бессонницей. Потому только сейчас вновь распустил себе сутки – сутки бегал в лесу, но вернулся, проснулся, обратно вернулся, ну а если бы вдруг не сумел?
Рассматривал фотографии, как всегда бывает у новых знакомых, те – старые, из альбомов, не задумываясь, любопытствовал. Две сестры, одну из которых никогда не видел, Леля и Женя. И увидел вдруг на одном фото Лелю, которую никогда не видел, в окружении тех же медиков школьных. Остановившихся с запрокинутыми головами, с улыбками, Шандорона, Обоину, Мордова, всех. Веселых, точно таких, как ты их запомнил, дружных будущих докторишек, а называлось «компашка». А про них и помнить забыл, и в гостях был совершенно в других, и вот они: «скажем дружно», все одну макаронину тянут и тянут. Точно такие же, как запомнил их навсегда. И такими останутся детскими, потому что никогда больше не встретишь. А если и встретишь, то словно не узнаешь, подойдешь к педиатру Столовникову и спросишь: вы ведь брат того Леши? Да, говорит, брат, а сам машет палочкой, движение регулирует. Бабская профессия – детский врач, а теперь вот в фуражке стоит, да, это я, – называет по имени, – Витя.
Внимательный, плотный, осторожный, со странностями небольшими, выпуклым телом своим, а так, как будто взрослый мужчина уже, и даже старик, – так все они кажутся потом, прорастая из прошлого, – молодым стариком. Да, еще, что скрывать, когда видно, обиженный словно и полный тихой недоброй любви. Но не выдавший себя – хотя отчетливо видно. Зеленый сумрак квартиры – пришли к нему неписаные классные товарищи, а комната как аквариум. А, может быть, показалось – и продолженная эта любовь только привиделась, потому что внимание обратил на тебя, под бойкотом других, и к себе допустил. Но не хотелось идти, отверг сразу, не то это, дружба ненужная. И еще, когда расспрашивать начинал, отвечать не хотелось. И еда вспомнилась, вкусная – как мать, приходящая с праздника на работе и всегда говорящая, что ели тогда, в подробностях, что купила сама, что готовила, стряпала, и что ели. И тотчас забудешь, что ели, хотя столько раз о том толковали. Пригласил Столовников на день рождения. А ведь был угрюмый, хмурый, в заполосканной одежде, таким и остался, что дружить не хотелось, даже когда все от тебя отвернулись.
Вот так и узнаешь историю, рассказанную с другого конца, такие, что знает весь город. Ни кровинки на лице, красивая, неподкупная, словно отсутствует на уроках, а в голове все картины, живые, – спит наяву. Сероглазая, платье зеленое, что-то совсем не так. А потом вдруг кто-то расскажет, мать схватилась за провод голый, отец за нее, побежал спасать, а за ним еще брат, а надо переложить было провод палкой длинной, как гадюку. Но нет, тянут-потянут провод, словно невод, а сами мертвы уже. Выбежала с чердака, на даче, побежала прочь за околицу. Нет теперь ни матери, ни брата, ни отца. А я осталась. Вот так и сидит одна, и глядит одна, белый лоб, а живет, еще вот что бросалось в глаза, отречение. И потом кто-то сказал – так это она и есть, это про нее говорит весь город.
В твоем классе произошло, в параллельном ли, не знал, а ведь видно бывает. Вот так, заживо умершая, строгая, как офелия плавает, голову запрокинула высоко.
И еще другая – с которой была переписка, бледная, худая, больная, сонная. Сказала, что книги «Тарзан-приемыш» и «Чудовище» прочитала давно и вообще у нее новый друг. А потом встречаешь все в том же параллельном классе и не прощаешь, не разговариваешь. И вдруг узнаешь – лейкемия. А сфотографировал сам давно, в профилактории. Такой и запомнил, и не знаешь, увидишь ли снова.
Теперь это просто проверить – на «одноклассниках», находишь потерянных, очень радуются – что ты их нашел, где сейчас, кто? – засыпают вопросами. Но потом разговор иссякает, и не о чем спрашивать, так давно это, кажется, было. Да так и застыло – молодые старики и старушки – навечно впавшие в детство, остановившиеся в росте, такие, какими запомнил, живыми сутулыми истуканами – онемелыми рыбами, кланяешься им как мертвым. Нет общей беседы, нет классовой жизни, хоть выточены на одном токарном станке. А так пришел к шапочному разбору, словно и не было никого. Однако пересказывают эти колоны какую-то затертую книжку и продолжаются вечно, словно были всегда, и не умерли, и не переехали, всякий раз оказываясь новенькими, молодыми совсем, в совершенном том настоящем, которое всегда повторяется заново, и даже сказывает себя при повторном включении, и говорит с тобой о своем на забытом родном языке.
За зеленой комнатой приходит и желтая, Катина комната. И в ней снова сестры, сама Катя и вторая сестра – имя никак не вспомнить. И тот же альбом, а вернее, большие картонки с классом на них. И ведь и в этом классе учился, вот так встреча. Было краткой поездкой во вторую второгоднюю смену. Мама попала тогда под троллейбус, переехал ей ножки, и ходила на костылях. Проучился там целый весенний, вернее, месяц осенний. И вот на снимке узнал – вот питон Угодай – Сережа Никотин, тиранивший в детском дворе, угрожавший, проткнувший резиновый мячик. Не забыл тебя в злобе своей. И вот он, оказывается, ходит и дружит с сестрой. Непохожий, взрослый, отверженец, сестра помнит и любит его.
Вот Клуха, шахматист зайцезубый, бросается в бой, покраснев, дерется с королем класса, с тем самым Никитиным, дерется и не сдается, а ты сразу же спасовал, забоялся, зассал и только мечтал: вот вернусь домой, а там – заживу. Но и там началось, в пятом классе. И было повсюду – насильничали, ругались над одним названием твоим, и твоим, и ее.
Вот Чвача и вот еще брат того самого Чвачи. Он с Клухой все препирался, был в стороне, довольный, здоровый, раздольный. Но не дрался и в сторону отступал, повинуясь приказу Кота. С тобой поддержать разговор мог – в сырых сумерках шли когда из школы, вернее в сумерках в школу, где засыпал на болоте, – на биологии рассказывали, отвечали урок, говорили. И желтые лампы, и темные тени голов, оглядывал их, оборачиваясь от доски.
Вот Кот Ламанча, рослый, огромный и добрый до времени. Сел за изнасилование, хотя говорили, что сама виновата, была со всеми по очереди, а потом повидала всех вместе.
А вот Лысенек, вивисектор, методичный тощий учитель. Любил длинной иголкой колоть, во время урока прямо – и так наводил ее жало, понимая, что ничему не сможешь помешать, никому не посмеешь сказать, понимая порядок вещей, а сказать – только хуже. Украл Лысенек триста долларов у соседа потом, учиться другому пошел.
На них как на утопленников глядишь в желтой Катиной комнате, где больше слушаешь маму ее, которая приму курит за круглым столом, рассказывает небывалое, как утопился на якоре дед-адмирал, как выслали и как цыганкой ходила, не в лагере, нет, на воле, на солнце, но где – в Воркуте, в Магадане? Рассказ небывалый, и смуглые в нем черепа, и строги движения – без датировок, в безвременье, рассказывает бичовка, колдунья и ведьма, и град насылает на весь околоток.
А Кате, да, Кате, рассказывать сам начинаешь – сначала одно про себя, без сюжета, рассказ за рассказом, и слушает ведь, так находит рассказывать страсть – то, как ехал на велосипеде и через руль подбородком ударился о поребрик, то, как хотел подлететь на веревке к другому балкону, как в тюбики зубной пасты пихал поклеп и мазню, в кого был влюблен и в кого, и так три часа, рассказывал, глаза закатив. И курил уже, и уже чифирял-вечерял, и затем в последний незапертый подъезд выходил. А как войти вот теперь в тот подъезд? Когда с хрипотцой, веселым голосом встретится Катя, которую так оскорбил, ни с того ни с сего, возмутившись, что-де не умеет правильно говорить, и хуже, писать не умеет. Неделю болела потом. Рассказывала о мучительной жизни, у окна говорила, как голову просили ее распилить, как все давалось трудом поломойки, как дружили с темной сестрой, что уехала далеко за границу.
И потом узнавал, как упала с велосипеда и ногу разбила. И потом узнавал, кому отказала и кого полюбила. И потом встречал в новый год, неся смердящие лилии совсем в другую квартиру, и стыдился вступить в разговор. И укор в глазах матери, когда встретил, но все-таки поздоровалась. И как потом натолкнулся на ведьму – которая рубль попросила, словно переметнувшись из мрака навстречу тебе, в нищую обернувшись одежду, на перекрестке, когда те картины и карты те, что тасуют, ожили, плоскими тенями пошли вокруг тебя, а в груди горели слова, и облетали сладкой пыльцой вещества. Пошли хороводом картины и тени, которые в детских книжных кошмарах не взвидел бы ты никогда, а вот сами собой приключились. Так что не веришь уже – было ли в жизни, наяву, но отчетливо помнишь – не сон, забывается сон поутру и впотьмах, даже если сон когда-то бывает, когда на движняк пробивает, а тут так и стоит в глазах, как младенец с чашей и бритвой в руках.
Лена Жарких, забыл даже, как выглядела эта девочка, не все же лезть по альбомам и искать – толку не даст. Радуйся тому, что вспомнил хотя бы фамилию и как обзывали. И с чего бы это ты пришла мне на ум? Потянув одеяло жарких стран, жарких женщин и солнечных жмурок в забинтованной голове. Так и воспринимался детским рисунком – делающим первые шаги и обнаруживающим себя в первом слове. Зеленые, красные полки этажерки, белая чья-то тень, от которой отползаю, но понимаю присутствие – все, что запомнилось самым первым. Мамина тень.
Стоял на окне, смотрел на улицу Красную, произнес первый слог: МА! – это машина, красная и желтая, зеленая и синяя. Проезжают машинки – как игрушечные с высокого этажа. И словно вздрогнув, оборачиваюсь и узнаю себя. То, что будет потом вспоминаться именно так, и нарисует все остальное – бабушку, ее платье с орнаментом, высоту рамы и глубину улицы.