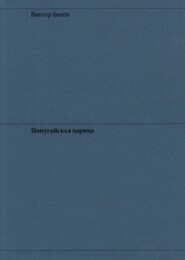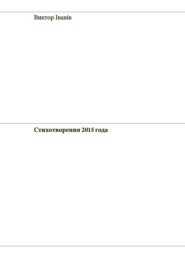По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конец Покемаря
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пластиночка «Жиллета» прикарманенная обещает самодовлеющее бритье с риском порезаться. Лучше пилюли успокаивающей не выдумать даже для крокодила, чумодана, который расплакался бы крокодильскими, нильскими, чумазыми слезами над пластиночкой. Винил бы только себя в том, что зашитая в записке кудреватая митрейка ноготков, что сорвал, слезок кукушкиных, что куковал, не запела бы. Над животом синекастым круглыми разводами ламп, как вождя оплакивали тутовником трамвайных гудков, так вот и в самом массовом пузике звучали бы эти оргиастические, как гроза, как рыдания, слова. В самом массовом пузике раздалось бы роптание новорожденного крикуна: с любовью к малолетним, мимолетным успокаивающим, как королевский спиритический сеансик. И что было бы в этом содрогании, рвущем горло стрункой, в этом были бы отголоски содроганий, но отодвинутые на лезвие рассвета и утра, отступающего вспять, а был бы заштрихованный половичок, с персианками, рассказывающими, рассказывающими квадратиками, и даже сильней, так что облегчения не наступало, а только анальгиновый, затушеванный, завшивленный фокус-покус, осоки покос, как пляска с комариком – только песочные часы, взбадывающие вам зенки в самый полдень, полдень без упокоя, где Осторожность выходит гулять на лужок, бесконечно повторяя квадратуру свою, в которой радость – толпы и ваша, и за которой выстрелы выстрелы выстрелы выстрелы, чтобы только чудесную головную боль прогнать, хмель убийцы. И всех убийц, которые торжествуют в этих выстрелах у Дакоты, выстрелах у Дакоты – торжества всех убийц этой головной квадратиками расшитой боли, болек и лелек не убегут из этих двух мертвых глаз. Выстрелами Дакоты, голосом любимой собачки, голосом застреленного Енота, голосом умершей матери, погруженной в Тихий океан, оттуда, выстрелами Дакоты, покойся без меня, Великий Океан!
Зонтичный паутиновый протекает. Так спал одноклассник, и снилось ему, что стоит под зонтом уже по колено в воде и клюет носом, а в это время потолок раскрылся, и из люстры потекли потоки воды прямо в кровать, в ставшую мокрой постель. Так и мы пришли в квартиру, а там внучатая тетя бессмысленная сидит, а по стенам сбегает вода. А когда не знала, как выключить плиту, и спала на столе, у раскаленной лежа, так вот это шпарило током сильнее, чем когда попила чаю с покойными братьями, а дверь забыла закрыть за ними, и высадила дверь во сне. Проснулась, стоит над павшей дверью, предшествует, предваряет, воспряв, на дальнюю дорожку. И действительно, шли с внучатой тетею по болотцу, и ругались, вот ругаю и понимаю, что она уже не в себе, убегаю, кричу, ругаюсь и вдруг понимаю. И приходим по белой пыли и по сумеркам уже в дачи, и там вечерим. Так вот туда она повела бы меня, и однажды водила уже, но не то это все.
Зиккурат крыльца раскрыли, обнажили красные кирпичи в большом грозовом здании, где черной бахромой зонтов спускался в начале теплого июля за черными гвоздиками, высокими, четыре штуки, красивые, подносил цветы к тумбочке-алтарю. И в жмеринках платьев вдова веселым голосом мудрой старушки, так, которую видел с мужем еще под косым слепым дождем, так она проходит как ни в чем не бывало теперь, делая допущения в мой адрес, но про себя. Опять тревожу его память. Но родители доглядывают детей, и мы тут эту вудуистику не будем разводить, и так все в разводах уже, занавесимся на ночь.
Вселяют прохладные дни в наши помещения, сидишь в тени и глядишь на соседний солнечный квадрат, а в нем и трамвайные перегуды, и погоды октябрьски желтые, и столбы пылевые, где был человек, просеки счастья, неги, так в этот квадрат, как в желтое окно, глядишь, и там силуэты твоих – за бранью и руганью, за кипятком в стаканах, за мирным падением в синодальность, китаистику, кутай, кутай в старом красном куге.
Так вот набухала тогда гроза, и тусклую красную лампу зажег, и читал пылевики страниц, как кто-то бегал впотьмах, и любовался красотой рож, отвратительными которые утром ему казались, и впивался в себя самого, как мужской поцелуй. И вот полился дождь, и лампа качалась, и забывался в тот миг и в другие потемки, в других комнатах погружался, когда летом темнеют деревья, гроза. И ткнувшись кутенком в ту глубину непроглядную, когда подмывало рыдать тогда, а сейчас, напротив, хотелось сладко посапывать, но не до глумления над этим, не до кривляния, а так, по-хозяйски распорядиться грозой, из которой выплыло светлое небо, прояснившись. Так вот и ты проясняй свои прописи, на которых выдавлены твои – тюфяка, фетюка, картофана в мундире, как темными вечерами, чтобы стали те чернила гравировкой, которой только поглядывать, да смаргивать, да вздыхать, вот в каком побывал подвале, под которым все ходуном, вот что вынул из шкафа, вот что ховал в мешке, вот тот горячий горючий камень, а вокруг земля ходуном, и ухабами этими ушибленный навсегда, вот так с утра вспоминается это, только раскроешь глаза, Семирамида, словно проел глазами бумагу, словно хобот раскрыл цветок, и все это распустилось, жутиками расцвело и мгновенно улетело, как не было, в несознанном пробуждении забывать прикосновением ласковым к тому, что Солнечный приголубил тебя, и вот разнежился ты уже, и снова утро, и окна у тебя на восток.
Так, бывает, напугается мать, слушая радийные песенки, отвлекшись на себя саму за посуды мытьем, и так в этом соприкосновении словно бы открывается книга, и за челкой облаков сдутых видишь, что ты одуванчик, скафандр, кентавр, и царь Минос учтет тебя, а боженька только от проказливого отмажет, и заголубит вновь Солнечный, как двое не могут разойтись, мотая коняшками голову влево-вправо, и тогда вот раскрывается книга, у которой только есть только прямо, а нет право и лево, и видишь и себя, и маму с головы до ног, в омуте световом и упавшими – это Солнечный посмотрел вам в глаза.
И пробуждается под лампой, освещающей полнеба, бредущей и спускающей на шторах вновь сказаний и дальних путешествий комнату на подглазьях ночи, которая оживает в томленом свете, в ярком свете комнаты, такими, как видел ребенком, и нашептывает на ночь сказку, которая есть только скатерть той страны, что видно из-под стола, куда уползает клубочком котишка.
А за тем столом какие люди, и что за речи ведут, и что прихлебывают из чашек золотых, только с замиранием сердца подслушивает дитя, и проведать такое может, что потом расскажет только как взволнованно, исповедуясь взахлеб, и трясясь этим, и забываясь, проговорившись.
Снилось солнечное утро в лучистом саду. Под утро приснилось, и легкие неги безветренно мигали глазами и смехом, как клонятся вишневые ветки, и над ними птичник. Меня не будили, позвонили сестре, какой ставить памятник. Потом пришли, и изобразила Жиличка мертвую куклу, закатив глаза темные и тупые, и очнулся только когда отчетливо произнес баби-Манино имя и отчество, какое надо написать на новом памятнике. Напустило на небо тучки прохладные, сени и купы поразвесило. И пошли в зоосад, где орангутанги плакали и утешали друг друга, и тень была в черных клетках, и в кустах, и в пруду, где от ивовой воды болели глаза. Гепарду там выстроили избу, и он в эти хоромы заскочил и там сидел, только не жег свечей, а варан был не такой, как из Комода. Маски вождей надевали и первосвященников Мандрилы, пони были просто грустны, кабанчики напомнили жабров, а красный ибис был маленький. Колокол персидской юбки она несла, и думалось сообща, беседа была длинная и прервалась лишь когда довольно близко отдернул лицо, вспомнив словно что-то. Подготовил рюмку серебряную почерневшую, чтобы аптекарем друг стал туда яды дозировать. Но рюмка оказалась памятью семейной, и с ней нельзя оказалось расстаться и яды дозировать, чтобы друг, как врач, врач, как друг тебе говорю, чтобы он для нас ни сделал, хотя уж и так сделал очень много, верней, что никогда не расплатимся. Сжевывая фаншетту, запивая белой портвейной, не соображал ни вкуса, как отравленными ломтями питался. И Элизий елисейский в сумраке потонул, да ночка подошла, а такой райский сад утром насаждался, да заспал его, заел, запил, не приголубил Солнечный, и вот ночку коротаю, красный ибис был грустный, нет, красный ибис был маленький.
Шафранной кожей выходила и принесла яблочко, сарафаном накрыла с головой наступившего августа, словно голову попирая ногой. Прогулка длилась, пока тревога не обломилась и не подняла лес за собой. Чащи веток, елей кисейной барышни, и высосанный зрак хоботом пчелиным – хмурилась-жмурилась, а до этого снилась утрами под сладость пробуждения – морфема такая и фенечка, да денёчка красноватыми пузырями сафьяна в сумраке прихожей зажгла электричество, и отказали, закоротили косые дожди. И улетела далеко, не упала только, в самолете выскочкой колосья пошевелила. А потом гроза молнии, и сгоревшие вмиг под деревом, потом в дневном свете уносили, показали пятки только их – белым-белы. А так парочку сожгла гроза.
Грозку заспал, и опять под утро уже с другим лицом белым, как простыня, сладко захолонула и из всех прорубей замиловала, а сама была как раскатанное тесто, хлебное, с кругами, осыпалась мукой и сжевала мертвый и сладкий уд, как будто бы заплатившийся изумруд, дитенком, а сама завтракала, и в улицах напротив бродил слезогонный, но виноградный слезоточивый, и чикой-брикой сказала так и надо, а как исчезла, пробуждение наступило. И маячили опять утренние предгрозья, и населили тенями заполированных глаз ощущение наутек. В сумраке в первой открытой газете сообщили о смерти Марии, и глумящихся над ней, и протягивали ноги, и вытягивали время суточным пайком, как в вагоне, до пирожков, и когда вышло солнце, открылось, что в этом квадрате солнечном, где спят пылинки, и что вот этот столб водяной-кровяной на перегоне, умерла Мария, и погребение сегодня. Ждать поезда вот так утреннего в наступлении лета, а вот так вагончик и канул под землю, не доехал до своей станции ты, и теплые руки, и теплые груди, вдруг забито горением плачей, а через тебя тянется эта степь поездная, так второй раз за год явилась второгодница ночью, ящеркой на старом подоконнике, и тогда расплылись тенью августа да под юбкой его, хвостатого, двухвостка затаилась, да как электрическая двухвостка всегда ты была, померанец, персиковый теплый липтон, лакмус и зорька нефтяная.
Вечерний летний поезд, заглянул в вагонец, провожая Жиличку, а до этого и после спал-спал, засыпался, и опять началось роение дня, нелепо-далеко, и мамина тень брела с ней, как у цыганки с тамбурином, и пела она песенки, сама не зная о чем, и выше головы выросла трава, и потом одалживала свой шарфик возле дома соседке, и да опять этот август, когда провожать на поезда, когда опять остались одни, и вновь вспоминать бабу Маню, ехать в автобусе, с темными шторами, как на катафалке, медленно-медленно, и город как вечный огонь, живой, солнечный, а ты возвращаешься и не можешь сказать, какой год на дворе.
Жиличка на поезде в нежном солнышке, и сам понимал, что рай где-то внутри, от сладкого вина или еще от чего, и рай будет таким, что то, что ты воображаешь вокруг тебя, уже неподвластно тебе расцветает, волнами и лучше, чем во сне многоочитом, и в солнечном грустняке напротив, в автобусе мама, мы едем вдвоем, и солнце поет в тебе, а так воздушные поцелуи и сладки плоды, и кущи в цвету под возвышенным сердцем, и лучше того сонного и искусственного рая тот рай, что рассеивает дней тревожную пастораль, да живых рай, волшебств и яств, семидольных блаженств, пустолаек и бережных зим.
Лучше Евангелия, с чудесным выпрыгиванием из тюрьмы, с размыканием пут, с бури крушениями, плутовскими и шпионскими подвигами, хотя тот рай особо под циклодолом открыться может, когда белокурую Лорелею хочешь, и объедаешься сладостными хлебцами эйфорий, не рай то, скажете, а кайф, а рай – это когда кружатся силуэты в садах, и с каждым кивком головы, с каждым расхристанным шагом открываются сначала тенями, а затем силуэтами, а затем живыми фигурами, свободы неги и ласточки, словно все прочитали Кубулу-то, и уже вот он воплотился, хотя плоти-то и нет, истлела она, как конь Блед топчет ее, белесый то есть, из незнамо куда, а ты где прячешься, книжка или, вернее, чтение ее, – вот где рай, только настоящую книгу уже не прочесть тебе, все одни выдумки, а басенного меда не отведать. Вот уже бьется маленькая матушка-смертушка, грозно маша кулачками, и вещает закон в своем помутневшем хрусталике, вот не лотосы, молодильные яблоки будем есть, да и был уже рай, а теперь только кайф, пусть даже больше кайфа, а оглянешься даже неделю назад из-под вымени бледокравы – и то рай был уже, что прошло, стало мило, милует, и то, что минует, – то смерть, а то, что мило, то уже тебя обмыло, речки смерти в денек записать.
Любрик, Дюдик и Пудик – это твои котяточки были, змейки полосатые заползали в брюшину, которая отцветала уже, и, щебет от шепота не отличая, ручьями текли твои глаза, словно о смертный ствол ты прикасалась чубом к нему, задувая наверх одуванчики-волосы, так как сметана была челка, и красных быстрых теней на щеки, и скороговорка прыжков, лягушечка сбросила кожу, а загрызла совсем лилеей без запаха, без волглой мерзлотной телес перепоя. Так заглядывался в ожидании и испуганных дудок зрачка, так они таяли, прядали, охапками в переносьях дышали осенне, так ветер в квадрат заносил, и сверхрайское, сверзнутое в долины лилейной лоз, и светы и сапы, и если бы заглянуть дала за спину: что там, как за тем поворотом тропы, туда где нет возврата не склоняла б воли узнать, понять и принять несуществующих, и приветить озерной колдуньи другой садовую челядь.
Время сбрасывать кожу, смеешься даже шипя, кожа дышит, и начинается сбор винограда, а ветер последнее носит тепло с воскресного солнца. В ядовитой майке каталонской ходить уже холодно, все ветшает, шатается корешок книжный, застежками зашнуровывает сапожок. И глазастики, и барвинки сменяют наряды на тафту и травленую бронзу, которой ломать стрекозиные крылья и варенья янтарь. Теплым морем купает тебя плодородия морского ложе и повитый зрелыми давильнями, растоптанный ложный циссус лиан. Уж вот оно, солнце, прошло Гибралтар, уж скоро бабы Маруси моей бестемьян.
14 августа встретили порознь с мамой, обнаружившей поутру стограммовку Кина. Угрызения как те две мушки, что зигзагят под старой потускневшей лампочкой на наступившем дне, с футбольными коленцами, в новой ядовитой майке, – которые радость приносят, и в честь бабы Марии, как думалось. Но потом тяжелая дрема перегретой башки, и, глядь, сидит за столом соседка, которая голодает, и мама ее подкрепить решила. Вот так и вечеряют днем с этой соседкой, которая строга обычно, скупа и почти не выходит, а теперь еще затопила весь подъезд, родилась в день рождения Пушкина, и мама запрещает мне с ней разговаривать. Вот так вспоминают без меня, а соседке мама соку не дала, сберегала для памяток наших. Но вместо них судилище, требование клятв памятью бабушки. И отдельно живем теперь, вот отрыгивается стограммовка. И расшифровывает мои скрытные часы мама. А сегодня поет и плачет, я хотела тебе рассказать, как мы жили в войну в Казахстане в экспедиции. Сухонькая, и не обиженная даже, а потускневшая, уединилась с собой и заперлась на халатик, которого рукавами то песни лить с неба, то руки вязать. Нет у меня друзей, и ты не пойдешь со мной.
И нашел в подарке ей на день рождения забытую ей тысячу, в конверте, в красивой коробке. Потратить решил на себя, ни в чем себе не отказывать. Табака полные карманы, вино, ленивца бы еще заморского, какого еще.
Поездка на дачном автобусе оборачивается путешествием в тридевятое царство. Начинается разговором со старушкой, которой уступаешь место, а она путает время, потерялась в часах, но вызывается сопровождать, в сером плаще, седая, с черным зонтом. Сопровождает по глинистой и гальчатой дороге, которую обычно проезжаем так долго. Но переобывается в сапоги черные и бредет как будто присядью. Кажется, вот-вот догонит, и мысленно убиваешь колдунью, но подбирает автобус, и в царстве мертвых, комнате памяти, двоевластие сна. Холодно, укрываешься тоненьким покрывалом и глядишь на переселенные маску покойного дяди, гравировку, проигрыватель, гобелен. Все нанесли из разных мест, где когда-то селились. Сон – не сон, ничего не видишь, но сопровождаешь себя в метемпсихоз, но не можешь открыть глаза. Обратно мамино лицо одно солнечно, среди забытых старух, и та колдунья вновь встречает в белом еще платке. Странно, что ничего не случилось, только злейшим стал, ругаешься на мать и вспоминаешь с улыбкой в мрачном аквариуме автобуса прошлые жизни, веселые беседы. Да вот побывал в мертвом царстве, а утром проснулся как ни в чем не бывало. Хорошо, что мысли не обращаются в явь.
Собрались, вечеряли. Красное сицилийское вино отказались пить, поставили зато опивки виски. Полночь встретили, а к утру вновь встретились, как не расставались. Говорили шепотом, не понимали женщину, с сыном за ручку гуляющую, а у него рыжие усики как у шестнадцатилетнего, а уже двадцать пять. Стреляли из сломанного игрушечного пистолета в зеркала. Разъехались, как не расставались.
Через неделю женщина упала мертвая на кухне, три дня упрямо проходив с инфарктом. Сын вызвал «Спас», чтобы вскрыть дверь, запертую изнутри на щеколду.
III. Эпизод на ветрине
Сели, захлопнули дверцы машины. Тот, кто был за рулем, сказал: разбудишь, как доедем. Быстрая дорога выводила по летающим мостам. Фонарные жгуты висели лопоухими синими, промокшими на помойке зайцами, которых привязали ушами за ручку двери. Затекли веки, закапало с потолка теплыми каплями с известью. Он побежал, и все побежали по лестнице вниз, размахивая картофельными мешками, полными бутылок, вещей и дряни. Бледно заходили лица, онемевшие и смуглые. Навстречу летящей капели, по ветру и против солнца спускался новый сосед с зашитой верхней челюстью, стежками по краям усов. На шестом автостопе она уже не могла заговаривать зубы водителю. Побагровевший подбородок красиво расцвел гнилой экземой, когда она отогнула шарф. Шофер повез дальше. Целью было успеть на улетающую платформу, в которой вагон уже был замкнут на немой, как камень во рту статуи, ключ. Платформа отъехала с трещиной. Она встала на колени и зарыдала, потому что с рынка и на рынок через детскую площадку неслась ватага погромщиков с топорами, и отовсюду были слышны выстрелы. Трещина люка оказалась высаженным подвальным окном, она закатилась в него. Там тухло освещение, окно лопнуло вместе с лампочкой. Цветы высунули языки и стали залеплять канальцы между наглазниками омытого дождями лобового стекла очков. Изогнувшись, она побежала через перестрелку двора гигантскими шагами и добежала до бензоколонки. Пошел град, и ее обтягивающая черная майка и вельветы покрылись слезливыми алмазами. Она подняла мертвое лицо, расцветшее солнечной непробиваемой улыбкой. Слепой дождь прибил к земле голубей. Она вынула пустую челюсть, и кожа ее испарилась на лице, оставив талую дорожку, по которой волоклись ноги. На бензоколонке начался стоп. Бомбометание прекратилось. Она догоняла дневной поезд, который ушел позавчера. У Твери стало понятно, что не догонит, так как отпетый стрелок, за которым она гналась, постоянно менял направление. Умывальник висел в туалете вагона. Она ударилась головой об него, загнулась и вышибла им зеркало, как большой головой своего Фермера Оло. В луже трещин ящерицы забегали в жухлой листве. Пора было просыпаться. Она сидела на домотканом ковре, поливая его кровью, пошедшую носом и горлом, и не могла уже встать, не рассыпавшись на ляжки и локти. Приехали, выходи, сказал пассажир заснувшему на бикающем руле водителю. Машина стояла на Наклонной горе, и толкать ее выше не имело смысла, а движка не хватало. Наступи, чтоб не поссорились, сказал пассажир, ударивший через чужой резиновый сапог по тормозам. Он вынул зажигалку и засунул ее в жопу одному из стоящих в широких штанах в очумелой глядящей толпе. Толпа побежала в левый угол глаза, а из правого угла через жилку вышло пятнышко солнечного зайчика, который утомился, завыл и растаял в заблеванном потолке. Часы, на которые упало солнце, спрятались обратно в рукав. Водитель и пассажир выползли из перевернутой машины и пошли по тропе в лес. Разбитые ступени, скользкий пот в сапогах извещали их о приближении к Сторожевой башне. Забившись на сеновал избы, они заснули, не доходя до вершины первой горы.
Сняв с дверной ручки мокрого зайца, он остановился и запечатал щиток на ключ. Взрывы продолжались, подползали бульдозеры и танки. Он оголил все провода, включил электричество, прислонился к батарее, забаррикадировал холодильником дверь, включил трансляцию как можно громче и побежал к вахтеру. Летела третья свечка свадебным фонариком. Молодые девушки вышли гулять в феерии ракет. Было жарко, потом прохладно. Девушки ходили и молились. Вахтер сказал ему сквозь сон – отползай по водосточной трубе. Началась гроза. Голые купальщицы в ровном море не видели границы волн. Молния ударила в главный громоотвод. Катакомбы под морем просели. Станция обесточилась, обоссалась и затянула в воронку песка ребенка, который объелся земли. Истребляющий луч рассек ее роговицу, они сидели на раскрашенной цветной картинке – она в розовых, глуповатых и милых очках, он в бурой с трещинами от мороза дубленке. Море хлынуло в улицу. Он подобрал спелый гнилой апельсин и завернул его в тряпку ее окровавленного платья. Она жалась к цилиндрической стиральной машине в своем синем секонд-хендовском пальто и отцеловывалась от его. Из уха и бровей пятнистой, как конь в яблоках, собаки повсюду брызгала кровь. Она обвела ровный асфальт, где раньше колотили мячом и пластмассовыми ракетками в стену дома из посеревшего белого кирпича, начертила и обвела фигуру вокруг мертвого тела. Потом все двинулись на цветную клумбу напротив министерства, расхаживали там в шляпах, с красными губами, жмурясь от холода. Из подъезда вышел беззубый панк, широко распахнув кожанку, и понял, про что это все. На фиалковых губах умолкали шепоты. На полочках платяного шкафа спали чистые полосатые детские майки. Курильщик по прозвищу Смокер, стоявший у подъезда целыми сутками, тоже посмотрел на нее. Железный мостик через овражек был ровен и уводил к пруду. В этот момент он разорвал фант жвачки Love is, постучал в пустое осиное гнездо, окунул пьяную морду в таз с вареньем и ушел на всю ночь, стукая по морозу сапогами, передвигаясь по прямой от одних электронных часов до других. На переезде за ним увязалась собака, две полные бутылки крепкой короны замерзли в карманах. Она сказала: ты не представляешь, после такого я мылась бы в душе целый день. Они проснулись на благоухающей майской клумбе и поползли, смеясь, все грязные домой. Вы мне не поверите и просто не поймете. Он выскочил из дома в белой одежде, китайской кожанке и бросился на газават. Газават должен был начинаться на Центральном рынке – там он должен был узнать, куда двигаться дальше. Подарок ЕС рухнул. Бледный друг перекрыл все краны, стер со лба капающую с лестницы трупную капель и повел его вместо рынка в сад, с расцветшими гиацинтами, посадил на красный унитаз, увитый плющом, и начал петь сладкие песни о маковых опылитель-ницах. Нежные голоса обдолбанно неслись сквозь шатучие двери. Цикады приближались ровными волнами. Героиновый наркоман жаловался и плакал под дверью обосранного, заблеванного подъезда. Дверь притона не открылась – и ломка продолжалась – трубы засвистели свищом, в ванной запахло говном. Он упал в обморок на унитазе после гонки на дамском велотренажере. Новый ремонт согнал в беседку всех летучих мышей, которые на самом деле никакие не мыши, а собаки. Рассвет зашкаливал, от лужи трещин и голубых огоньков конфорок, где она сидела, подобрав живот к цветастому подбородку, когда закружился потолок, она встала в высокий рост, обмоталась чадрой и пошла на бензоколонку, откуда начался автостоп. Все стояло на своих местах, был дождливый вечер, могильщики сгребали трехцветное говно с президентской могилы. В это время он харкнул ей в розовые очки и она обтерлась лопухом, не обидевшись. На затопленной мусором реке он плавал на резиновом колесе и пытался причалить к дальнему берегу, где плавали кувшинки. Белый ветер нагнал облако над инюшинскими дачами. Это был последний день отпуска, когда пасмурное небо теплилось от дождя и красного солнца горящих лесов – над характерной веселящей дымкой. Солнце сфотографировали и перепутали с луной. Он ходил от одной детской кофейни к другой и тосковал о матери, к которой приехала скорая. Каждый новый год пневмония, операция на глазах, каждый день отпуска вызовы на работу, трудодни и случайные встречи, когда и повыбрасывали все мобильники, когда жуки-могильщики, и муравьи, и саднящие якутские комары выели все лица, заражая ядовитым соком, прививками против тифа, лихорадки и сифилиса. Роса падала на листья, он проснулся на веранде и сошел без билета на Ине. Весь день спал, спал, спал и спал, и потом ехал с пересадками до бензоколонки, откуда начался стоп. Все стояло на своих местах: и перевернутые Купалой машины, и подаренный запорожец, и цветы на клумбах, и канистры в колумбарии, и голуби стаями, засравшие ей все глаза и очки. Истребляющий громоотвод обесточил станцию, и тогда он сбросил дубленку, полез на печку и стал храпеть в валенки. Подошвы проела моль, автобус наглотался пыли и остановился на вершине первой горы, где пассажир и водитель побежали на него, но это оказалась конечная остановка.
Снег хлюпал в галошах, в воздухе висел хлороформ, в тумане над мостами проблесками просвечивали бледненькие фигурки. Глаза перевернулись, и то, что казалось близко, стало далеко. Рама отодвинулась, и в окно влезли глазастые рожи, поребрики, и карнизы домов. Он сам влез в свое же окно, только в обратную сторону. В комнате стояло пять телефонов. Новогоднюю ночь с распущенными, как вены, нервами, когда в глазах то тускнели картинки, то бились лампочки, а из носа пошла кровь, он стоял и бил телефоны. Они молчали. Пять телефонов. Он топтал их ногами и бил о стены, но они от этого только гудели, как шмелиные ульи, и оставались на местах. Руки плясали над плечами, он падал на землю, вскакивал и падал снова. Никто не отвечал на той стороне. К тому же он обнаружил, что заперт. Любовник сказал ему, что не может так жить, отстранился, хотя сам вчера звонил и угрожал убить и ограбить. То есть ограбил, а теперь сказал, что убьет, если ты скажешь кому-то. Сказать было некуда. Телефоны без проводов выстроились в ряд и поехали по простертой одежде, улезая в тумбы. Декор дешевого ремонта, шкафы купе распались на коробки и проступили кирпичи с орнаментом. Две рыбьи косточки окостенело лежали с распущенными молоками. Он поднял гардину, намотал на нее тряпья, высадил дверь и вышел под дождь – деревья плакали над прудом, где валялись газетки с недожеванным дерьмом. Уточки спали в воде, трамвай запылил промзону, и узкая тропка из крошева вдыхалась в легкие под темной канавой Волкова кладбища. Он повел друга домой по треугольному косяку улиц. Луна плясала уже четыре часа, хотя показалось, что прошло пять минут. Пулковский зал омрачился выпуклыми тенями как солнечные очки. Газовая конфорка взорвалась в сквоте и упала в ванну. Купаться стали при свечах, теплый дождь и легкий жар выморачивал воротник, выжимая его набок. Обводный канал по голым кишкам проводов накрывала измена, исчезали облака. Он спал днем, передвигаясь по холодной коже загорелых бледнокожих девушек. Ночью любовник уже летел в самолете сквозь солнце, читая книгу об умирающей чьей-то матери, но живая мать сидела напротив в кресле и спала с открытыми глазами. Он обманул ее, а она не поверила, отвернулась к иллюминатору. Посадочная полоса провоняла гнилой рыбой и нечистотами. Он встал и вышел гулять под дождь. Наступил новый год, а мешкотные люди все боярились у прилавков с мешками сахара, муки и соли, не спешили расходиться, тянучки прилипли к башмакам, и его отбрасывало назад к телефонной будке. Он запер ее изнутри, и упал с ней набок, и там задохнулся. Подошли водитель и пассажир, утро тащило баржу с бревнами, спуска с конечной остановки не было, там, в павлиньей дымке, пропадали из виду дымки? газовых вышек, а степь казалась пропастью. Давай найдем другую машину, сказал водитель. В сеновал заползли змеи и встали как щучьи хвосты. Острым прутом он рассек их пополам. Горшки с щучьими хвостами посыпались с балкона, где они стояли в немом страхе, что балкон оборвется. Луна закружилась от оплеухи в правый глаз. Они синхронно выпрыгнули с балкона и продолжали драться, ползая в своей крови, утекающей в открытый канализационный люк. Потом обмякли и затихли. Он вышел под дождь и затворил вены жгутом.
Пробуждение застало в обшлагах, свешивающихся с деревьев во двор Боткинской больницы, с обветренными штанами и тапочками-самоходами – улаживались последние формальности – стиралась помада и чернила с паспортов. Пошли между корпусами, омываемые и осмеиваемые блеклым солнцем, – ожидая застать живыми, с полоумными оркестрантами и летящим пухом, – дернули коричневую дверь, дернули кориандровую доску, ломая рояль гвоздодером. Глухи были двери, а хвост белесой пыли, по которой были уже по колено, уводил дальше и дальше – пока не оказались у шестигранного корпуса. Но и там никто не ждал, никто не встречал. Один из них зашел в этот куб – чтобы согласовать все детали. Другой остался ждать и двинулся бродить в одиночестве. Скука качалась на лице, как маятник, – поводя глазами – у встреченных, также отсутствующих. Вместо маятника было булькание надутых губ, недопроглоченные и застрявшие зевки – но пока солнечное пятно в прямоугольнике солнц сдерживало эти обломанные инвалидные статуи от полнейшего кишения, разложения и кромсания – хотя уже ничто не напоминало ни о космах, ни о мясе. Вместо них была бледная молочная река лиц, с втертым маслицем, с засохшими листьями кистей рук, с зонтичными разводами богомольных зрачков, инкрустированных радужными обоями облазившей кожи. Так он добрел до Лазарета слабовидящих. Побеленные стены с темно-зелеными буквами мхов шептали прогорклой землей – и высушивали мизинчик детской руки – и потом уже бинтовали головы желтой мазью – йодоформом – и дышали морфином – из этого своего пальца вытаскивать пытался занозу – вытащил. Вышла обломанная у горлышка игла – и по пашне брюшины ползли и выгорели цветастые кишки – кошками рыжими убегали в кусты – и оттуда неслись в стоптанном войлоке одноногие валенки красных солдат, коротавших линялую гимнастерку, – ломились они опиюшными зрачками, таращась на бревна, что плыли от одного толкания дружно по речке Куку – раздаваясь от кровли, обдристанной сумерками, – нахально краснея и пуча штаны – так дружно солдаты ломили свой мост до самого обрушения и также начинали румяную сатурналию – в драках. И набекрень голова под плечами выгуливала обвалившийся из петлицы блевотный цветок, обжимая солдаток же здесь краснолицых и блядских, и потому покачивающих венец головы, – те ничком упавшие пионы, люпины, тюльпаны с зубастыми – сильнее чем натянутую нить, дудку зрачка огодовавевшую, – да такие цветы зас(цв)ели на бинтах сквозь виски.
Рассеянно глядя в книжку с перловым отливом страниц, он всунул чей-то вырванный глаз в ноздрю, как ребенок горошину, и стал смотреть им в зеркало, забрасывая по-кошачьи лапку туда, – за зеркалом не было никого. Оно само зашелушилось, и по нему, как по гладкой крыше, покатились сосульки с ресничек насекомовидных сомиков. Красные маки на чашках в свернутой узлом скатерти прожигали утюгами клеенки. Он сказал пассажиру: другой машины нет – иди на хуй, и побежал, планируя руками к последней уходящей электричке, в которой уже ездили пьяными. Ураган раскачивал вывески на Таганской, в пруду плавали тряпки. Он оголил пузо до трусов и рассказывал приготовившей снедь хозяйке, что кончит ей на снедь. Из кармана выпала банковская карта, волшебная карточка, облизанная и прилипавшая к языку всех крупных рекламщиков и фотомодельеров этого мира. Ты помнишь меня? – сказал он одному. – Я был на твоем концерте – мы пролезли в кинотеатр и купили майки с мешками на головах. Мы стояли стеной и ломились туда, пока всех не запустили. Тот поморщился и сказал: уведите его, – и охрана выбросила его с чемоданчиком за руки за спиной в ночь. Друг, кричавший на весь зал для скандала «Россия для русских» и тоже избитый, прошествовал мимо ширм с изображением Пери Бану для показа детских утренних пьесок. С ними увязался еще нарывистый толстый битюг, который был недоделком-программером, и нарывался, крича, что ебал всех и ее в анус – позволила сквозь простыню. Он лежал уже ничком с переломанными и вдавленными в глаз переносицами, и пассажир очнулся лишь колотящим его по лицу, сидя и дубася стокилограммовыми ударами. Потом слез и поплелся в улицу из тех, про которые говорят, что они стоят черной тенью на портретах в рамке, траурной рамке тоски, изводящей, парализующей, как целлофановая обертка, стрекательной, как «стрепсилс» – в которые никогда не зайдешь. Он шел с портфельчиком в эту улицу, продираясь сквозь целлофановый воздух. Очнулся на другом берегу Яузы без волшебной карточки, без глаз, без ногтей, смешанных с землей и стеклом. Он высадил дверь, где дрались и еблись, ходил босым по стеклам – челюсть висела на плече – мертвый баран с его челюстью вонял под кустом на три километра, вокруг ходил медведь, который хотел свежей трупятины, а заяц с предсмертной судорогой рассек живот отца так, что повылазили кишки.
Рекламщики за круглым столом спиритировали и говорили о самых великих лифтах, на канатах которых висели повешенные клерки, на самой высокой рампе они проектировали будущее человечества – через систему оценок, и каждый вздох дыхания насаживали на иглу. Мило распавшись на части, они сложили пазл: Джон Леннон под деревом Имаджин, только размазанный по крыше огромного планетария. Имаджин, только мы сами организуемся в школы, мы сами будем отламывать руки куклам – и вы с нами будете колотить слюнявыми пальцами по клавиатуре, а мы будем петь вам милые песенки и пороть вас ебальником прямо в развязанные пупы. Истекающие ногти заныли, хотя они отклеились, отклеился и приоткрылся синий правый глаз. Женщина побежала с бейбе к нему, когда он был еще поваренком, заплетенная в лилейные косы, на добрых ногах и веселых глазах. Она вызвала скорую и долго стояла на вершине первой горы, махая платком степному поезду, измазанным красным загаром казахам, танцующим с красным мячом на кварцевом горячем песке – которых только ослепленный их улыбкой мог бы принять за снежный настил. Он вошел в подъезд в кожаной куртке, гадах и с черным чемоданом – синяя темная ночь проплакала звездами небо, он, ссавший над пропастью красно-коричневым большим хуем, он, убегавший по аллее и бросавшийся сразу под десять машин, когда друзья обнимали и держали его. Он ушел на поезд. Это было прощание. Он сел в вагон, черный, как чемодан. К первому пути провожающие бежали с шестого по виадуку. В промозглую осеннюю ночь. Он уезжал в неизвестность. Теперь уже нельзя было вернуться назад. Они тогда казался огромным, как чумодан, искавший совпадения цифр на электронных часах, со смирной японкой, с душераздирающей горловой тоской, под зеленым одеялом, где они, смеясь, тощая и тонкая, и толстая и щекастая, по очереди сосали у него. Теперь он сказал пассажиру: иди нахуй. Он проснулся один на руле на Наклонной горе, откуда бульдозеры счищали стекловату, опутавшую трупы замерзших на теплотрассе.
Посланный нахуй пассажир перескочил в другую машину – ею оказалась старая голубая «волга» с глазами и зубами спереди. Его покатил старый хиппи в шапочке, кидавший под циклой арбузы в метро – арбузы полетели и люди понесли их на головах. В зеркале над рулем отражались он и девушка, черная, как пересмотревшая аниме. Она сказала, что у Бэкки нашли под кроватью истыканный иглами чулок. Пассажир разговорился с ней, пока ехали прозрачным туннелем под Финским заливом – ни одной рыбы, а когда вырулили в форт, начался сеанс психоаналитического флирта: старинное кино включилось, когда навстречу вылетел другой «волгарь», блеснув зубами, и кронштадтский лиман с лианами и фортами со снятыми орудиями курил синее море об синее небо. Бутылка «фетяски» тряслась в ее руках под черною смутью сметанных глаз – волосы запрокидывались, и белый Каспер раскрасил похоронную американскую тачку – там была свадьба, они неслись через весь город. Она черноглазо умирала прямо на виду зеркала, они высадили пассажира и внеслись в голубоглазого второго «волгаря». Вышли и оказались на дискотеке стрекоз, и лежали как мертвые с запрокинутыми головами на руках у покачивающихся маяков. Пассажир пошел в «Другое кино». Сначала баба в черных трусах под колокол юбки танцевала танец с веревкой. Потом дископанки играли в пустом зале. Один из них был одет в малиновое трико и скулил. Музыканты танцевали с манекенами. Еще один катался на велосипеде в пустом ангаре. Все это напоминало плохой польский абсурдный фильм. Пришла девушка с района, которая интересовалась современным искусством, очень удивленная. Она хотела позвать своих друзей. Раньше же здесь было кафе, а теперь – эвона. Таксист тоже очень дивился этому факту. Пассажир вышел и стал рассказывать всем про вилку в жопе, и черная незабудковая махаонка тоже стала рассказывать, как нюхала маки до кровотечения из ушей, как она умирала под наркозом и что-то там видела, страшную черную молнию, которая высасывала ее зрак, как она видела окровавленную палату – что-то видела, непонятно что. Не белых врачей в масках, не дырявые зеркальца на лбу, а что-то безвидное, тот момент, когда что-то отрывается от нее изнутри, нет ничего лучше белого хлопка, который собирают на корточках, нет лучше черноты ее глаз сверкающих, нет лучше точки отчаяния и второго черного, краюшкой вынимаемого из подола солнца. Начался сильный дождь с прояснениями. Все кофейни открылись на улицу и цветочки тканых платьев растеклись по стенам домов и обмазались опахалами, а народные певицы в костюмах офис-герл пели про сладость любви высокими войсами и выхаживали в майках по парку, вынашивая свитерки, от которых пахло нежностью коммуналок, клеточек и солнцами погибели. Улицы закрывали на всю ночь, но уже холодало. Солнышко заплыло, оплыло и вытекло сквозь штаны гувернера, который мазал ботинки говном.
Заря вставала, или были красные сумерки с песком дорожек. Деревья листами укрывали скомканные фиги рук. Она горделиво ходила в кожаном пальто и берете. Оцепенелый лес с засыпавшими глазами. Она говорила по телефону во сне глубоким голосом и о том, что слышно было только ее нутру, оттуда вываливались куски сновидений, логические предложения удавались вполне, они катались в метро и дрочили друг у друга одну станцию, так как больше не было станций. Разноцветные кактусы плыли по ручью руки. Оцепенелый взгляд, и синяя радуга по небу ползла за тенью ее век, красными губами она замирала зимой на зевке, а потом отправлялась на майское шествие, где знакомилась с сантехниками. Ее портрет вставили в окаменелость цементного могильного подиума. На кладбище среди буйных августовских цветов она принесла самый аленький, как ее смелый рот, бешеные кулаки игры с детскими именами для половых органов. Запустила кружку в висок. Она спала в вагонах сидячих, падала в простуду прямо в лесу, когда не было ничего и когда объезжал ее муж за ней на электричках город, что стоял перекрытый, и добирался пять часов до кружного домика, откуда валился пепел и кусали ноги изъедающие комары. Он увидел их целующимися в толпе на пристани в жаркий день, когда ехали с похорон, после коих ее музыкальная карьера инструменталиста рухнула прахом. В тот же цветастый август еще ничего не было решено, они с игручими юбками раздевались с лучшей подругой в комнатах. Она могла петь у «живых цветов», а он колотил ебальником, замерзая, по железным трубам 31-го декабря, потому что его не впускали в подъезд. Он дегустировал сигареты и заработал 50 рублей. Она заснула с инфлюэнцей в холодной луже алтайской реки на берегу, она бредила во сне, она долго терпела, и после оргазма у нее дремуче заваливалась голова и ужимались ноги под зонтичным платьем, она бормотала, пока над палаткой метались тени огня, крики у таза упившихся манагой. Жутчайший переезд в согбенных креслах заболевал ею, тут же следовали ссоры, послания на три хуя. Она мыла сапоги в раковине, выпалывала клубничные острова в красной тенями даче, она морозила его, выглядывающего из-под шляпы с подставным зубом, – Элвиса. Она давала целовать свои тонкие руки, ее привезли в гостиницу, где она всю ночь извивалась, истекая, и выставляла грудки в зеркало, и глядела на вокзал и площадь, всю в огнях, «как мы всегда мечтали». Она вечно нуждалась в деньгах, но верила в мужскую дружбу. Металлическая елочка со свечами крутилась и звенела. Ее хватило на целую жизнь. Капризной шаровкой она была. Так не было никогда в увядших осенних городских цветах, на нищих скамейках, в морозном лесу, в перловом ожерелье, в заводи с муравьями глядели ее немые полусонные глаза, и раздавалась изощренная брань и лузганье чужих костей. От ее квартиры расходились темные дорожки с дружиной фонарей, они вели к столу, где сидели торчки Стакан и Сквозняк. Оттуда летали выкрики: ты олень. Олень на велосипеде, в шортах и в шляпе. Она упала, сопливая и окровавленная со сломанной переносицей, дважды – попав под автомобиль и пьяно свалившись в канаву во второй раз. Ее обида была тем самым темным небом ее немых, нежных и дамокловых глаз.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: