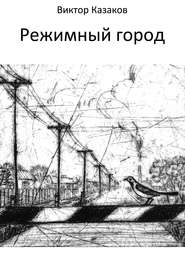По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литерный вагон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Литерный вагон
Виктор Казаков
…Во все годы строительства «лучшего в мире» государства у коммунистической партии СССР была одна тайна, которую, как ни одну другую, власти охраняли, прятали, окутывали враньем и лживыми легендами. Делу служили беспощадные к своим гражданам карательные органы, сонмища чиновников-идеологов, им в помощь трудились поколения деятелей гуманитарных наук и мастера литературы «социалистического реализма». Этой тайной была отечественная история… Герои повести «Литерный вагон» неожиданно получают шанс проникнуть в один из тайников правды; с верой в успех они кидаются в увлекательное для них дело…
Виктор Казаков
Литерный вагон
© Виктор Казаков, 2015-06-04
© Издательство «Книга-Сефер»
* * *
Глава 1. От автора. истоки сюжета
1
Три события в личной жизни, почти не замеченные даже теми людьми, которых мы вправе отнести к ближайшему окружению наших героев, послужили истоком сюжета этой повести. Изложим эти события кратко в хронологическом порядке.
Событие первое. Произошло в апреле 1983 года в городе К., крупном, достаточно удаленном на юг и на запад от Москвы краевом центре.
Ясным весенним утром – ночью над городом прошел теплый дождь, и теперь в небе улыбалось рано вставшее над многоэтажками солнце – профессор К-ского университета доктор исторических наук Иван Петрович Масалов шел в центр города. Шел, как за тридцать с лишним лет привык ходить по университетским коридорам, – степенно и важно, той самой неторопливой походкой, которая появляется в человеке сама собой при достижении человеком достаточно высокого положения в обществе. Правда, в то утро профессор минутами с неудовольствием замечал стихийно возникавшее в нем желание ускорить обычный шаг, но, догадываясь о причине этого желания, он, упрекнув себя за малодушие, принципиально не менял походки.
Приглашение посетить крайком партии, полученное вчера по телефону от «инструктора отдела агитации и пропаганды Макрауцана» (так представился звонивший) смутило и обеспокоило профессора, искренне считавшего, что в столь высокой инстанции, которую ему, между прочим, ни разу до этого не удавалось посетить, он вряд ли кому-нибудь может быть интересен. Масалов был беспартийным, общественной активностью не отличался, в университете читал студентам курс истории древних тюрок… «С какой целью я им понадобился?» – по дороге в крайком спрашивал себя ученый.
«К добру это или во зло?»
Было без пяти минут десять, когда профессор все так же вальяжно и не торопясь преодолел перекресток, слева от которого, бросая огромную тень на большую площадь, возвышалось тяжелое белокаменное здание.
Предъявив милиционеру полученный в специальном окошке пропуск («похож на лотерейный билет», – мелькнуло при этом в голове профессора), Масалов вошел в лифт и, согласно обозначенному в пропуске номеру кабинета, поднялся на одиннадцатый этаж.
Инструктор Макрауцан– узкоплечий, лысоватый, в сером костюме человек – встретил профессора мелкой, судорогой пробежавшей по лицу улыбкой, встал со стула, подал свою и коротко пожал профессорскую руку, после чего предложил Масалову сесть на стул, ибо, как он выразился, у него к профессору «есть недолгий, но серьезный разговор».
Советский человек, вызванный в государственную инстанцию, серьезных разговоров в инстанции, как правило, не любит – в нем постоянно (и не зависимо от поступков, из которых складывалась биография человека) живет перманентное ощущение вины перед государством, и хотя он не задумывается над тем, откуда взялось это ощущение и в чем конкретно может заключаться его вина, он интуитивно опасается, что в «серьезном разговоре» она-то вдруг со всей очевидностью и прояснится.
Масалов осторожно сел на предложенный ему стул и огляделся. В кабинете стояли однотумбовый стол, стул, тумбочка, на тумбочке – телефон, пишущая машинка, графин с водой и стакан; паркетный пол блестел желтым лаком; за спиной инструктора на стене в тяжелой коричневой раме висел большой портрет генсека Андропова.
«Хм… ничего лишнего», – с оттенком необъяснимого (и, наверно, несправедливого) осуждения успел подумать профессор, а Макрауцан в это время открыл толстый, в кожаном переплете блокнот.
– Секретариат краевого комитета партии, – инструктор сделал многозначительную паузу, тем самым подчеркивая важность сообщаемой им информации, – решил рекомендовать к изданию серию сборников документов об истории нашего края. Мы просили бы вас, известного в стране и за рубежом ученого, возглавить работу по составлению этих книг… Вы, мы знаем, не занимаетесь современной историей, но Секретариат остановился именно на вашей кандидатуре…
Масалов тихо и незаметно вздохнул. Камешек, минуту назад давивший на сердце, кажется, стал сползать в менее чувствительные области тела.
А инструктор еще минут пять продолжал держать перед глазами толстый блокнот. Масалов краем уха слушал его речь.
– …Древности – поменьше, советский период – главным образом… Мы установили сроки… И, конечно, политическая направленность… Сейчас, когда в мире обострилась идеологическая борьба… У собранных в книгу документов – немалая сила убеждать и, стало быть, воспитывать…
Масалов, уже проработавший в разных архивах в общей сложности не один год, хорошо знал не только силу документов, которую имел в виду сидевший перед ним чиновник, но и коварство некоторых из них: вдруг обнаруженные, эти некоторые порой взрывали логику, казалось бы, безупречно обоснованной научной гипотезы и заставляли исследователя ломать голову над новой концепцией. Эти неожиданности, конечно, были интересны и даже желательны, когда исследовалась история, например, древних тюрок, но они грозили серьезными неприятностями специалисту по истории советского государства, работавшему в условиях перманентного «обострения идеологической борьбы».
Выслушав Макрауцана, профессор, мобилизовав все свое благоразумие, промолчал об этом обстоятельстве и, корректно улыбнувшись, согласился на предложение, сделанное ему по поручению Секретариата крайкома партии.
Он, конечно, догадывался, почему у крайкома именно в это время появился интерес к архивным документам и с какой целью ему поручили составлять сборники, в которых было бы чего-то поменьше, а чего-то главным образом. Экономика в стране катастрофически быстро и необратимо разваливалась. Население за едой, как в войну, выстраивалось в магазинах в длинные очереди. У людей заметно усилилась (никогда, впрочем, не исчезавшая) страсть к пьянству, а у самых умных при этом возникало еще и желание критически осмыслить «уроки Октября». Страна заметно накренялась в опасную сторону, в воздухе запахло радикальными политическими переменами, и партия всеми подпорками старалась выпрямить наметившийся крен. По команде из Москвы запускался (и не только в К.-ском крае) дополнительный идеологический механизм, в котором Масалову отводилась роль одного из его винтиков и рычажков.
…В небольшом Пушкинском парке, едва затененном молодой зеленью деревьев, Иван Петрович сел на скамейку, чтобы не торопясь обдумать только что произошедшее с ним в крайкоме.
Мысль, обеспокоившая его душу еще в ту минуту, когда инструктор Щелкунов, прощаясь, вяло жал ему руку, продолжала мучить профессора. «Надо было отказаться! Надо было…» Масалов повторял и повторял про себя эту нехитрую фразу, а в это время где-то рядом с ней шевелилась другая, обидная, мысль: «Они наверняка знали, что я не откажусь…»
Утешая воспаляющуюся совесть, Иван Петрович искал хоть какое-то оправдание своему малодушию.
«Ну, кто из моих уважаемых коллег, – через минуту слабо и неубедительно утешал он себя, – отказался бы от предложения крайкома? Академик Федорченко вызовом в крайком был бы польщен, при случае, напомнив начальству о важности полученного задания, попросил бы новую квартиру; профессор Тюленев ответил бы, как и я, лакейской улыбкой; доцент Линковский всегда был небрезглив и до мозга костей циничен… Все, кто на моем месте мог бы сказать сегодня нет, уже давно сгинули, остались только такие, как я…»
Через несколько дней Иван Петрович собрал группу ученых-историков, которым предстояло работать над сборниками по истории края. Дело было рутинным и Масалову неинтересным. По опыту своих коллег, специалистов по новейшей истории, он хорошо знал способы, с помощью которых непорочные документы, в результате нехитрых манипуляций, начинали рассказывать не то, что в них было, а то, что требовалось.
Сборники вскоре стали выходить.
В крайкоме хвалили профессора.
2
Событие второе. Случилось в марте 1987 года в том же городе.
За два дня до этого события Алексей Никитин, ученый, кандидат исторических наук, заместитель директора краевого архива, похоронил отца – на новом к-ском кладбище (старое, к этому времени уже плотно окруженное высокими городскими микрорайонами, давно было закрыто), рядом с умершей пять лет назад Екатериной Мироновной, матерью Алексея. Отец никогда не болел, казался здоровым и умер во сне – еще полный сил, энергии, жизнелюбия и работоспособности. Ему было всего пятьдесят девять лет.
– Вы зря удивляетесь, молодой человек, – три дня назад сказал Алексею врач в морге. – На сердце вашего отца мы насчитали восемь микро-инфарктов.
Девятым, как объяснил тот же врач, был макро-инфаркт…
Проснувшись, как всегда, в шесть утра, Никитин, не оторвав от подушки головы, включил стоявший рядом с постелью светлозеленый торшер. Комната, в которой он знал на стенах каждую трещинку и каждый бугорок, в то утро показалась чужой и холодной.
«Осиротела квартира»…
Шестиэтажный дом из белого камня-ракушечника, в котором жили Никитины, стоял в центре города. Его построили десять лет назад, когда Москва неожиданно «выделила» большие деньги на обновление краевого центра – город к тому времени обветшал настолько, что обычные капитальные ремонты уже не могли скрыть следов его нищенской старости.
Семья учителей-математиков получила тогда двухкомнатную квартиру на третьем этаже дома, а до этого жила тоже в центре города, но в «коммуналке» – ветхом особнячке, который еще до советской власти построил небогатый, но экономный парикмахер. В этом здании, уже покосившемся из-за слабого фундамента, Никитины занимали одну комнату, а в двух других жили две крикливые, уже изрядно потрепанные беспутной жизнью девицы-продавщицы гастронома и плосколицый отставной капитан, бас которого легко заглушал визгливый гвалт, который часто поднимали на общей кухне обе женщины. Соседи по «коммуналке» были людьми скандальными и даже злобными, на их лицах в любой час дня было написано желание плюнуть кому-нибудь в лицо… Возможность не встречаться с девицами и капитаном каждый день на общей кухне и у входа в общий туалет в немалой степени усилила радость Никитиных, когда они после многолетнего ожидания получили, наконец, ордер на квартиру в новом белом доме.
Из этой квартиры Алексей пошел учиться в университет (два года прожил в студенческом общежитии – «для более глубокого изучения жизни», как объяснил он родителям), сюда привел жену Галю, тоже историка, специалиста по античной истории Балкан; здесь наш герой пережил и первый в жизни, казалось, чудом не сбивший его с ног жестокий, ничем не заслуженный удар судьбы: через год после свадьбы в морозный зимний день Галя, не сумев родить, умерла.
После этой смерти молчаливее стал обычно шумный и веселый, даже порой казавшийся легкомысленным Василий Иванович…
«Может, тогда-то и началось в отце необратимое?»…
Алексей открыл верхний ящик тумбочки, взял в руки лежавшую там большую красную папку. Поверх папки на аккуратно приклеенной белой этикетке рукой отца крупно было написано: «Эпизоды жизни Василия Ивановича Никитина, записанные им собственноручно и добровольно по просьбе сына Алексея, цензурой не проверенные, а потому к печати не рекомендованные».
Алексей легко представил себе улыбку отца и сам за все последние дни, кажется, впервые улыбнулся.
История рукописи была такова. Год назад у отца с сыном зашел разговор (время от времени возникавший и до этого) о научных делах Алексея. Никитин-младший тогда только начал собирать материалы для своего нового исследования – о том, как за семьдесят лет изменили советского человека социализм и тоталитарная власть.
– А, по-моему, – сказал в том разговоре любивший по любому поводу поспорить Василий Иванович, – люди вообще не меняются. Прочти письма великих, тех, что жили не только без компьютеров, а и до велосипедов (Пушкина, например), – их волновали те же страсти, что и нас… О Пушкине некорректно? Хорошо, возьми Ветхий Завет…
Виктор Казаков
…Во все годы строительства «лучшего в мире» государства у коммунистической партии СССР была одна тайна, которую, как ни одну другую, власти охраняли, прятали, окутывали враньем и лживыми легендами. Делу служили беспощадные к своим гражданам карательные органы, сонмища чиновников-идеологов, им в помощь трудились поколения деятелей гуманитарных наук и мастера литературы «социалистического реализма». Этой тайной была отечественная история… Герои повести «Литерный вагон» неожиданно получают шанс проникнуть в один из тайников правды; с верой в успех они кидаются в увлекательное для них дело…
Виктор Казаков
Литерный вагон
© Виктор Казаков, 2015-06-04
© Издательство «Книга-Сефер»
* * *
Глава 1. От автора. истоки сюжета
1
Три события в личной жизни, почти не замеченные даже теми людьми, которых мы вправе отнести к ближайшему окружению наших героев, послужили истоком сюжета этой повести. Изложим эти события кратко в хронологическом порядке.
Событие первое. Произошло в апреле 1983 года в городе К., крупном, достаточно удаленном на юг и на запад от Москвы краевом центре.
Ясным весенним утром – ночью над городом прошел теплый дождь, и теперь в небе улыбалось рано вставшее над многоэтажками солнце – профессор К-ского университета доктор исторических наук Иван Петрович Масалов шел в центр города. Шел, как за тридцать с лишним лет привык ходить по университетским коридорам, – степенно и важно, той самой неторопливой походкой, которая появляется в человеке сама собой при достижении человеком достаточно высокого положения в обществе. Правда, в то утро профессор минутами с неудовольствием замечал стихийно возникавшее в нем желание ускорить обычный шаг, но, догадываясь о причине этого желания, он, упрекнув себя за малодушие, принципиально не менял походки.
Приглашение посетить крайком партии, полученное вчера по телефону от «инструктора отдела агитации и пропаганды Макрауцана» (так представился звонивший) смутило и обеспокоило профессора, искренне считавшего, что в столь высокой инстанции, которую ему, между прочим, ни разу до этого не удавалось посетить, он вряд ли кому-нибудь может быть интересен. Масалов был беспартийным, общественной активностью не отличался, в университете читал студентам курс истории древних тюрок… «С какой целью я им понадобился?» – по дороге в крайком спрашивал себя ученый.
«К добру это или во зло?»
Было без пяти минут десять, когда профессор все так же вальяжно и не торопясь преодолел перекресток, слева от которого, бросая огромную тень на большую площадь, возвышалось тяжелое белокаменное здание.
Предъявив милиционеру полученный в специальном окошке пропуск («похож на лотерейный билет», – мелькнуло при этом в голове профессора), Масалов вошел в лифт и, согласно обозначенному в пропуске номеру кабинета, поднялся на одиннадцатый этаж.
Инструктор Макрауцан– узкоплечий, лысоватый, в сером костюме человек – встретил профессора мелкой, судорогой пробежавшей по лицу улыбкой, встал со стула, подал свою и коротко пожал профессорскую руку, после чего предложил Масалову сесть на стул, ибо, как он выразился, у него к профессору «есть недолгий, но серьезный разговор».
Советский человек, вызванный в государственную инстанцию, серьезных разговоров в инстанции, как правило, не любит – в нем постоянно (и не зависимо от поступков, из которых складывалась биография человека) живет перманентное ощущение вины перед государством, и хотя он не задумывается над тем, откуда взялось это ощущение и в чем конкретно может заключаться его вина, он интуитивно опасается, что в «серьезном разговоре» она-то вдруг со всей очевидностью и прояснится.
Масалов осторожно сел на предложенный ему стул и огляделся. В кабинете стояли однотумбовый стол, стул, тумбочка, на тумбочке – телефон, пишущая машинка, графин с водой и стакан; паркетный пол блестел желтым лаком; за спиной инструктора на стене в тяжелой коричневой раме висел большой портрет генсека Андропова.
«Хм… ничего лишнего», – с оттенком необъяснимого (и, наверно, несправедливого) осуждения успел подумать профессор, а Макрауцан в это время открыл толстый, в кожаном переплете блокнот.
– Секретариат краевого комитета партии, – инструктор сделал многозначительную паузу, тем самым подчеркивая важность сообщаемой им информации, – решил рекомендовать к изданию серию сборников документов об истории нашего края. Мы просили бы вас, известного в стране и за рубежом ученого, возглавить работу по составлению этих книг… Вы, мы знаем, не занимаетесь современной историей, но Секретариат остановился именно на вашей кандидатуре…
Масалов тихо и незаметно вздохнул. Камешек, минуту назад давивший на сердце, кажется, стал сползать в менее чувствительные области тела.
А инструктор еще минут пять продолжал держать перед глазами толстый блокнот. Масалов краем уха слушал его речь.
– …Древности – поменьше, советский период – главным образом… Мы установили сроки… И, конечно, политическая направленность… Сейчас, когда в мире обострилась идеологическая борьба… У собранных в книгу документов – немалая сила убеждать и, стало быть, воспитывать…
Масалов, уже проработавший в разных архивах в общей сложности не один год, хорошо знал не только силу документов, которую имел в виду сидевший перед ним чиновник, но и коварство некоторых из них: вдруг обнаруженные, эти некоторые порой взрывали логику, казалось бы, безупречно обоснованной научной гипотезы и заставляли исследователя ломать голову над новой концепцией. Эти неожиданности, конечно, были интересны и даже желательны, когда исследовалась история, например, древних тюрок, но они грозили серьезными неприятностями специалисту по истории советского государства, работавшему в условиях перманентного «обострения идеологической борьбы».
Выслушав Макрауцана, профессор, мобилизовав все свое благоразумие, промолчал об этом обстоятельстве и, корректно улыбнувшись, согласился на предложение, сделанное ему по поручению Секретариата крайкома партии.
Он, конечно, догадывался, почему у крайкома именно в это время появился интерес к архивным документам и с какой целью ему поручили составлять сборники, в которых было бы чего-то поменьше, а чего-то главным образом. Экономика в стране катастрофически быстро и необратимо разваливалась. Население за едой, как в войну, выстраивалось в магазинах в длинные очереди. У людей заметно усилилась (никогда, впрочем, не исчезавшая) страсть к пьянству, а у самых умных при этом возникало еще и желание критически осмыслить «уроки Октября». Страна заметно накренялась в опасную сторону, в воздухе запахло радикальными политическими переменами, и партия всеми подпорками старалась выпрямить наметившийся крен. По команде из Москвы запускался (и не только в К.-ском крае) дополнительный идеологический механизм, в котором Масалову отводилась роль одного из его винтиков и рычажков.
…В небольшом Пушкинском парке, едва затененном молодой зеленью деревьев, Иван Петрович сел на скамейку, чтобы не торопясь обдумать только что произошедшее с ним в крайкоме.
Мысль, обеспокоившая его душу еще в ту минуту, когда инструктор Щелкунов, прощаясь, вяло жал ему руку, продолжала мучить профессора. «Надо было отказаться! Надо было…» Масалов повторял и повторял про себя эту нехитрую фразу, а в это время где-то рядом с ней шевелилась другая, обидная, мысль: «Они наверняка знали, что я не откажусь…»
Утешая воспаляющуюся совесть, Иван Петрович искал хоть какое-то оправдание своему малодушию.
«Ну, кто из моих уважаемых коллег, – через минуту слабо и неубедительно утешал он себя, – отказался бы от предложения крайкома? Академик Федорченко вызовом в крайком был бы польщен, при случае, напомнив начальству о важности полученного задания, попросил бы новую квартиру; профессор Тюленев ответил бы, как и я, лакейской улыбкой; доцент Линковский всегда был небрезглив и до мозга костей циничен… Все, кто на моем месте мог бы сказать сегодня нет, уже давно сгинули, остались только такие, как я…»
Через несколько дней Иван Петрович собрал группу ученых-историков, которым предстояло работать над сборниками по истории края. Дело было рутинным и Масалову неинтересным. По опыту своих коллег, специалистов по новейшей истории, он хорошо знал способы, с помощью которых непорочные документы, в результате нехитрых манипуляций, начинали рассказывать не то, что в них было, а то, что требовалось.
Сборники вскоре стали выходить.
В крайкоме хвалили профессора.
2
Событие второе. Случилось в марте 1987 года в том же городе.
За два дня до этого события Алексей Никитин, ученый, кандидат исторических наук, заместитель директора краевого архива, похоронил отца – на новом к-ском кладбище (старое, к этому времени уже плотно окруженное высокими городскими микрорайонами, давно было закрыто), рядом с умершей пять лет назад Екатериной Мироновной, матерью Алексея. Отец никогда не болел, казался здоровым и умер во сне – еще полный сил, энергии, жизнелюбия и работоспособности. Ему было всего пятьдесят девять лет.
– Вы зря удивляетесь, молодой человек, – три дня назад сказал Алексею врач в морге. – На сердце вашего отца мы насчитали восемь микро-инфарктов.
Девятым, как объяснил тот же врач, был макро-инфаркт…
Проснувшись, как всегда, в шесть утра, Никитин, не оторвав от подушки головы, включил стоявший рядом с постелью светлозеленый торшер. Комната, в которой он знал на стенах каждую трещинку и каждый бугорок, в то утро показалась чужой и холодной.
«Осиротела квартира»…
Шестиэтажный дом из белого камня-ракушечника, в котором жили Никитины, стоял в центре города. Его построили десять лет назад, когда Москва неожиданно «выделила» большие деньги на обновление краевого центра – город к тому времени обветшал настолько, что обычные капитальные ремонты уже не могли скрыть следов его нищенской старости.
Семья учителей-математиков получила тогда двухкомнатную квартиру на третьем этаже дома, а до этого жила тоже в центре города, но в «коммуналке» – ветхом особнячке, который еще до советской власти построил небогатый, но экономный парикмахер. В этом здании, уже покосившемся из-за слабого фундамента, Никитины занимали одну комнату, а в двух других жили две крикливые, уже изрядно потрепанные беспутной жизнью девицы-продавщицы гастронома и плосколицый отставной капитан, бас которого легко заглушал визгливый гвалт, который часто поднимали на общей кухне обе женщины. Соседи по «коммуналке» были людьми скандальными и даже злобными, на их лицах в любой час дня было написано желание плюнуть кому-нибудь в лицо… Возможность не встречаться с девицами и капитаном каждый день на общей кухне и у входа в общий туалет в немалой степени усилила радость Никитиных, когда они после многолетнего ожидания получили, наконец, ордер на квартиру в новом белом доме.
Из этой квартиры Алексей пошел учиться в университет (два года прожил в студенческом общежитии – «для более глубокого изучения жизни», как объяснил он родителям), сюда привел жену Галю, тоже историка, специалиста по античной истории Балкан; здесь наш герой пережил и первый в жизни, казалось, чудом не сбивший его с ног жестокий, ничем не заслуженный удар судьбы: через год после свадьбы в морозный зимний день Галя, не сумев родить, умерла.
После этой смерти молчаливее стал обычно шумный и веселый, даже порой казавшийся легкомысленным Василий Иванович…
«Может, тогда-то и началось в отце необратимое?»…
Алексей открыл верхний ящик тумбочки, взял в руки лежавшую там большую красную папку. Поверх папки на аккуратно приклеенной белой этикетке рукой отца крупно было написано: «Эпизоды жизни Василия Ивановича Никитина, записанные им собственноручно и добровольно по просьбе сына Алексея, цензурой не проверенные, а потому к печати не рекомендованные».
Алексей легко представил себе улыбку отца и сам за все последние дни, кажется, впервые улыбнулся.
История рукописи была такова. Год назад у отца с сыном зашел разговор (время от времени возникавший и до этого) о научных делах Алексея. Никитин-младший тогда только начал собирать материалы для своего нового исследования – о том, как за семьдесят лет изменили советского человека социализм и тоталитарная власть.
– А, по-моему, – сказал в том разговоре любивший по любому поводу поспорить Василий Иванович, – люди вообще не меняются. Прочти письма великих, тех, что жили не только без компьютеров, а и до велосипедов (Пушкина, например), – их волновали те же страсти, что и нас… О Пушкине некорректно? Хорошо, возьми Ветхий Завет…