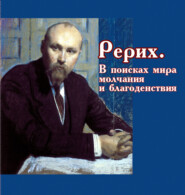По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Каландар (сборник)
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кошмар преследовал Станчика всякий раз, когда перед сном ему случалось услышать в домовой вентиляции диковатую песню ветра или задумчивый посвист сквозняка, как будто вкрадчивая свирель Пана накладывала на привычные звуки магию своих колдовских нот. Недужное сновидение, услышав призывную трель, нетерпеливо топталось в прихожей, заполняя пространство вязкой дремотной тяжестью, налипающей на веки цепким мучительным спудом. И Станчик проваливался в нелепицу сна, оказываясь на самом его дне, разделяя собой мусорные атмосферные потоки, устремлённые в жутковатую западню, заполненную грязным, желтоватым туманом.
Необъяснимое «что-то» мешало Станчику спокойно и беззаботно жить, хотя, казалось бы, все опасения и беспокойства должны были остаться в прошлом. Он владел прекрасным домом, у него была замечательная семья, деньги ему приносили деньги, и вообще: слова «непритязательность» и «простота» – были совсем не про него.
Разве что в молодости Станчик ощущал некоторую нехватку: ему хронически недоставало времени, времени не только для своих научных проектов, но и, как ему казалось, вообще – для жизни.
Теперь для Станчика всё перевернулось: времени для отдыха было так много, что его совсем не оставалось для дела, а наука из тесных лабораторий и испытательных полигонов плавно «перешла» в председательские кресла симпозиумов и конференций. Однако никакого удовлетворения от обилия свободного времени и уважения коллег Станчик не испытывал. Ему казалось, что холодные беспокойные сквозняки неожиданно объявились не только вокруг него, но и внутри, вытягивая из души всё то, что способно было приносить ей радость, будто бы он где-то забыл притворить дверь, за которой клубился жёлтый вездесущий туман или была совершенная пустота, небытие, ничто. А, может быть, распахнутая дверь была лишь его досужей выдумкой, и реальность действительно по всем своим сторонам имела липкую стену тумана, в которой вяз взгляд и о которую спотыкались мысли, теряясь в ней, смешиваясь с песком, серой пылью и тополиным пухом. Мог ли он прежде не замечать такого опасного соседства или же обладал удивительным свойством – проходить сквозь стены? Разумеется, нет, но, скорее всего, для целеустремлённых и обременённых делами людей не существует метафизики, как не существует её для одержимой творческим поиском животворящей природы, которая вечно что-то усовершенствует, выбраковывает и сортирует. Метафизика противостоит созиданию и возникает лишь там, где ей не мешает независимая преобразующая воля, способная не допустить укоренения и разрастания тьмы.
Конечно, иногда ему случалось отвлекаться от своей работы. Эти мгновения Станчик хорошо помнил, и они периодически всплывали в его памяти как светлые переживания, хотя с точки зрения человека, не занятого ничем, в них не было ничего особенного. Стоило Станчику забыться, как в воображении вырастали мокрые дома после майской грозы; ярко-зелёная трава, поднимающаяся над тёмным, подтаявшим снегом; стремительные тучи, плывущие над домами… Эти отчётливые воспоминания перемешивались в памяти как в калейдоскопе, одаривая бодрящей свежестью, тёплым дыханием лета или пряными запахами осенних трав. Иногда перед ним оказывался глинистый холм за институтом, на который он любил взбираться, чтобы лучше ощущать солнце, провозглашающее внимавшему миру свой жизнеутверждающий устав. Станчик помнил, как остро он переживал каждое такое мгновение, как ощущал бойкий и уверенный пульс жизни в любой малой частичке огромного мира, словно был сопричастен ко всему видимому и невидимому, чем так щедро наделила этот мир жизнь. Он переполнялся гордостью от сознания того, что пульс вечной и всепобеждающей жизни бьётся и в его сердце.
Когда судьбе вздумалось перевернуть песочные часы сбывшегося и несбывшегося, Станчик попал в положение рабочего муравья, оказавшегося вне муравейника. То большое и неосознанно важное, предписанное ему как закон, куда-то исчезло, запропало, кануло в невесть откуда взявшееся липкое небытие. Весь ужас этого небытия теперь громоздился перед Станчиком вязкой стеной некогда отложенной жизни, предлагая ему на выбор любую грёзу, застрявшую в жирном расплывшемся теле непроизошедшего. Всё, чего он был лишён прежде, лучилось и явствовало, уже не дразня несбыточностью, а выпячивалось, выступало вперёд, желая оказаться более заметным и привлекательным, нежели тогда, когда Станчик позволял себе об этом только мечтать. Яркие впечатления, трогательные картины душевного уюта и отдохновения тоже пестрели, мерцали и множились, вновь желая обрести плоть, сделаться явью, вернув памятливого созерцателя в то время и в те обстоятельства, когда он был молод и безмятежно счастлив.
Станчик боялся дотрагиваться до липкой стены жёлтого тумана, предполагая, что она сделана из навязчивых грёз и радужных миражей сознания, старательно и надёжно сплетённых в густую клейкую паутину. При всей своей красочности и фееричности, стена представлялась ему явлением весьма опасным и обманчивым, притворно сверкающим фальшивым блеском как дешёвая ёлочная мишура.
Почему паутинная стена казалась ему столь зловещей, Станчик не знал, но что-то подсказывало ему не касаться её и не подходить к ней. Знакомый мотив ветра – прерывистый и шелестящий, шумел у её основания, неся на себе бумажный мусор, дорожную пыль и грязный тополиный пух.
Напротив Станчика, на уровне глаз, бесконечными рядами, сходящимися на горизонте в точку, одна за другой возникали шпалы, последовательно и монотонно являясь между просмолённым щебнем и луговой травой. По соседству, в жёлтой стене, мерцал холодноватыми огнями ночной город. Станчик сразу узнал этот вид с четырнадцатого этажа – он любил смотреть из окна своей лаборатории на пустеющие улицы и засыпающие дома. Его всегда тревожила эта картина, которая казалась ему ещё более волнующей из-за цветных отражений приборных панелей на оконных стёклах и вспышек плазмы на опытных стендах – бесформенных, бледных, чем-то похожих на далёкое северное сияние.
На мгновение он забылся и почувствовал острый запах креозота, которым густо были пропитаны шпалы. Станчик не раз ходил этой забытой железной дорогой до взморья: единожды июльским зноем, когда все опушки и обочины горели фиолетовым пламенем кипрея, и много раз следовал по этому маршруту, прикасаясь к памяти, неизменно обогащаясь новыми впечатлениями и упущенными деталями давнего путешествия.
Он ступал по липким от смолистой испарины шпалам, но не ощущал прежней лёгкости и вовлечённости в праздничный мир, заполненный солнцем и душистым дыханием земли. То ли его смущало молчание птиц, то ли тревожил сквозящий ветерок, тащивший за собой вдоль рельсов невесть откуда взявшийся тополиный пух и бумажный сор.
Что-то выпало, исчезло из его жизни, без чего он просто не мог обходиться, чтобы полноценно чувствовать и существовать. Станчик изумлённо смотрел на чёрную точку на горизонте, в которую обратились убегающие из-под его ног шпалы. И справа, и слева её брали в гигантскую фигурную скобку заполняющиеся городской сутолокой улицы и просыпающиеся дома, которые могли быть хорошо видны только из окон прежней лаборатории, с его высокого четырнадцатого этажа…
Выиграть у судьбы
Разъезжая по свету, Якуб никогда не нарушал установленного в юности чудаковатого правила – начинать приобщение к незнакомому месту со скучного новостроя и заштатных окраин. Поэтому он быстро пересёк привокзальную площадь, тесно обставленную домами средневековой постройки, и направился прочь по одной из нисходящих улиц, быстро и ни на что не отвлекаясь, будто бы знал – куда и зачем шёл.
На первый взгляд городок представился ему обычным провинциальным местечком, но впечатление, что он уже некогда здесь был, не покидало Якуба. По пути он то тут, то там замечал множество знакомых мелочей, бережно сохранённых памятью для того, чтобы теперь необъяснимо-чудесным образом воплотиться в чуждой для них городской среде.
Он шёл по заезженной булыжной мостовой, без конца оборачиваясь на разного рода приметные детали, легко угадывая откуда они родом: из прошлого, из его грёзы, из прочитанной книги или откуда-нибудь ещё.
Внизу улицы дома уже не стояли прижавшись друг к другу как наверху: их разделяли длинные ограды и небольшие дворики с разбитыми там цветниками, да и мостовая потеряла свою укатанность и блеск, в конце концов, остановившись перед маленьким ресторанчиком, перегородившим улицу и образовавшим тем самым своеобразный тупик.
Якуб никогда не пользовался услугами подобных заведений и был готов тотчас развернуться и пойти прочь, но через стеклянную дверь ресторана увидел бармена за стойкой, чьё лицо показалось ему знакомым, хотя память на этот раз смолчала, не выдав его ни намёком, ни тенью догадки.
Сказать, что это был просто человек, которого он запамятовал, Якуб не мог. Якуб был уверен, что никогда его не видел, но тем не менее знал.
Само по себе это было нелепо и странно, но Якубу пришла в голову ещё более дикая и ужасная мысль.
А что если всё его путешествие сюда, куда он так стремился неизвестно почему, имело всего лишь одну- единственную цель – встретиться с этим странным барменом, к которому неожиданно привёл его случайный маршрут. Но только случайный ли?
Возможно, его здесь ожидали с истовой терпеливостью хищного зверя с того самого времени, когда у Якуба впервые появилось необъяснимое желание посетить этот ничем не примечательный городок.
Собравшись с духом, Якуб толкнул стеклянную дверь заведения и очутился лицом к лицу со стоящим за стойкой.
Бармен был смугл и темноволос, его близко посаженные глаза смеялись в лукавом прищуре из-под тяжёлых надбровных дуг, но Якубу отчего-то больше всего не понравилась его тонкая полуулыбка, по которой было невозможно определить ни степени расположения, ни степени неприятия к гостю.
Якуб, кажется, начинал понимать, что в поиске следов таинственного знакомого незнакомца не было смысла перебирать всех, с кем его, так или иначе, сводила судьба. Недаром же вместо человеческих лиц перед его глазами чернел вязкий ил торфяных озёр, уходящий с топких берегов на неведомую глубину; пестрели тлеющие угли прогоревшего костра, то вспыхивающие пурпурным огнём, то осыпающиеся чёрной золой; и лениво качалась потревоженная упавшей каплей бурая сердцевина цветка, отливающая густым, медовым блеском непобедимой природы.
На память приходило и другое. Якуб снова видел как пристально вглядывалось в него усыпанное звёздами небо, когда на верхней палубе океанического лайнера ему привелось встречать кромешную южную ночь. Он прекрасно помнил, как внимательно и долго смотрели они друг на друга – ещё совсем юный Якуб и заросшая красноватой густой тиной лагуна, исчерченная вдоль и поперёк проворными стайками рыб и лёгкими отражениями заревых облаков.
Тысячи раз он мог наблюдать этот изучающий взгляд – в лесу, в поле, в горных ущельях, в тихих заводях рек или в мутной толще подтаявших ледников.
Якуб огляделся. Заведение пустовало, кроме бармена и двух мужчин в самом дальнем углу, в помещении никого не было.
Якуб сел за стойкой, как раз напротив своего визави, считая правильным быть поближе к возможному собеседнику.
Бармен смешал в бокале две золотистые жидкости, отчего содержимое стало нежно-голубым словно медно-солевой раствор. Якуб недоверчиво посмотрел на напиток, но бармен решительно придвинул бокал своему долгожданному посетителю. У Якуба исчезли последние сомнения – зачем и почему он здесь. Где-то далеко, на периферии сознания, вспыхнула и погасла мысль о свободе выбора, о диктате обстоятельств и независимой воле. Но разум почему-то оставил её без внимания, сосредоточившись на тонкой полуулыбке бармена, прочитывая её не иначе как гримасу судьбы, которая ещё не решила как ей поступить – объявить ли несчастливцу очередной проигрыш или всё-таки дать ему возможность уйти «при своих».
Якуб взял бокал за витиеватую ножку, напоминающую цветочный стебель, и увидел, что зелье снова поменяло цвет, сделавшись похожим на желтоватую меловую взвесь или топлёное молоко.
Вкус напитка Якуб не ощутил, зато услышал, как помещение наполнилось звоном цикад и гудением луговых насекомых. Он увидел как побеги ярко- зелёного плюща, на котором нежными ажурными звёздочками вспыхнули сиреневатые цветы, оплели мебель и стены, окна и барную стойку.
Сочные краски лета окружили Якуба со всех сторон, точно искусный художник быстро и ловко успел записать всё пространство прихотливыми цветными мазками, источающими ароматы трав и цветов, от которых исходило тёплое дыхание и первозданная свежесть живой природы. В открывшемся Якубу царстве Флоры не наблюдалось никаких следов человеческого присутствия, что выглядело, собственно, вполне логично, учитывая заполненность буйной растительностью всего обозримого пространства.
Якуб и сам не понимал, отчего он получил такой мощный прилив бодрости духа и жизненной силы. Возможно, это происходило оттого, что он впервые почувствовал себя по-настоящему свободным от общества, от отношений, от своих социальных ролей и обязательств.
Воздух, наполненный пьянящими запахами и испарениями земли, казался густым и вязким будто мёд, но дышалось на удивление легко: Якуб почти не ощущал своего тела, словно стал частью этого яркого зелёного мира и растворился в нём.
Он радовался возможности пребывать здесь, где жизнь представляла собой единственную ценность, где были ни к чему её метафорические эквиваленты или догматические системы, уводящие сознание от естественной радости бытия, где становились лишними все человеческие слова и любые облечённые в них мысли.
«Всё зависит от точки наблюдения и от степени упрощения. – Бармен невесело улыбался и смотрел через Якуба, будто бы искал взглядом что-то такое, что никак не мог заметить его невнимательный собеседник. – Обладай создания Флоры разумом и рефлексией, они, в отличие от тебя, не столь восторженно принимали бы свой мир. В нём та же беспощадная борьба за место под солнцем, то же право сильного и всё тот же неумолимый алгоритм естественного отбора».
Якубу меньше всего хотелось думать теперь о природных началах и принципах организации жизни растений. Его более чем устраивала система координат, в которой он оказывался пассивным наблюдателем безмолвного обитаемого пространства, свободного от накопившихся в последнее время недужных обязательств, неизвестно ради чего взятых, от пристрастности и непонимания окружающих его людей, от пустых разговоров, от бессмысленных и опустошающих душу знакомств… От всего, что было способно отягощать чувства и разум, вдалеке от тесного и крикливого пространства, наполненного сердитыми озабоченными людьми, в котором так непросто жить и так трудно дышать.
Хор цикад становился всё звонче и прибавлялся новыми голосами, которые уже мало напоминали неорганизованное пение насекомых. На трели и посвист невидимого хора накладывалась отчётливо различимая музыка – проникновенная и волнующая, точно прилетевшая к Якубу из детства, когда любые звуки окружавшего его мира соединялись в мелодию, которой заполнялось всё, что нужно было познать и осмыслить.
Где-то почти рядом прозвенел то ли звоночек, то ли колокольчик, и Якуб увидел на фоне значительно отступившей зелени Марека Мигуловича, своего соученика из 2-го «А», драчливого и неугомонного мальчишку, бесцеремонно набивавшегося ему в друзья. Было невозможно забыть, как он пытался прятаться от Мигуловича, как тот был упрям и настойчив в поиске «друга», был напорист настолько, что на какие бы ухищрения и ловкости ни шёл Якуб в стараниях замотать неутомимого следопыта, Марек редко когда не умел разыскать Якуба. Да, ничего не помогало неудачливому беглецу миновать тягостного контакта с бойким, неунывающим приставалой. В конце концов, Якубу пришлось признать очевидное: Марек – действительно, его лучший друг и неизменный спутник.
Вот и теперь Якуб с опаской смотрел на юного Мигуловича и поражался искусству бармена в деле материализации образов его памяти, тем мелочам, что убедительно подчёркивали не только внешнее сходство, но и воссоздавали точный психологический портрет. Чего только стоили такие характерные детали как большое масляное пятно на рукаве форменного пиджачка, отсутствующие пуговицы на рубашке и развязавшиеся шнурки его неизменно грязных ботинок. Особенно бросалось в глаза, что на запястье сорванца темнела большая фиолетовая клякса. Испачканная рука выделывала в воздухе замысловатую спираль, точно пыталась обнаружить Якуба и приятельски похлопать его по плечу, попутно вымазав чернилами крахмальный воротничок товарища.
При этом лицо Мигуловича выражало крайнее недоумение и трогательную сосредоточенность – он, наверное, так выглядел всегда, когда ему не удавалось найти «друга». Зато в такие минуты Якуб, избежавший его общества, напротив, ощущал ни с чем несравнимую лёгкость и полноту чувств. Мир представал перед ним как многоцветная мозаика впечатлений, всякая частичка которой светилась немыслимым совершенством, нисходящим в душу как откровение, как самая заветная и пленительная тайна Создателя.
Мигулович невидящим взором скользнул по Якубу и, то ли не узнав его, то ли не заметив, начал таять, так и не сумев приобнять товарища за плечо, что позволило Якубу сохранить в неприкосновенности свой чистый крахмальный воротничок.
Исчезновение Марека, по-видимому, дало старт сразу двум встречным, конкурирующим между собой, событиям. С одной стороны, помещение заполнялось людьми, располагавшимися за столиками и за барной стойкой, с другой – на них наступала от расползающихся кулис живая лавина вечнозелёного плюща, выбрасывающая из своего тела цепкие хоботки, которые обвивали упругими узелками всё, что попадалось на их пути.
Похоже, победы в этом противостоянии не удавалось достичь ни одной из сторон. Заполнившие помещение люди, состоящие сплошь из знакомых Якубу лиц, не могли подняться со своих мест, хотя очень того желали и даже делали какие-то знаки, чтобы быть замеченными и получить от Якуба толику внимания.
Кого только тут не было: по сути, перед нашим героем развернулась вся его жизнь в лицах – жизнь без лакун и изъятий, со всеми понятными-непонятными связями и случайными-неслучайными людьми.
Бармен изо всех сил пытался кого-то поднять с места, заставить выйти к Якубу, только вопреки всем стараниям у него ничего не получалось. Поняв, что усилия его напрасны, он оставил свои попытки и сам подошёл к Якубу.
Сознание всячески противилось принимать предположение о реальности происходящего, однако неудача с Мигуловичем и вся эта бессильная возня с привлечением в «игру» новых лиц позитивно сказалась на настроении Якуба, обеспечив ему прилив бодрости, оптимизма и счастливого расположения духа.
Что-то активно выступало на стороне Якуба, и это, вероятно, хорошо понимал бармен, осознавая всю сложность воплощения задуманного; было заметно, что это обстоятельство сильно удивляло и расстраивало его.
– Вот этим ты мне всегда не нравился, Якуб. Вечно ты перемешиваешь планы бытия, обходя предопределения и знаки судьбы, точно тебе позволено подменять жребии случая и путать правила большой игры, в которой не ты продумываешь ходы и назначаешь фигуры.