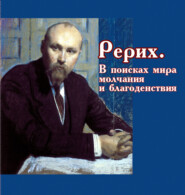По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Каландар (сборник)
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Каландар (сборник)
Виктор Владимирович Меркушев
«Каландар» – повесть о попытке человека понять замысел Творения и найти своё место во Вселенной. А также о вечном стремлении человека к разгадке сокровенных тайн бытия и желании выйти за пределы тех возможностей, которые даровала ему природа.
Герой повествования не только спорит с судьбой и преодолевает её предопределения, но и оказывается свидетелем Проводников времён и событий, фундаментально изменивших общество и окружающий мир.
Виктор Владимирович Меркушев
Каландар
© Меркушев В.В., 2019
© «Знакъ», 2019
Незабудки
Каджисек любил эти удивительные цветы, разбросанные крошечными брызгами бирюзы по изумрудному покрову лета. Невнимательному глазу они могли бы показаться совершенно сорной травой, не держись они вместе, раскрашивая тысячами и тысячами атласных лепестков угрюмую землю в ослепительный цвет неба.
Любая встреча с ними надолго оставалась в памяти Каджисека, словно не было ничего важнее этой внезапной голубизны, распадающейся при ближайшем рассмотрении на нежные звёздчатые соцветия, блестящие, гладкие, с тончайшим перламутровым ободком.
А, может быть, и действительно – не было ничего важнее…
Он вглядывался в их бездонную бирюзу и где-то там, в глубине, встречал влюблённый взгляд знакомых голубых глаз, словно в сияющих округлых лепестках навсегда остановилось время.
«Не забудь меня, не забудь…», – звенело по всей земле смешливое эхо, только Каджисеку ни к чему было такое напутствие: он и так всегда и везде её помнил. Имей Каджисек даже целую сотню жизней – в любой из них всё равно для неё оставалось бы место. Забыть её – означало свести на нет саму жизнь, зачеркнуть не только дозволенное ею малозаметное существование Каджисека, но и приравнять к нулю жизнь как таковую, со всем её многообразием и монументальным величием. Не зря же незабудки воскрешали своей магией отвлечённые от его воспалённой памяти давнишние впечатления: опустевшие аллеи Летнего сада, невскую рябь с запутавшимися в ней отражениями, мосты с тяжёлыми парапетами и мокрые асфальтовые мостовые… Непонятно зачем и почему перед его внутренним взором возникал солнечный луг, над которым жужжали неутомимые шмели, порхали разноцветные бабочки и шелестели стрекозы. В траве переливались драгоценными спинками полевые жуки, и искрились то здесь, то там голубоглазые незабудки – как знак её неизменного присутствия во всём, где утверждалась и торжествовала жизнь.
«Как же так! – сокрушался Каджисек. – Раз жизнь настолько искусно и гармонично устроена, отчего ж он один посреди её лучезарного праздника?» Да, совсем один, если, конечно, не брать в расчёт соседство небесно-голубых цветов, таких чистых и ясных, точно его счастливая память.
Но слова Каджисека тонули в праздничной суматохе безудержного ликования – карнавал жизни не умел слушать и говорить: он не только не был готов внимать доводам рассудка, но и попросту не знал и не понимал слов, уподобляясь царящему здесь счастью.
Карнавальная искристая бирюза мерцала случайными огоньками, заставляя Каджисека забыть о своей нескладной судьбе, о поблекших надеждах и о его собственной малости перед невозмутимым лицом несбывшегося. Он видел только обращённые к нему сонмы дивных голубых цветов, лёгких, как память, и светлых, как счастливый взгляд из прошлого, не способный ни исчезнуть, ни затеряться. Тогда само неумолимое время теряло присущую ему последовательность и необратимость: Каджисек будто поднимался высоко-высоко к небу, на холодноватом глянце которого мог разглядеть диковинные картинки, где он и она куда-то шли, взявшись за руки, по залитому солнцем лугу, густо усыпанному незабудками. И эти картинки не были отмечены ни прошлым, ни будущим; не принадлежали ни к грёзам, ни к воспоминаниям… Они были самым истинным настоящим, разве что без привязки к определённому месту и пребывающими вне времени. А вокруг них летали бабочки и парили стрекозы – жизнь ликовала и множилась от переполнявшего её счастья…
«Вновь я посетил»
В это трудно поверить, но всего в двух рядах от меня сидел тот, кто неотступно занимал мои мысли и чьи бессмертные тексты я давно уже выучил наизусть. Весь стол у него был загромождён его собственными сочинениями и всевозможными книгами о нём, в которых он представал то отшельником, то бретёром, то гулякой праздным, то неутомимым тружеником или философом, то вольнодумцем, то ретроградом, либо ещё неизвестно кем.
Время от времени он отрывался от очередной книги, закидывал назад голову и долго смеялся беззвучным смехом, блистая рядом удивительно белых и ровных зубов. Странно, что ни на одном из портретов и скульптурных изображений я никогда не видел его смеющимся, тогда как в таком ироничном обличье он казался мне гораздо более убедительным, нежели в застывших задумчивых позах, какими любили его наделять наши замечательные мастера.
Очевидно, он читал предисловия к своим изданиям и находил их забавными или даже смешными.
Я с беспокойством изучал стопки книг на его столе, опасаясь обнаружить там что-нибудь узнаваемое, к выпуску которого имел хоть какое-нибудь отношение. Не заметив там ничего крамольного, я облегчённо вздохнул и теперь уже без боязни смотрел на своего кумира, втайне надеясь на его, если не дружеское, то снисходительное расположение.
Меня не удивляло, что он не проявляет ни к кому никакого интереса, зато поражало невнимание окружающих его людей: никто не вглядывался придирчивым взором в его характерный профиль и словно не замечал знакомых всякому нерадивому школяру его непослушных кудрей.
Видимо, лишь я один обнаружил его необъявленное присутствие, и мне стало страшно любопытно, что же он написал в своём библиотечном формуляре – неужто свою подлинную фамилию или всё-таки по привычке ограничился псевдонимом.
Пока я продумывал возможные варианты моего нечаянного знакомства, он вдруг засобирался, посчитав изучение материалов о себе делом законченным.
По моим прикидкам, он не просмотрел даже дюжины от заказанных книг; особенно мне было непонятно, что его могло в них так рассмешить. Какие-то из этих книг мне были хорошо известны, и я не находил в них ничего весёлого.
Не потеряв окончательно надежды пообщаться с поэтом, я направился за ним следом.
Угнаться за моим героем оказалось непростым делом. Он шёл быстро, ловко уклоняясь от нерасторопных прохожих, наверное, петляя по тротуару на манер того зайца, что некогда перебежал ему дорогу в охваченный восстанием Петербург.
Вынужденный повторять все его телодвижения, я заметно подустал; моя надежда, что он всё же воспользуется городским транспортом, тоже не оправдалась, хотя оно, может быть, и к лучшему.
Он шёл будто бы не замечая ни крикливых реклам, ни нелепых строений, вклинившихся между домами, хорошо известными ему с детства, ни одетых совершенно по другой моде встречных горожан.
Мне удалось немного перевести дух лишь на Стрелке Васильевского острова, где он ненадолго притормозил, дабы окинуть взором Невскую панораму, да ещё на углу Эрмитажа, где он задержался, рассматривая какие-то окна на уровне второго или третьего этажа. Затем он двинул через Дворцовую, и я побежал вслед за ним, стараясь держаться чуть поодаль, но так, чтобы не отстать и не потерять его из виду.
Я был сильно удивлён, когда он не пошёл «к себе» через Певческий мост, а завернул по набережной Мойки в направлении дома Адамини.
Внезапно он резко притормозил, остановившись на узкой площадке возле гранитной лестницы, ведущей к пришвартованным лодкам и катерам. Я ловко проскользнул мимо него и спрятался за углом дома с небольшим сквером, откуда мог незаметно наблюдать, не опасаясь быть застигнутым врасплох.
Всё-таки каким же чудом его сюда занесло? Помнится, великий мистик и фантазёр, ставший классиком уже при жизни, предрекал ему возвращение через двести лет. Срок он указал совершенно точно, не уточнив, правда, в каком качестве и каким образом он вернётся в Россию: собственной ли персоной или же воплотится в потомках свободолюбивым гением, так счастливо соединившим в себе духовность и просвещение. Но, видно, он всё-таки решил пожаловать лично, во всём величии и блеске, вместо того чтобы незримо встраиваться в национальный характер, в коллективное бессознательное и русский менталитет.
Подставив лицо балтийскому ветру, пришелец вглядывался вдаль, на Запад, точно наблюдал там что-то такое, что занимало его больше, нежели потоки машин, ползущих по набережным, чем выросшие из тротуаров электрические фонари или плотная паутина из проводов, нависающая над домами и сползающая с крыш к Конюшенному мосту. Может, он видел там окно, которое некогда прорубил воспетый им император, а, может быть, он созерцал там свою «непокорную главу», вознёсшуюся выше упомянутого им «Александрийского столпа», невидимого отсюда из-за громадного зелёного дома, заслонившего всю перспективу Дворцовой.
Я больше не имел желания вступать с ним в диалог. Что мне сказать ему, чем его удивить, чем порадовать и обнадёжить? Я стоял перед ним как бедный Евгений перед Медным истуканом, раздираемый теми же сомнениями и теми же страхами.
И здесь мне показалось, что с шумным порывом ветра слилась его далёкая, приглушённая речь: «Здравствуй, племя младое, незнакомое»… В это самое мгновение я потерял его из вида, поскольку выглянувшее из-за домов солнце ослепило меня, бросив с блистающей высоты золотистую сияющую вспышку. От этого внезапного озарения мне отчего-то захотелось подняться ввысь, выше накрывшей город паутины из проводов и антенн, подняться над горделивым Медным всадником и «Александрийским столпом», чтобы смотреть на город, да что там на город – на весь мир только оттуда, с сиятельной высоты, куда был так пристально устремлён его всевидящий взгляд.
Тем временем поблизости кто-то хрипловато закашлял и волшебное наваждение рассыпалось вдребезги.
Я глянул на залитую солнцем набережную, но там уже никого не было. Выбежав к парапету и посмотрев в сторону Дворцовой, откуда всё-таки видна была часть венчавшей её Александровской колонны, я обнаружил прямо над головой бронзового ангела тающее облако, в котором безошибочно можно было узнать чеканный профиль великого поэта.
Lucky lozer
Габриса, замкнутого и нелюдимого человека, вполне можно было бы считать неудачником, если оценивать его дела, сверяясь исключительно с картотекой кадровой службы, куда педантичные сотрудники вносили любые данные, имеющие официальный или рабочий характер. Других людей, кто был бы в состоянии что-либо сообщить о нём, помимо этих хранителей архивных анкет, нашлось бы немного. Только и они мало чем могли поспособствовать в деле создания более-менее достоверного портрета его личности, в котором был бы виден живой человек во всей его индивидуальной неповторимости. А без этого судить о Габрисе, полагаясь лишь на скупые факты и биографические записи, было бы более чем неразумно, ибо ни в единой графе, ни в одном из архивных журналов не будут упомянуты такие наиважнейшие жизненные ценности как счастье, свобода воли или ощущение полноты бытия.
А как раз с этим у нашего героя всё обстояло весьма благополучно, куда успешнее, нежели у некоторых обладателей безупречных анкет. Счастье притягивалось к Габрису как железо к магниту, бежало по его чувствам как ток по электрическим проводам, собиралось в нём как речная вода в море. Этого не знали и не могли знать окружающие его люди, они безуспешно гонялись за счастьем, не понимая, что счастье вездесуще как воздух, и вовсе не выбирает достойных.
Люди даже не знали, что в отличие от света, счастье не нуждалось в отражающих поверхностях и могло отображаться везде, становясь в отражениях лишь более заметным и ярким. Они ловили эти горящие блёстки, наслаждаясь хрупкими мгновениями недолгой жизни блистающих отражений, а само счастье дерзко плескалось рядом, беспечное и бескрайнее как ясное небо.
Когда Габрис указывал другим на настоящее счастье, ему не верили и смеялись над чудаковатым неудачником, предпочитающим иллюзии реальной жизни.
В чём-то он признавал их простоватую правоту, ведь наш счастливчик обращал внимание только на подлинное счастье, которое не могло ни обмануть, ни исчезнуть, и не брал в расчёт его нечаянные отблески и производные фантомы.
Тем не менее счастье накатывало своей невесомой волной на людские души, оставляя в них лёгкие следы, похожие на вдохновение или пленительную мечту. Человеческий разум не замечал этого ровного прибоя, а чувствам всегда было свойственно ошибаться, блуждая и путаясь в отражениях.
Нашего героя, напротив, отличала сверхчуткость восприятия и чистота рассудка, способного распознать разные грани реальности, даже если для одной из них придумано такое неопределённое и неатрибутированное понятие как счастье.
А впереди Габриса, познавшего праведность счастливого бытия, усложняясь и совершенствуясь, шествовала сама жизнь, чтобы обернувшись иметь возможность наблюдать в нём своё абсолютное воплощение в мире, свободном от ветреных иллюзий и своенравного обмана.
Габрис же, не в пример остальным, шёл не оборачиваясь. Впереди синели манящие горизонты грядущего, но если бы ему всё-таки случилось оглянуться, то он мог бы увидеть юношу, под ногами которого расстилался мягкий травянистый ковёр, а вверху, над его головой, пели птицы, наполняя духмяный воздух песнями извечного счастья, неспособного ни обмануть, ни исчезнуть.
Сквозняк из небытия
Ветер гнал по пустынным улицам мелкую, точно горчичный порошок, глинистую пыль, кружил в воздухе всякие бумажки и пробовал поднимать вверх разнокалиберный сор с неубранных тротуаров. Эта мусорная взвесь неслась над газонами и ноздреватым асфальтом, ломилась в окна и натыкалась на стены, сплошь покрытые, точно ракушечником, коростой из высохшей грязи, песка и тополиного пуха. Впереди, в перспективе улиц, ничего нельзя было разобрать и рассмотреть – взгляд упирался в желтоватый туман, который не обладал выраженной окраской, а имел какое-то иное измерение цвета, подобно «жолтым окнам» Александра Блока. Взгляд там обрывался вместе с мыслью, и Станчик не мог понять – жив ли кто-нибудь в этом городе или нет.
Виктор Владимирович Меркушев
«Каландар» – повесть о попытке человека понять замысел Творения и найти своё место во Вселенной. А также о вечном стремлении человека к разгадке сокровенных тайн бытия и желании выйти за пределы тех возможностей, которые даровала ему природа.
Герой повествования не только спорит с судьбой и преодолевает её предопределения, но и оказывается свидетелем Проводников времён и событий, фундаментально изменивших общество и окружающий мир.
Виктор Владимирович Меркушев
Каландар
© Меркушев В.В., 2019
© «Знакъ», 2019
Незабудки
Каджисек любил эти удивительные цветы, разбросанные крошечными брызгами бирюзы по изумрудному покрову лета. Невнимательному глазу они могли бы показаться совершенно сорной травой, не держись они вместе, раскрашивая тысячами и тысячами атласных лепестков угрюмую землю в ослепительный цвет неба.
Любая встреча с ними надолго оставалась в памяти Каджисека, словно не было ничего важнее этой внезапной голубизны, распадающейся при ближайшем рассмотрении на нежные звёздчатые соцветия, блестящие, гладкие, с тончайшим перламутровым ободком.
А, может быть, и действительно – не было ничего важнее…
Он вглядывался в их бездонную бирюзу и где-то там, в глубине, встречал влюблённый взгляд знакомых голубых глаз, словно в сияющих округлых лепестках навсегда остановилось время.
«Не забудь меня, не забудь…», – звенело по всей земле смешливое эхо, только Каджисеку ни к чему было такое напутствие: он и так всегда и везде её помнил. Имей Каджисек даже целую сотню жизней – в любой из них всё равно для неё оставалось бы место. Забыть её – означало свести на нет саму жизнь, зачеркнуть не только дозволенное ею малозаметное существование Каджисека, но и приравнять к нулю жизнь как таковую, со всем её многообразием и монументальным величием. Не зря же незабудки воскрешали своей магией отвлечённые от его воспалённой памяти давнишние впечатления: опустевшие аллеи Летнего сада, невскую рябь с запутавшимися в ней отражениями, мосты с тяжёлыми парапетами и мокрые асфальтовые мостовые… Непонятно зачем и почему перед его внутренним взором возникал солнечный луг, над которым жужжали неутомимые шмели, порхали разноцветные бабочки и шелестели стрекозы. В траве переливались драгоценными спинками полевые жуки, и искрились то здесь, то там голубоглазые незабудки – как знак её неизменного присутствия во всём, где утверждалась и торжествовала жизнь.
«Как же так! – сокрушался Каджисек. – Раз жизнь настолько искусно и гармонично устроена, отчего ж он один посреди её лучезарного праздника?» Да, совсем один, если, конечно, не брать в расчёт соседство небесно-голубых цветов, таких чистых и ясных, точно его счастливая память.
Но слова Каджисека тонули в праздничной суматохе безудержного ликования – карнавал жизни не умел слушать и говорить: он не только не был готов внимать доводам рассудка, но и попросту не знал и не понимал слов, уподобляясь царящему здесь счастью.
Карнавальная искристая бирюза мерцала случайными огоньками, заставляя Каджисека забыть о своей нескладной судьбе, о поблекших надеждах и о его собственной малости перед невозмутимым лицом несбывшегося. Он видел только обращённые к нему сонмы дивных голубых цветов, лёгких, как память, и светлых, как счастливый взгляд из прошлого, не способный ни исчезнуть, ни затеряться. Тогда само неумолимое время теряло присущую ему последовательность и необратимость: Каджисек будто поднимался высоко-высоко к небу, на холодноватом глянце которого мог разглядеть диковинные картинки, где он и она куда-то шли, взявшись за руки, по залитому солнцем лугу, густо усыпанному незабудками. И эти картинки не были отмечены ни прошлым, ни будущим; не принадлежали ни к грёзам, ни к воспоминаниям… Они были самым истинным настоящим, разве что без привязки к определённому месту и пребывающими вне времени. А вокруг них летали бабочки и парили стрекозы – жизнь ликовала и множилась от переполнявшего её счастья…
«Вновь я посетил»
В это трудно поверить, но всего в двух рядах от меня сидел тот, кто неотступно занимал мои мысли и чьи бессмертные тексты я давно уже выучил наизусть. Весь стол у него был загромождён его собственными сочинениями и всевозможными книгами о нём, в которых он представал то отшельником, то бретёром, то гулякой праздным, то неутомимым тружеником или философом, то вольнодумцем, то ретроградом, либо ещё неизвестно кем.
Время от времени он отрывался от очередной книги, закидывал назад голову и долго смеялся беззвучным смехом, блистая рядом удивительно белых и ровных зубов. Странно, что ни на одном из портретов и скульптурных изображений я никогда не видел его смеющимся, тогда как в таком ироничном обличье он казался мне гораздо более убедительным, нежели в застывших задумчивых позах, какими любили его наделять наши замечательные мастера.
Очевидно, он читал предисловия к своим изданиям и находил их забавными или даже смешными.
Я с беспокойством изучал стопки книг на его столе, опасаясь обнаружить там что-нибудь узнаваемое, к выпуску которого имел хоть какое-нибудь отношение. Не заметив там ничего крамольного, я облегчённо вздохнул и теперь уже без боязни смотрел на своего кумира, втайне надеясь на его, если не дружеское, то снисходительное расположение.
Меня не удивляло, что он не проявляет ни к кому никакого интереса, зато поражало невнимание окружающих его людей: никто не вглядывался придирчивым взором в его характерный профиль и словно не замечал знакомых всякому нерадивому школяру его непослушных кудрей.
Видимо, лишь я один обнаружил его необъявленное присутствие, и мне стало страшно любопытно, что же он написал в своём библиотечном формуляре – неужто свою подлинную фамилию или всё-таки по привычке ограничился псевдонимом.
Пока я продумывал возможные варианты моего нечаянного знакомства, он вдруг засобирался, посчитав изучение материалов о себе делом законченным.
По моим прикидкам, он не просмотрел даже дюжины от заказанных книг; особенно мне было непонятно, что его могло в них так рассмешить. Какие-то из этих книг мне были хорошо известны, и я не находил в них ничего весёлого.
Не потеряв окончательно надежды пообщаться с поэтом, я направился за ним следом.
Угнаться за моим героем оказалось непростым делом. Он шёл быстро, ловко уклоняясь от нерасторопных прохожих, наверное, петляя по тротуару на манер того зайца, что некогда перебежал ему дорогу в охваченный восстанием Петербург.
Вынужденный повторять все его телодвижения, я заметно подустал; моя надежда, что он всё же воспользуется городским транспортом, тоже не оправдалась, хотя оно, может быть, и к лучшему.
Он шёл будто бы не замечая ни крикливых реклам, ни нелепых строений, вклинившихся между домами, хорошо известными ему с детства, ни одетых совершенно по другой моде встречных горожан.
Мне удалось немного перевести дух лишь на Стрелке Васильевского острова, где он ненадолго притормозил, дабы окинуть взором Невскую панораму, да ещё на углу Эрмитажа, где он задержался, рассматривая какие-то окна на уровне второго или третьего этажа. Затем он двинул через Дворцовую, и я побежал вслед за ним, стараясь держаться чуть поодаль, но так, чтобы не отстать и не потерять его из виду.
Я был сильно удивлён, когда он не пошёл «к себе» через Певческий мост, а завернул по набережной Мойки в направлении дома Адамини.
Внезапно он резко притормозил, остановившись на узкой площадке возле гранитной лестницы, ведущей к пришвартованным лодкам и катерам. Я ловко проскользнул мимо него и спрятался за углом дома с небольшим сквером, откуда мог незаметно наблюдать, не опасаясь быть застигнутым врасплох.
Всё-таки каким же чудом его сюда занесло? Помнится, великий мистик и фантазёр, ставший классиком уже при жизни, предрекал ему возвращение через двести лет. Срок он указал совершенно точно, не уточнив, правда, в каком качестве и каким образом он вернётся в Россию: собственной ли персоной или же воплотится в потомках свободолюбивым гением, так счастливо соединившим в себе духовность и просвещение. Но, видно, он всё-таки решил пожаловать лично, во всём величии и блеске, вместо того чтобы незримо встраиваться в национальный характер, в коллективное бессознательное и русский менталитет.
Подставив лицо балтийскому ветру, пришелец вглядывался вдаль, на Запад, точно наблюдал там что-то такое, что занимало его больше, нежели потоки машин, ползущих по набережным, чем выросшие из тротуаров электрические фонари или плотная паутина из проводов, нависающая над домами и сползающая с крыш к Конюшенному мосту. Может, он видел там окно, которое некогда прорубил воспетый им император, а, может быть, он созерцал там свою «непокорную главу», вознёсшуюся выше упомянутого им «Александрийского столпа», невидимого отсюда из-за громадного зелёного дома, заслонившего всю перспективу Дворцовой.
Я больше не имел желания вступать с ним в диалог. Что мне сказать ему, чем его удивить, чем порадовать и обнадёжить? Я стоял перед ним как бедный Евгений перед Медным истуканом, раздираемый теми же сомнениями и теми же страхами.
И здесь мне показалось, что с шумным порывом ветра слилась его далёкая, приглушённая речь: «Здравствуй, племя младое, незнакомое»… В это самое мгновение я потерял его из вида, поскольку выглянувшее из-за домов солнце ослепило меня, бросив с блистающей высоты золотистую сияющую вспышку. От этого внезапного озарения мне отчего-то захотелось подняться ввысь, выше накрывшей город паутины из проводов и антенн, подняться над горделивым Медным всадником и «Александрийским столпом», чтобы смотреть на город, да что там на город – на весь мир только оттуда, с сиятельной высоты, куда был так пристально устремлён его всевидящий взгляд.
Тем временем поблизости кто-то хрипловато закашлял и волшебное наваждение рассыпалось вдребезги.
Я глянул на залитую солнцем набережную, но там уже никого не было. Выбежав к парапету и посмотрев в сторону Дворцовой, откуда всё-таки видна была часть венчавшей её Александровской колонны, я обнаружил прямо над головой бронзового ангела тающее облако, в котором безошибочно можно было узнать чеканный профиль великого поэта.
Lucky lozer
Габриса, замкнутого и нелюдимого человека, вполне можно было бы считать неудачником, если оценивать его дела, сверяясь исключительно с картотекой кадровой службы, куда педантичные сотрудники вносили любые данные, имеющие официальный или рабочий характер. Других людей, кто был бы в состоянии что-либо сообщить о нём, помимо этих хранителей архивных анкет, нашлось бы немного. Только и они мало чем могли поспособствовать в деле создания более-менее достоверного портрета его личности, в котором был бы виден живой человек во всей его индивидуальной неповторимости. А без этого судить о Габрисе, полагаясь лишь на скупые факты и биографические записи, было бы более чем неразумно, ибо ни в единой графе, ни в одном из архивных журналов не будут упомянуты такие наиважнейшие жизненные ценности как счастье, свобода воли или ощущение полноты бытия.
А как раз с этим у нашего героя всё обстояло весьма благополучно, куда успешнее, нежели у некоторых обладателей безупречных анкет. Счастье притягивалось к Габрису как железо к магниту, бежало по его чувствам как ток по электрическим проводам, собиралось в нём как речная вода в море. Этого не знали и не могли знать окружающие его люди, они безуспешно гонялись за счастьем, не понимая, что счастье вездесуще как воздух, и вовсе не выбирает достойных.
Люди даже не знали, что в отличие от света, счастье не нуждалось в отражающих поверхностях и могло отображаться везде, становясь в отражениях лишь более заметным и ярким. Они ловили эти горящие блёстки, наслаждаясь хрупкими мгновениями недолгой жизни блистающих отражений, а само счастье дерзко плескалось рядом, беспечное и бескрайнее как ясное небо.
Когда Габрис указывал другим на настоящее счастье, ему не верили и смеялись над чудаковатым неудачником, предпочитающим иллюзии реальной жизни.
В чём-то он признавал их простоватую правоту, ведь наш счастливчик обращал внимание только на подлинное счастье, которое не могло ни обмануть, ни исчезнуть, и не брал в расчёт его нечаянные отблески и производные фантомы.
Тем не менее счастье накатывало своей невесомой волной на людские души, оставляя в них лёгкие следы, похожие на вдохновение или пленительную мечту. Человеческий разум не замечал этого ровного прибоя, а чувствам всегда было свойственно ошибаться, блуждая и путаясь в отражениях.
Нашего героя, напротив, отличала сверхчуткость восприятия и чистота рассудка, способного распознать разные грани реальности, даже если для одной из них придумано такое неопределённое и неатрибутированное понятие как счастье.
А впереди Габриса, познавшего праведность счастливого бытия, усложняясь и совершенствуясь, шествовала сама жизнь, чтобы обернувшись иметь возможность наблюдать в нём своё абсолютное воплощение в мире, свободном от ветреных иллюзий и своенравного обмана.
Габрис же, не в пример остальным, шёл не оборачиваясь. Впереди синели манящие горизонты грядущего, но если бы ему всё-таки случилось оглянуться, то он мог бы увидеть юношу, под ногами которого расстилался мягкий травянистый ковёр, а вверху, над его головой, пели птицы, наполняя духмяный воздух песнями извечного счастья, неспособного ни обмануть, ни исчезнуть.
Сквозняк из небытия
Ветер гнал по пустынным улицам мелкую, точно горчичный порошок, глинистую пыль, кружил в воздухе всякие бумажки и пробовал поднимать вверх разнокалиберный сор с неубранных тротуаров. Эта мусорная взвесь неслась над газонами и ноздреватым асфальтом, ломилась в окна и натыкалась на стены, сплошь покрытые, точно ракушечником, коростой из высохшей грязи, песка и тополиного пуха. Впереди, в перспективе улиц, ничего нельзя было разобрать и рассмотреть – взгляд упирался в желтоватый туман, который не обладал выраженной окраской, а имел какое-то иное измерение цвета, подобно «жолтым окнам» Александра Блока. Взгляд там обрывался вместе с мыслью, и Станчик не мог понять – жив ли кто-нибудь в этом городе или нет.