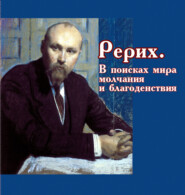По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Каландар (сборник)
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Надо сказать, что Якуб не только не подозревал о наличии приписываемых ему талантов, но и нередко страдал от козней той игры, о которой так откровенно рассуждал бармен.
Впрочем, он прекрасно осознавал, что никакой это не бармен, а самый настоящий крупье за зелёным сукном судьбы. И что его, Якуба, прямо обвиняют в каком-то жульничестве, которое по неизвестным пока причинам оказывается сложно пресечь и благодаря которому ставится под сомнение предсказуемый проигрыш всех, кто вольно или невольно попал под зловещую власть крупье.
– Мне представлялось, что жульничает как раз тот, кто ведёт игру и уже наметил – кому проиграть сейчас, а кому такая участь уготована завтра, резонно заметил Якуб.
Крупье, похоже, было не впервой слышать обвинение в нечестной игре.
– Разве во мне дело, – удивился крупье, – я лишь часть игры, не я её вовсе придумал. Но ты… ты меня огорчаешь.
Крупье осёкся на последнем слове и замолчал.
Сначала молчание заполнило пространство между ним и Якубом; затем перекинулось на весь объём помещения с тесно рассаженными людьми, смирив нетерпеливых и заставив угомониться пытающихся говорить. И только потом начало разливаться по сознанию Якуба, остановившись у условного рубежа, за которым уже не существовало ни внутренней речи, ни ясных образов, имеющих отношение к внешнему миру. Дальше мог продвинуться только сам Якуб – дерзкими мыслями, интуитивным посылом, даром воображения… Никакой сторонней силе не дано было преодолеть этот рубеж: там Якуб мог укрыться не только от Мигуловича, но и от всего мира в целом, не опасаясь как за сокрытые здесь сокровенные мечты, так и за все впечатления, которые завязала узелками на память сама его забывчивая жизнь.
Молчание крупье было похоже на растекающийся вечнозелёный плющ: оно цеплялось за мысли Якуба, за его внутренние фразы и было таким же понятным и упругим, как цепкие хоботки сонма ползучих растений.
«Я князь мира сего… Но нет в том даже намёка на самовластие, как нет у меня ни малейшей тени величия. Я призван следить за соблюдением ниспосланных правил и призывать к ответу отступников, имеющих дерзость по-своему трактовать охраняемые мной законы и предписания. Тех же, кто не понимает, что творит кощунство и беззаконие, я вынужден возвращать в рамки предначертанного им бытия, ибо нельзя уклоняться от мира, стремиться его переделать или придумывать свой – реальный или воображаемый. Непозволительно бытовать никакому миру, кроме ниспосланного, и я – князь мира сего. Человек создан для мира, но не мир – для человека…»
Якуб нисколько не удивился этому безмолвному монологу. Более того, он ждал его, словно заранее знал, как будет объяснять внимание к нему «князь мира сего». В одном только до сегодняшнего дня сомневался Якуб: существует ли сам этот «князь», хотя, по логике вещей, он был просто необходим для поддержания системы в том виде, в каком она была задумана её создателем.
Даже если бы Якуб смог догадываться о недопустимости или какой-то крамоле своего поведения, он всё равно бы продолжал выстраивать параллельный мир, где ничего не значили краплёные карты «князя» и где «князь» не имел бы никакой силы. А кто властвовал в этом параллельном мире и властвовал ли вообще, Якуб не знал, но там точно были неведомы азарт и беспокойство, а вместо зелёного сукна судьбы, зеленел заповедный лес, на который не распространялся безжалостный алгоритм естественного отбора, и всем доставало места и щедрого солнца.
Созданная Якубом параллельная вселенная имела довольно-таки странную геометрию: она была совершенно невидима и целиком помещалась в его душе, хотя запросто могла вместить в себя всё сущее, со всеми его океанами и материками. Разве что оказываясь в ней, никто больше не откликался на прежние имена, не помнил о былой сущности и представления не имел о зловещем крупье, склонившимся над зелёным сукном судьбы.
В чём-то Якуб понимал раздосадованного крупье: если он будет не в состоянии усадить «игроков» за свой судьбоносный стол, он не сможет знать будущего, без чего его существование станет бессмысленным и бесполезным. Тем более, ещё неизвестно, чем грозит такое незнание для «мира сего» в целом.
С другой стороны, когда Якуб рассматривал завязанные жизнью на память узелки впечатлений, он не мог не восхищаться их красотою и безупречностью. Все события, наблюдения и все картины реального мира, за которыми так внимательно наблюдал крупье, освобождаясь от его власти, преображались. Они больше не были привязаны ни ко времени, ни к обстоятельствам, ни к причинам их породившим. Совершенные и независимые, они завораживали своими яркими красками и устраняли тяжесть земли, побуждая Якуба воспринимать своё прошлое как исключительную ценность, наполняя его жизнь одному ему понятным смыслом.
Ещё раньше, нежели Якуб направился к выходу и приоткрыл стеклянную дверь заведения, он перешагнул условный рубеж внутри самого себя, за которым был бессилен не только «князь», но и стоящая за ним судьба, провозглашающая свой единственный и обязательный вариант будущего.
В это самое время у Якуба, может, случайно, а, может быть, и нет, развязался один из узелков памяти, появившийся тогда, когда он некогда шёл по узкой тропинке через снежную целину, а вокруг алмазными искрами сияли звёзды и огни далёкого заполярного города. Якубу тогда казалось, что с каждым шагом они становились всё ближе и ближе, пока, в конце концов, не превратились в лучезарный поток, в свете которого он мог наблюдать идеальные контуры мира, начертанные по его, Якуба, законам, точно он сам был создателем этой обновлённой вселенной.
Вот и теперь в его душе зажёгся тот лучезарный свет – спокойный, яркий, заполняющий собой всё тело и делающий его почти невесомым.
Тем временем в городе вечерняя заря уже сменилась непроглядным сумраком ночи, и звёзды не только украсили фиолетовый купол неба, но и мягко легли на крыши, смешавшись вдали со свечением окон и высоких габаритных огней.
Неизвестно как и почему, но Якуб вновь оказался на той заветной тропинке, ведущей через дикую снежную целину, и поднимался по ней всё выше и выше – над придуманными домами и воображаемыми людьми из несуществующего заведения крупье.
Он даже не сразу заметил, что тропинка уже пролегала не по упругому утоптанному насту, а петляла по усыпанным звёздами бескрайним полям мироздания. Увлекая Якуба всё дальше и дальше, она разветвлялась на множество путей, каждый из которых был лишь слегка намечен в надежде на то, что Якуб сможет продолжить его, согласуясь с провозглашёнными некогда законами обновлённой вселенной. Вселенной – единственно реальной и обитаемой из всех замысленных и воплощённых миров.
Последний корабль в Лиссе
Корабль слегка покачивался на лазурной волне, мешая кружащимся над ним птицам удобно рассаживаться на почерневших от времени мачтах с подобранными парусами. Канаты цепко удерживали на приколе его подвижное тело, протянувшись от кнехтов пристани к покатым деревянным бокам старого парусника.
Ноги почти не чувствовали палубы, она мягко выскальзывала, не позволяя ступне в полной мере ощутить её гладкую, тёплую поверхность, будто бы всё это удивительное существо, унизанное леерами, трапами и переборками, не допускало к себе посторонних, не имевших с ним общей судьбы и общей памяти.
А вспомнить последнему кораблю в Лиссе было о чём. О его интересной жизни и теперешнем забвении красноречиво говорила помутневшая корабельная склянка, тронутые бурой ржавчиной поднятые якоря, старинный компас возле капитанской рубки и штурвал из красного дерева с отполированными до блеска десятью рукоятями.
В известном смысле судьба определила этому кораблю участь «летучего голландца», разве что никогда не случится суеверным морякам видеть его далёкий профиль на горизонте или с волнением наблюдать на вершинах неколебимых мачт огни «святого Эльма», проклиная зловещий призрак и отсылая его ко всем четырём стихиям и морскому богу.
Так предписано, что любые корабли, в конце концов, уходят в небытие, оставляя без белоснежных парусов и разноцветных флагов как беспокойные моря, так и приморские города. Со временем города побережья забывают красивые имена своих кораблей, не понимая, что потеряв их, утрачивают не только какую-то частичку своей памяти, но и самих себя. И может статься, что в будущем никто не сможет вспомнить, чем же был замечателен небольшой городок у моря с названием, похожим то ли на шум ветра в поднятых парусах, то ли на звук воды, стекающей с палубы… И ни одному из потомков Гнора, Чаттера или Гарвея ничего не скажет горделивое имя Лисс, придуманное великим романтиком по счастливой подсказке утреннего прибоя…
Высокая параллель
Какие бы кульбиты и развороты ни выделывала судьба, она никогда не забрасывала его выше шестидесятой параллели. Поэтому Габирэль даже не знал, каким образом воспринимать своё теперешнее положение: как её подарок или же её немилость.
Хотя в глубине души Габирэль был уверен в её благосклонности и надеялся, что обживаемые им высокие широты, отныне станут той «terra incognita», которая позволит ему быть причастным к безмолвному и таинственному царству арктических морей, гор и пустынь.
Впрочем, места, куда волею судьбы он был определён, не отличались особенным безмолвием и таинственностью. Воздух здесь был наполнен криками птиц и шумом ветров; земля звенела голосами ручьёв и вековых льдов, повсеместно заявлявших о себе из тенистых каньонов и расселин гулкой бесконечной капелью.
Море вообще напоминало гудящий на всех регистрах огромный орган. Габирэль не мог до конца быть уверен, что все его звуки – это лишь гордая песня холодной морской воды. Ему чудилось, что незримый оркестр со всех сторон добавляет звучаний, усиливая дивное пение моря величием и силой всей северной природы, ибо здесь ничего не выступало поодиночке и не могло отдельно существовать. Поэтому, скорее всего, и ему придётся влиться в этот заповедный, непонятный мир и на какое-то время стать его частью, всецело подчинившись неумолимым законам приполярных областей.
Габирэль быстро понял, что у земли, законы которой ему теперь предстоит неукоснительно соблюдать, есть свои представления о времени и свой специальный масштаб. Что здесь километры, часы и секунды не имеют никакого значения и сравнительно небольшой остров вполне сопоставим с огромным материком, существующим одновременно во всех геологических эпохах, начиная с Архея.
С юга остров высился отвесными скалами, точно отделял себя от освоенных территорий неодолимой границей; с севера же, напротив, входил остроконечным пляжем в безбрежный ледовитый океан, признавая его власть и провозглашая свой особый статут среди бесчисленных островов и земель иных континентов, где хозяином и носителем власти был человек.
Габирэль не зря надеялся оказаться в роли посвящённого, природа здесь совсем не ощущала стороннего человеческого присутствия и вершила свою магию прямо на глазах у случайных свидетелей её вселенского торжества: поднимала тяжёлую толщу воды, обрушиваясь мощным приливом на гранитные сели; зажигала на скалах диковинные цветы; закручивала воздушные потоки, превращая водопады в величественные фонтаны; и, самое главное, формировала из диких стихий атмосферные фронты, посылая их циклонами к далёким материкам.
Габирэль мог наблюдать эти стихии лицом к лицу. Они разворачивались всей своей мощью прямо над каменистым рельефом острова, который сам по себе воплощал застывшую во времени стихию, поскольку именно так выглядела наша Земля многие сотни миллионов лет назад, когда первые растения выходили из океанов на сушу, приживаясь на камнях и скалах цветными лишайниками и зеленоватыми мхами. Вверху, прямо над головой, нависала монументальная картина неба, и ничто не препятствовало его обзору – ни деревья, ни дома, которых здесь или не было, или же они так низко прижимались к земле, что не мешали играм света и цвета на огромном небесном полотне.
Габирэль прибыл сюда, когда в природе торжествовал полярный день, и солнце, едва касаясь горизонта, неутомимо ходило по кругу, щедро засыпая лучами новообретённый мир. Это было похоже на светопреставление, поскольку даже тени состояли из причуд бликов и отражений, отчего объёмы переставали быть таковыми, выбеливались и уплощались, лишаясь тем самым своей трёхмерной структуры, а вместе с ней и отдельного, независимого существования.
Такая особенность не могла быть не подмечена Габирэлем; он допускал, что подобное могло происходить и с ним, как, впрочем, и со всяким, кому случилось оказаться под этим огромным небом, на этом небольшом клочке суши, со всех сторон окружённом холодными водами арктических морей. По крайней мере, многое, что было свойственно обычному человеческому поведению, Габирэль здесь попросту не замечал: ни лжи, ни притворства, ни желания выделиться – точно всё это полагалось несовместимым с суровым северным уставом и вызывало в людях всеобщее неодобрение и брезгливость.
Но то, что другим помогало легче сходиться и сплачиваться в единый дружеский коллектив, на Габирэле сказывалось весьма парадоксальным образом – он стремился стать не столько частью немногочисленного круга себе подобных, сколько быть причастным своенравному новому миру, к которому были теперь обращены все его мысли. Он искренне желал обрести в нём если не друга, то, по крайней мере, великодушного властелина. Но кем бы ни был Габирэль на самом деле в новом для себя мире, так легко и свободно ему не дышалось нигде. Возможно, такое происходило всё по той же причине: северная природа не допускала притворства, позволяя каждому быть исключительно тем, кем он являлся на самом деле. И Габирэль мог наслаждаться подлинностью своего бытия, освобождённого от условностей и нелепого диктата обстоятельств, оставшихся где-то там, далеко, за шестидесятой параллелью его прежней жизни.
Пожалуй, только благодаря новому укладу Габирэль впервые задумался о сути и значимости своего существования и о своих взаимоотношениях с миром. Он с удивлением обнаружил, что немалое из того, что дотоле казалось ему важным и необходимым, без всякой потери можно было причислить к множеству мнимых и бесполезных вещей. Ценности славы, богатства, признания и даже любви представлялись ему весьма сомнительными, душа никак не отвечала на их призывы, зато она бурно волновалась вместе с пенным дрожащим кружевом, наброшенным на океан, и темнела от тяжёлых туч, суровой материей закрывающих лучезарное полярное небо.
С прежней жизнью Габирэля также случилась занятная метаморфоза: она мутно просвечивала из какой-то невнятной глубины, словно от настоящего её отделяла толстая полупрозрачная стена и лишь отдельные ощущения оставались нетронутыми, напоминая о годах, проведённых далеко отсюда. Запахи старого жилья, парковая скамейка, заляпанная грязными подошвами, вечная сутолока и беспокойство, от которого невозможно ни спрятаться, ни отвлечься – всё это перемешивалось в сознании Габирэля и создавало стойкое представление о жизни как таковой, без недомолвок и допущений. Север же заставил воспринимать жизнь иначе, и Габирэлю казалось, что только здесь, на острове, и началась его подлинная жизнь, такая, каковой ей предполагалось быть изначально, когда человек только лишь вступал на полную надежд и неопределённостей тропу истории.
Суровая правда Севера не позволяла вносить никаких поправок в предписанное человеку содержание бытия; даже само время не могло вмешиваться в этот устоявшийся уклад, вращаясь по кругу, словно полярное солнце, с кануна сотворения всего сущего к эпохе его заката, но не сворачиваясь по своим вселенским измерениям, а переходя на новый, неколебимый виток.
Неизвестно почему, но Габирэль верил, что в том, изначальном своде бытия, человеку предписывалось быть счастливым и что утраченный рай – это не выдумка, не рефлексия на безысходную неустроенность и бессмыслицу происходящего, а далёкое прошлое, детство человечества, когда над ним, как над этим полярным островом, сияло прозрачное негаснущее небо, и на скалах вспыхивали яркие, диковинные цветы.
Если прежде Габирэль плохо себе представлял, как может выглядеть счастье, то теперь он доподлинно знал, каким оно может предстать перед каждым из его шести чувств. Впрочем, он отдавал себе отчёт, что слово «знал» не вполне подходит для того состояния сознания, которое теперь вмещало помимо тесных квартир и высоких этажей, маяты дорог, духоты и сутолоки городов, это огромное пронзительное небо, переходящее в глубокую синь океана, и тяжёлое гранитное тело земли посреди холодных ветров и беспокойных морей.
Судьба возвратила Габирэля к самому себе, ниспослав ему изначальный эдикт бытия, предписывающий человеку сопричастность к суровой земле и высокому небу, возвращающий его к своей утраченной непреложной сути – обыкновенному счастью.
Фата-моргана
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум…
А. Пушкин
Взгляни: перед тобой играючи идёт
Толпа дорогою привычной…
М. Лермонтов